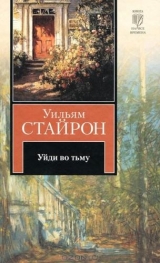
Текст книги "Уйди во тьму"
Автор книги: Уильям Стайрон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
И однако сейчас что-то во мне более сильное, чем прежде, потянулось к часам: мы лежали с Гарри на надежных пружинах, подчиняясь точно движущимся колесикам, – так засыпаешь, чтобы существовать в некой стране, где мы снова оказывались молодыми, и нам снились луга или что-то другое, приятное, что появляется на краю сна: собаки, лаявшие однажды в сентябрьских лесах, утки, летящие по небу, и то, как он меня подхватил и понес – о Боже! – когда я была для него Духом Света!
– А теперь, пожалуйста, поступи так, как я тебе говорил, – сказал Ленни, глядя на меня. – Пойди к Лоре и скажи, чтобы она тебя покормила. У тебя голодный вид. Потом отправляйся домой. Я позже поговорю с Гарри. Возможно…
Я сказала:
– Нет, я не могу ждать. Пожалуйста, скажи мне, где он. Он вернется вместе со мной. И часы.
– Что? – сказал он.
Я промолчала.
– Что такое с часами? Почему ты их таскаешь с собой?
– Нипочему. Я только купила их.
– О, – произнес он. – Так что теперь ты…
Я встала.
– Нет, Ленни, – сказала я. – Пожалуйста, послушай меня. Ты должен сказать мне, где он.
– Нет.
– Ты должен, просто должен. Если ты не скажешь…
Он положил руки мне на плечи.
– Ш-ш, лапочка, успокойся. Если я не скажу, то что?
Я отвернулась.
– Я не знаю, – сказала я. – Я…
– Что?
– Я не знаю… убью себя.
Он схватил меня за локоть.
– Послушай, крошка. По-моему, ты в плохом состоянии. Послушай, моя машина рядом, я позвоню Страссмену, и мы возьмем Гарри и поедем в Ньюарк…
– Нет, – сказала я, – он сумасшедший. Страссмен. Он простужен.
– Что? – сказал Ленни.
– Ничего, – сказала я, – я хочу сказать… я хочу сказать: просто скажи мне, где Гарри. – Я повернулась и ухватила его за рукава. – Ты должен, Ленни. Ты должен…
Ленни обнял меня за талию и повел к выходу в коридор. Мимо людей, сидевших на четвереньках, похожих на камни, сквозь подводный, утопающий свет; блюз «Ванг-Ванг» отзвучал, и молодые люди крутили глазами-агатами в кольцах дыма. Значит, теперь в коридор.
– Ладно, – сказал он, – но если он не захочет тебя видеть, обещай, что придешь сюда или будешь с Лорой. Необходимо, чтобы кто-то заботился о тебе.
– Спасибо, Ленни, – сказала я, – ох, спасибо. Пожалуйста, извини меня, Ленни. Ты считаешь, что я плохая?
– Нет, – сказал он, – нет, лапочка. Просто надо, чтобы тебя наставили на путь истинный. Почему ты…
– Почему я что? – поспешила спросить я.
– Ничего, – сказал он.
– Почему я что? – повторила я.
– Почему ты так себя ведешь? Почему тебе надо было сбежать с этим Тони? Вот что доконало Гарри. И меня бы тоже. Почему? Почему? – Голос у него был мягкий, а я, хоть и старалась, ну как я могла говорить с Ленни, когда позади нас, в вестибюле, при его словах безобидно зашагали с важным видом мои бедные, презираемые бескрылые птицы со своими пятнистыми нелетящими крыльями, прошлись по лакированным кресла эпохи Регентства – а вокруг медь, безупречно чистые зеркала; ну как мне все это объяснить? Или когда я вспомнила: «Гарри не любит меня, тогда почему он так кричал на меня за неоплаченные чеки, и за грязь под кроватью, и за то, что я лежала в Дарьене с Эрлом Сандерсом, моей дохлой местью…» Все это действительно было бы трудно объяснить: что я не могла мириться с тем, что Гарри так орал на меня, поэтому я должна была с кем-то переспать, погибая от ненавистного, слыша эхо в ночи: «Что ты хочешь этим сказать, будто я не люблю тебя, Пейтон? Я люблю тебя больше, чем ты способна понять. Просто я не твой отец. Я не могу мириться с такими вещами». Вот оно: эхо моей вины и темнота, порожденная крыльями, – ну как мне объяснить это ему?
– Я не знаю почему, – сказала я. – Я не знаю.
– Не плачь, – сказал Ленни, вынул большой красный платок и вытер мне слезы. – Не плачь, лапочка. Теперь послушай. Гарри пишет картины. Маршалл Фримен дал ему свою студию на сегодняшний день. Гарри – там. Это за углом с Университетской площади. Подожди, я сейчас напишу адрес. – И достав бумажник и кусок бумаги, он стал писать адрес. – Вот, – сказал Ленни. – Теперь обещай мне. Если он не захочет тебя видеть, ты вернешься сюда, или позвонишь мне, или пойдешь к Лоре. Я не могу гарантировать…
– О-о, все в порядке, – сказала я. – Он встретится со мной. Мой Гарри – он мягкий и нежный.
– Запела по-новому, да? – сказал Ленни.
– Да, – сказала я. – Благодарю, Ленни.
Он закрыл за мной дверь – я снова начала потеть, стоя в жарком, безветренном дне. Я пошла на восток. Дома на другой стороне узкой улицы были окутаны тенью – даже на верхних этажах не было света. А на реке – так тихо; точно гудки машин, завыли гудки пароходов: я подумала, что сейчас, должно быть, прилив, они пробираются к морю. Дома тоже бывают приливы, и между дамбой и водой остается не больше двух футов песка, по которому мы осторожно прогуливаемся, подбрасывая ногами плавуны и ракушки; Элла Суон, приходившая в августовскую жару днем стирать, смотрела, подняв руку, чтобы защитить глаза от солнца, на уходившие в море корабли; так однажды Элла, Моди и я медленно шли по траве, слушая, как гудят пчелы в розовом кусте, вдыхая запах моря. Так было однажды. Только я не могу вспомнить, а просто знаю, что рядом росли мимозы, и это было в другое время. Она таким образом заговорила об этом: «Когда ты дала ей упасть, когда ты дала ей упасть». И мимозы, щупающие в жару воздух, протянув бледные веточки, словно водянистые руки: – «Когда ты дала ей упасть». И Страссмен сказал: «Птицы?» И я сказала: «Тогда не было птиц», – поскольку птицы были в другой раз, когда я была виновата в другом, когда я спала со всеми недружелюбными мужчинами. «Птиц не было», – сказала я. «А что было?» – спросил он. Вот этого я не могла припомнить, не могла рассказать Страссмену об этом отчаянии, таившемся в запахе мимоз и моря где-то вне моего понимания. «Ты дала ей упасть». Но это было не так. «Возможно, ты и не дала ей упасть, но все равно ты опасно рассеянна». А потом он начал со мной играть, этот мерзавец психоаналитик. Я сказала, что вся надежда не на память, а на хитрое темное чрево, и он сказал: «Я это и имею в виду – вашу абстрагированность», – но неужели он и это не понимал? Почему, думая о ней, я всегда думала о блаженной Беатриче? Вот что мне хотелось бы понять, доктор Ирвинг Страссмен, и, пожалуйста, уберите этот глупый «клинекс» от своего носа; может, это потому, что однажды, когда нас несло, словно лепестки, по годам нашей невинности, он сказал, что у меня две героини: одна – прекраснее вечернего воздуха, одетая красотою тысячи звезд, другая – благословенная Беатриче. О, Вечный Свет, всепонимающий, струящийся на тебя саму. Что-то в этом роде. Но путано. А когда он сказал: «Святая Елена, дай мне бессмертие поцелуем». Тогда я заплакала. А Страссмен сказал: «Но тут нет никакой связи». Как могла я рассказать ему про мимозы, про свет, падающий из дома, и про пчел, решительно летящих по пропитанному солью воздуху? «Ты дала ей упасть», – сказала Элен. Тогда я пошла одна вниз, к дамбе; потом пришел зайка и взял меня за руку – мы смотрели, как на залив опускается тьма, и я думала о бабушке с табаком за губой. Schlage doch, gewünschte Stunde.
– Тебе плохо, дорогая?
Я прижалась головой к калитке, а тут вышла пожилая женщина с собачкой на поводке и постучала мне по плечу. Я молчала.
– Могу я помочь тебе, дорогуша?
Я подняла на нее глаза. У нее было широкое веселое лицо и голубые глаза.
– Тебе плохо? – спросила она.
– Да, – сказала я, – голова болит.
– Бедная дорогуша, – сказала она, – подержи Бастера, и я принесу тебе аспергум.
Я взяла поводок, держа его вместе с сумкой.
– Это как жвачка, но там есть аспирин. А теперь положи его в рот. Почему ты не пойдешь домой и не ляжешь?
Я положила жвачку в рот и стала жевать, чувствуя вкус мяты.
– Я пойду, – сказала я. – Спасибо большое.
– Не за что, – сказала она, – просто поезжай домой и отдохни. Я тебя сейчас выведу из калитки.
Собачка обнюхала мои пятки, я вышла на улицу.
– А теперь делай то, что я сказала, – сказала она, улыбаясь из-за калитки.
– Хорошо. Спасибо вам. До свидания.
Я выплюнула жвачку в канаву – на решетке висел обрывок газетенки: «ЖЕНА РАНИТ ЛЮБОВНИКА, СМОТРИТ, КАК ОН УМИРАЕТ», – порыв ветерка подхватил его и понес. Я перешла через улицу на зеленый свет – ветер трепал мою юбку, но это был горячий бриз, наполненный каким-то удушающим паром и запахом пекарни, и я еще больше вспотела, потом бриз улегся. Я посмотрела на адрес, который дал мне Ленни, – там было сказано «15», и я шла по кварталу на юг, поглядывая вверх – 21, 19, 17, цифры уменьшались. Тут я подошла к номеру 15 и подумала: «А что, если часы снова, что, если благословенные, чудесные, закрытые, теплые часы. Что, если он не оценит их стоимости и жертвы: тридцать девять долларов девяносто пять центов, наше чрево все в драгоценных камнях и сохранности. Предположим. Просто предположим». Но я не хотела думать об этом. Я поднялась по трем кирпичным ступенькам, толкнула дверь и вошла: на почтовом ящике – «Фримен, первый этаж, в конце». Я нажала на звонок и стала ждать, но я прождала даже меньше того, чтобы в голове сложилась мысль, поскольку звонок тут же сработал, под моей рукой раздался звон, зашевелилась заключенная гремучая змея. Я вошла и пошла по коридору, мимо фриза из плиток, стола, заваленного почтой, зеркала, в котором я увидела себя, ошарашенную, с синяками под глазами и растрепанную, – я пошла дальше, вдыхая сквозь обои в хризантемах запах других жизней. Я тону. Я приостановилась: «Пожалуйста, пусть он скажет „да“». Потом пошла дальше и наконец дошла до двери. Я нажала на звонок, услышала, как внутри мрачно прозвучало: бинг-бонг-бинг, степенно и торжественно, как в церкви, вне моей души.
– Кто там?
Я не отвечала: стояла, прижав голову к двери, и слушала, как испуганно колотится мое сердце, часы тоже тикают у моей груди в целости и сохранности.
– Какого черта, кто там? – Затем шаги по скрипящим плитам.
– Да? – сказал он.
Я молчала из страха, что он… Что, если он… Неужели он не может понять моей чудесной выдумки, взлета замкнутой в темноте души, освещенной в бесконечной ночи лишь драгоценными камнями? Признаюсь, я в экстазе от этого: я думаю – пока он стоит, на секунду отделенный от меня тончайшей дубовой панелью, – о нас, как мы беззаботно летим среди драгоценных камней и колес во времени, тикающем, словно это музыка, только еще лучше, укрытые от солнца и от смерти.
– Да кто это, черт побери? Говорите же.
Я затаила дыхание. Но да. Он распахнул дверь и стоял молча, глядя на меня, напряженный и мрачный – я увидела, как на шее у него пульсирует вена.
– Это я, – сказала я улыбаясь, – вернулась в страну живых.
– Вы ошиблись домом, – сказал он. – Нам никто не нужен. – За ним в комнате стоял мольберт и картина, окна были открыты угасающему свету. На лбу у него была синяя масляная полоса, и на ней крошечными капельками выступил пот. И он сказал: – Почему вы не уходите?
А к этому я была тоже готова; я сказала:
– Я принесла тебе подарок.
– Вы хотите сказать: подкуп?
– Нет, – сказала я, – подарок. Могу я войти?
– Нет, – сказал он, – я работаю.
Он начал закрывать дверь, и мне горло сдавил страх; я сказала:
– Я тебе не помешаю. Я буду сидеть очень тихо.
– Нет, – сказал он, – отправляйтесь к вашему итальянскому дружку.
– Я тону, – сказала я и взяла его за локоть; он отдернул руку.
– О Господи, – произнес он, – пойдите к Страссмену или к кому-нибудь еще…
– Гарри, – сказала я, – выслушай меня, прошу…
Он впустил меня в комнату, повернулся ко мне спиной и подошел к мольберту; дверь за мной захлопнулась, я пошла по полу, держа мои часы. Он писал старика. Древний монах или раввин в серых и темно-синих тонах, морщинистый и изможденный, воздел к небу гордые, трагические глаза; позади него были развалины города, разрушенного, опустошенного, горы раскрошенного цемента и камня, блестевшего под светом наполовину спрятанного заржавевшего фонаря, словно в последних, угасающих сумерках Земли. Это было мертвое и забытое место, однако сохранившее известное радужное, неустойчивое величие, и на этом фоне глаза старца гордо смотрели вверх, обращенные, возможно, к Богу, а возможно, просто к заходящему солнцу.
– Чудесная картина, – сказала я.
Он никак не отреагировал, взял кисть и провел серую полосу по разрушенному городу.
– Я считаю, что это замечательно, – сказала я.
Он по-прежнему молчал, продолжая писать, только туфли его заскрипели по полу. Я села на стул и стала за ним наблюдать. А в саду декоративные деревья еле слышно шелестели в душном воздухе; среди листьев шуршали, чирикая, воробьи, а издали доносились крики детей, словно что-то забытое. Я сказала тогда:
– Вернись, дорогой.
Он молчал.
– Вернись, – сказала я. – Прости меня за то, что я наделала.
Он по-прежнему молчал; развалины под его рукой беззвучно приблизились. Он продолжал писать. Я вспомнила про часы, вытащила их из сумки.
– Послушай, дорогой, посмотри на часы, которые я нам купила. Ты всегда жаловался, что те старые часы все время запаздывают. А теперь – смотри.
Он не произнес ни слова.
– Смотри, дорогой, – сказала я, – столько драгоценных камней, и в сохранности. И тут же подумала: «Почему в сохранности, почему?»
Он повернулся, держа в воздухе кисть, с которой упала капля синей краски.
Посмотрел на часы. В тишине мы слышали, как они тикают, а также слышали воробьев, далеких детей.
– Ты купила их в «Мэйси», – сказал он, – и они стоят тридцать девять долларов девяносто пять центов. Верно?
– Да.
– И ты заплатила за них чеком.
– Да.
– И чек взлетел выше воздушного змея, – сказал он, поворачиваясь обратно к мольберту. – Очень благодарен за подарок, за который я заплатил из нашего общего, кавычки, банковского счета, кавычки. То есть бывшего банковского счета: на нем ничего нет.
– Ох, – произнесла я, – ох, – выслушав эти слова, брошенные им через плечо. Я не видела выражения его лица, только слышала его слова – горькие, и гневные, и полные презрения, – и смотрела на часы, которые полетели на землю, и чувствовала себя такой же раздавленной и изуродованной среди отчаянно разъехавшихся, жестоко изуродованных рычажков и колесиков. И тем не менее: – Ох, – произнесла я, – ох. – Затем сказала: – Мне жаль, Гарри, право, жаль. Я не знала. Я купила их в подарок тебе. Я получу какие-то деньги от зайки.
Я была снова спасена: часы ходили, пролетев в пространстве, Гарри и я; «они были на волосок от гибели», подумала я.
– Почему? – сказал он и со злостью повернулся, крепко держа кисть. – Почему, почему, почему? Почему, Пейтон?
– Что – почему, дорогой? – спросила я.
– Почему ты так поступаешь? Намеренно, без малейшего чувства вины? Как ты можешь так поступать?
– Я не знаю, – сказала я. – Я забыла.
– Так ты сказала, твой зайка заплатит за это, – сказал он. – Что ж, хорошо, чтобы кто-то заплатил. Мне пришлось занять у этого осла Берджера, чтобы закрыть чек. Да что с тобой?
– Извини, – сказала я, – больше такого не будет.
– Нет, – сказал он и вернулся к мольберту, – такого, безусловно, больше не будет.
А я прошла мимо него к окну, и внутри снова зашевелился страх. Я не могла ни о чем думать: тихо шелестели листья декоративных деревьев, обращая свою белесую оборотную сторону к умирающему солнцу. По забору прокралась кошка, и женщина, стоявшая, закутавшись в наброшенную на плечи шаль, в саду среди флоксов, и роз, и малиновых цинний, окликнула ее: «Тоби!» Я не могла ни о чем думать, вечер частично уже накрыл тут дорожку, и мне показалось, что я услышала вдалеке гром, но это было что-то другое – поезд подземки, или грузовик, или маловероятные причудливые орудия. И тут я сказала, не подумав:
– Вернись ко мне, Гарри.
За моим плечом послышался голос.
– Чтобы жить втроем? – спросил он. – Это будет премило. Правда, тогда у нас будет бесплатное молоко. Уверен.
И я сказала очень медленно:
– Но неужели ты не понимаешь, дорогой? Тони – это ничто, совсем ничто. Мне очень жаль, право, жаль, и я тебе об этом уже говорила. Я разозлилась на тебя, потому что ты, знаешь ли, был прав. Я действительно зависела от тебя во всем и была избалованным ребенком, и вообще. Но я обозлилась, потому что это была правда, неужели непонятно? И я тебе немножко отомстила, когда ты обиделся и ушел. Жестоко было так поступать, – я знаю, но прости меня…
– Все это ты мне уже говорила, – сказал он, и я услышала, как голос его стал более напряженным, гневным и горьким. – Послушай, Пейтон, я пытаюсь работать, пока еще светло. Почему ты не уходишь?
– Нет, Гарри, – сказала я и повернулась. – У нас могли бы быть дети…
– Эти слезы вряд ли помогут тебе со мной, детка, – сказал он. – Мы могли иметь детей год назад, но вту пору ты заявила, что я такой ненадежный и не смогу быть хорошим отцом…
– Это было в ту пору… – начала было я.
– Это было в ту пору, – сказал он, – когда я понял правду и сказал тебе об этом: ты абсолютно не способна любить. А-а, да к черту все. – Он швырнул на пол кисть. – А теперь не будешь ли любезна… – начал он.
Но я сказала;
– Дети, Гарри, мы могли бы… – Не успела я это произнести, как снова вспомнила одновременно с раздавшимся где-то за стенами, с которых осыпалась штукатурка, под потолком в водяных подтеках, шуршанием нелетящих крыльев. Они явились с песка.
Громко я произнесла:
– Защити… – но не закончила, вторично вспомнив свою вину, о которой я даже Гарри не сказала: о том, как врач безжалостно щупал инструментом, и у меня защипало внутри. – Ох, Гарри, – сказала я, – прости меня за то, что я натворила.
– Защитить тебя от чего? – спросил он. – От молочников, от писателей-детективов?
– Нет, – сказала я, садясь на подоконник, – от меня.
Он смягчился.
– Где ты подобрала свой странный кодекс этики? – сказал он. – Что произошло с тобой? Если бы я мог помнить тебя такой, какой ты была когда-то, это было бы отлично. По крайней мере я мог бы держать себя в руках. Но я не думаю, что я мог бы даже помнить то время. Когда у тебя по крайней мере были идеалы, которые не являлись продуктами мифов или сказок. То время, когда ты была моим эталоном и я был настолько глуп, что говорил себе: девушка с таким прелестным лицом и телом, как у тебя, не может не быть прекрасной и внутри. Что же случилось с тем временем, моя утраченная леди, моя благословенная Беатриче?..
– Не надо, – сказала я, – пожалуйста, не надо так говорить, дорогой.
– Я, видимо, был дураком, – продолжал он, – при всех своих. В душе. Я игнорировал их. Когда ты пилила, и пилила, и пилила меня за мое так называемое внимание к другим женщинам. Когда ты была так чертовски хороша, что, находясь с тобой в одной комнате, я испытывал такой прилив страсти, как мог я убедить тебя, что у меня не было никаких намерений в отношении других женщин, этой идиотки Эпштейн? Я не мог. Что ж, ей-богу, в последние два месяца у меня были такие намерения. Залогом твоя сладкая жизнь – были. Хочешь знать, сколько раз я имел…
– Нет, Гарри, – сказала я. – Пожалуйста, не надо.
– Можешь плакать, пока голова не отвалится, – сказал он. – Сапог с чужой ноги. Разве это не метафора?
– Да, – сказала я.
Тогда он замолчал – его немного трясло, и он играл кистью. Мы оба молчали не более пяти секунд, а я пыталась думать, наблюдая за ним: неужели он не понимает, неужели я не могу убедить его, что вместо радости я испытывала такую агонию, ложась со всеми этими другими, неприязненными мужчинами, как действовали на меня джин и чувство вины, перья, шуршащие в темноте, чувство, что я тону? Потом я сказала бы ему: «Ох, мой Гарри, мой потерянный милый Гарри, я блядствовала в темноте не потому, что хотела, а потому, что наказывала себя за то, что наказала тебя, однако что-то более сильное, чем думы или память, и более мрачное, чем то и другое, движет мной, и ты не узнаешь об этом, поскольку, проснувшись, еще не совсем я от всего этого отошла».
– Нет, зайка, – сказала я. Этот страх. Я заговорила: – Пожалуйста, не злись на меня сегодня, дорогой. Я не способна это вынести. Зайка заплатит за часы.
– Часы-ши-ши, – сказал он. – К черту часы. За них заплачено. Я вот что хочу знать: я все еще должен платить ренту за тебя и за Тони?
– Нет, не говори так.
– Мне совсем не нравится так говорить, – сказал он. – Я предпочел бы говорить о совсем других вещах. Я хотел бы сесть, как, бывало, мы раньше сидели, и разговаривать о цвете и форме, и об Эль Греко или даже просто о том, в каком магазине продают лучшее мороженое. Как бывало. Благословенная Беатриче…
– Не надо, – сказала я.
Он продолжал:
– Я о многом хотел бы поговорить. Ты хоть понимаешь, к чему пришел мир? Ты хоть понимаешь, что в великом американском государстве за эту неделю погибло сто тысяч невинных жизней? Знаешь, было время, когда я думал по какой-то причине – возможно, просто чтобы сберечь твою несравнимую красоту, – что я смогу провести жизнь, удовлетворяя твои нужды, терпя твои подозрения, и недоверие, и все остальное, плюс видя, как ты в порыве раздражения даешь себя уложить другому. Есть другое, чем я намерен заниматься. Помнишь цитату из Библии, которую ты любила приводить: «Как долго, о, Господи?» Или что-то в этом роде…
– А ты вспомни, как коротко мое время, – сказала я.
– Да, – сказал он. – В общем, вот так я настроен. С твоей помощью, думал, я многое вынесу, ноты не помогла мне. Теперь я иду по жизни один. Я не знаю, какую пользу это принесет кому-либо, кроме меня, а я хочу рисовать и рисовать, потому что я считаю: в нас сидит какая-то мучительная боль. Назови меня разочаровавшимся, блаженным, ренегатом, красным и как-то еще, ноя хочу своими руками выбросить из себя эту боль и породить красоту, потому что только это и осталось, а времени у меня не много…
– Я помогу тебе, – сказала я. – О, Гарри, я помогу тебе.
– Глупости, – сказал он. – Если бы это было впервые – возможно: я был тогда еще дурак дураком. Но это не впервые, а в четвертый, или в пятый, или в шестой раз – я уже потерял счет.
– Это красивая картина, – сказала я. В сумеречном свете трагичное лицо по-прежнему смотрело в небо среди отбросов и камней, в последних, угасающих сумерках, гордо и безбоязненно, мой Гарри. Кто знает о нашем последнем конце, когда нас вышвырнет из центра мироздания во тьму, в вечный космос; однажды он сказал, что мы маленькие, слепые морские существа, зацепившиеся, извиваясь, за скалу жизни и ожидающие финальной затопляющей волны, а вот мой Гарри… кто может показать глаза мужчины, бесконечно обращенные вверх, к своему взлетающему духу?
– В ней чувствуется вера, – сказала я, – или что-то. В ней…
– Пора поверить, – сказал он. – Ты так не считаешь? А пора бы знать.
– Да, – сказала я, – когда-то верила. Когда мы гуляли по песку и собирали ракушки.
– Кто? – сказал он. – Ты с Сандерсом в купальной кабине? В Ри?
– Нет, – сказала я. – Зайка и я.
– Ты и твой чертов папаша, – сказал он.
– Да, – сказала я, все это время ни о чем не думая. А потом сказала вот это: – Я бы хотела, чтобы ты взял часы. Даже если ты купил их. Там внутри – ты знаешь? – Я взяла его за рукав и притянула к себе, почувствовав запах пота и краски, благословенной плоти. – Смотри сюда, – сказала я и указала на дырочку в будильнике. – Смотри, знаешь? – Знаешь что? Мы можем залезть туда, внутрь, и весело поплавать. – Тут я рассмеялась, очень громко, не знаю почему. – Мы с Гарри среди пружинок и камешков. Там будет так безопасно, будем плавать вокруг и вокруг на главной пружине. Мужчина сказал, что там внутри есть и драгоценные камни, пятнадцать штук. Ну не чудесно ли будет, Гарри?..
Но я почувствовала на своем локте его руку, которая крепко держала меня; он сказал:
– Пейтон, не говори больше. Что с тобой, лапочка? Послушай, что-то с тобой совсем нехорошо. Ты вся трясешься.
– Да, – сказала я, – часы…
Только…
– Садись, – сказал он. – Сядь тут и подожди минутку. – И он толкнул меня на стул. – У Маршалла тут где-то есть фенобарбитал. Подожди минутку… – Он двинулся было от меня, но я взяла его за руку.
– Нет, – сказала я, – все в порядке, дорогой, я буду в порядке. Я просто испугалась.
– Чего? – спросил он.
– Я не знаю, – сказала я.
– Ты принимала наркотики? – спросил он.
– Нет, – сказала я, – этот порок я не освоила.
– Ну так отдохни минутку, – сказал он. Потом произнес: – Ужас, ужас, ужас! – Его голос за моей спиной звучал громко, взволнованно, как и звук его встревоженных каблуков по скрипящему полу; я сидела, дрожа, и теперь возник спазм, и внутри нарастала боль, раздиравшая все органы – почки и желудок, и все вообще, и я вдруг согнулась пополам, видя, как темнеет свет, становится багровым над накрытой зонтом водонапорной башней, как отчаянно залетали, кружа, голуби, а вдали вроде раздался гром или это был грохот орудий? – Ужасно, – сказал он.
– Что? – спросила я. Боль отступила, ушла.
– То, что произошло с нами, – сказал он. – Вот что ужасно. Вот что.
– Я должна повидать Страссмена, – сказала я.
– Я думаю, да, – сказал он. – Почему ты не позволишь Ленни снова отвезти тебя туда? В понедельник.
– Это будет слишком поздно.
– Что? – сказал он. Он сел и взял мою руку.
– Я хочу сказать, – начала я. – Ох, дорогой, это не то, что мне нужно. Мне нужно! Мне нужно…
Он сжал мою руку.
– Успокойся, дорогая, успокойся.
– Хорошо, – сказала я.
И он сказал:
– Я с тобой, детка. – И снова: – Я с тобой, детка, – и погладил мою руку.
– Со мной беда, – сказала я, хотя, несмотря на это «я с тобой, детка», я чувствовала все то же отчаяние – не лучше и не хуже, – и это было странно, я этого не ожидала, а представляла себе, как будет расцветать радость, как мы поцелуемся или еще что-то, замрем в часах, и не будет ни страха, ни опасений, ни боли. Свет в небе менялся, по саду пошли тени – там кошка, растянувшись, спала в сумерках, и женщина в шали ходила, собирая цветы – гвоздики. Молодой мужчина вышел из дома и, зевнув, посмотрел на небо, протер очки, снова вошел в дом. Воздух был разгорячен от чувства вины; я потела. «Вот что, Гарри, – хотела я сказать, – почему ты такой со мной? Не из-за твоей же маленькой измены, право, я тебе чуточку отомстила, а просто потому, что ты всегда меня не понимаешь. Меня. О да, все началось с того, что ты положил руку на зад Марты Эпштейн, так что мне приятно было лечь там. Однако за этим всегда следовала вина: о Господи, неужели ты не способен был понять, как я страдала от пытки, которую я устраивала себе, насилуя себя? Почему ты не понимаешь меня, Гарри? Почему? Почему? Вот что меня на самом деле беспокоило, а не то, что ты должен смириться с тем, как я себя веду. Конечно, нет. Но что сделано, то сделано, ты должен постараться понять меня, потому что это не память или мечта и много мрачнее того и другого, и однажды, когда ты на меня рассердился зато, что в уборной не было туалетной бумаги, я готова была выпрыгнуть из окна – такой я чувствовала себя потерянной и бездомной, и вообще. Так что когда я приду к тебе, крича, что тону, и ты меня не поймешь, мне придется вернуться назад и накричать на него, задыхаясь от запаха молока. О, скажу я, ты никогда не понимал меня, Гарри, не понимал, что я грешила не из мести, а лишь затем, чтобы лечь в темноте и найти где-то в сплетении снов нового отца, новый дом. Докучливые птицы – они и наполовину не такие скверные, как ты со своим отсутствием понимания». Я отдернула руку.
– Ты просто никогда не пытался посмотреть с моей стороны, верно? – сказала я.
Какое-то время он молчал. Я решила, что он ничего не скажет. А он сказал:
– Что ты хотела дать мне понять?
Тут я пожалела, что сказала это: как всегда, я раскрываю рот и произношу раздраженные слова, не прошедшие через мое сознание, измышленные лишь той частью меня, над которой я не властна: моей виной.
– Что ты хотела дать мне понять? – повторил он монотонно.
– Я хотела, – сказала я, и я понимала, что надо продолжать, однако неужели даже теперь не избежать этого? – Я хотела сказать, Гарри, неужели ты не понимаешь? Все это, как оно ни скверно, просто реакция на то, что ты никогда не понимал меня. И не пытался.
Он встал.
– Это я-то не пытался? – сказал он. – О чем ты говоришь? Значит, не пытался! Да я два года только и делал, что старался понять тебя…
И я подумала: «О Иисусе, я сказала это, а ведь думала совсем другое, и теперь этих слов уже не взять обратно, а надо продолжать».
– Я хотела сказать, дорогой, – пожалуйста, не сердись, – я хотела сказать, что всякий раз, как я срывалась, в этом была не полностью моя вина, понимаешь? Вспомни Марту Эпштейн… – Я почувствовала, как меня всю передернуло от собственных слов, а потом его вздох.
– Ох, право же, Пейтон, я заболею от тебя. Это все, ради чего ты пришла сюда, – чтобы осложнить мне жизнь?
– О нет, дорогой, – поспешила я сказать. – Нет, не сердись. Пожалуйста, не надо. Просто я хотела сказать, что ты… что я бывала виновата, но я никогда ничего не делала, если ты не давал мне к этому повода. Когда я чувствовала, что не могу на тебя положиться или когда ты становился циничен…
– Циничен! – воскликнул он. – Кто же из нас циничен? Ты что, пытаешься сказать мне, что из-за нескольких случаев, когда я не выполнял твои малейшие причуды или не баловал тебя до полусмерти, ты имела право наставлять мне рога и, по сути дела, у меня на глазах! Почему, черт побери…
– Гарри, – сказала я, – не злись. Пожалуйста…
– Ужас! – произнес он. – Нет, это правда. Ты просто не можешь любить. Ты являешься сюда под предлогом извиниться и покаяться, а на самом деле хочешь, чтобы я сказал тебе, что это я должен стать на колени и просить у тебя прощения за грехи, которых не совершал. Ведь так, Пейтон, так?
– Да, – сказала я. – То есть нет. Нет, Гарри, пожалуйста, поверь мне…
Но он сказал:
– Почему ты не уходишь? Убирайся.
– Ох, Гарри, – сказала я, – ты просто не понимаешь.
– Можешь высушить свои слезы, детка, они на меня не действуют. Убирайся.
– Нет, – сказала я.
– Убирайся, – сказал он, – убирайся к черту отсюда, шлюха.
– Ох, Гарри, – сказала я, – опять ты за свое. Я же не такая. Если бы ты хоть понимал…
– У меня достаточно понимания, – сказал он. – В данный момент я понимаю: ты хочешь, чтобы я стал таким, каким ты видела меня многие месяцы. Чтобы посадил тебя к себе на колени и обнял своими сильными руками и сказал тебе, что был не прав насчет грязи под кроватью, что я был не прав, требуя, чтобы ты прекратила мотовство, что я был не прав, не позволяя тебе погубить нас обоих, будучи испорченным, избалованным ребенком, так что у тебя неверное представление обо мне. А теперь убирайся отсюда.
Я протянула к нему руки.
– Убирайся.
Они явились на краю моего сознания – бескрылые птицы: эму, и дронты, и страусы, и моа, чистящие свои перья при свете пустыни, страны дремы, пугающей меня, где я всегда лежала бы и дремала. Неужели он никогда больше не придет защитить меня от моего греха и вины? Я видела, как они степенно, горделиво расхаживали в дальних углах комнаты, у края стен, сквозь составленные рамы для картин, – все такие серьезные и неопасные в затопленном и удушливом воздухе. На улице воробьи чирикали и махали крылышками; кто-то крикнул вдалеке; я протянула руки.








