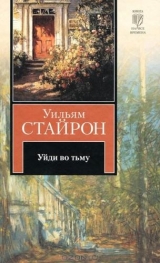
Текст книги "Уйди во тьму"
Автор книги: Уильям Стайрон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)
И Элен рассказала Кэри, как в тот вечер она пошла с Моди наверх. Она резко повернулась и вышла из комнаты, держа за локоть Моди и чувствуя молчание и растерянность Пейтон и Милтона, словно в двери, разделяющей комнаты, повесили за ее спиной ощутимую, плотную ткань. Наверху она обследовала ногу Моди – под коленом был маленький зеленовато-синий рубец на том месте, где она поскользнулась и ударилась о столбик на лестнице. Моди захихикала, словно и не ушибалась.
Вот тогда, наклонясь над Моди, лежавшей на своей кровати, Элен, к стыду своему, подумала: «Не непреднамеренно, не непреднамеренно». Рубец был совсем маленький, и она достала из аптечки припарки и йод вместе с аспирином, и, возможно, именно это еще больше расстроило ее – гнетущее обилие бутылочек и бинтов на одеяле Моди. Приобретя за годы манеру непропорционально увеличивать малейшие ушибы и недомогания Моди, сейчас в своем стремлении оказать ей помощь она старалась найти не только средство для излечения, но – чуть ли не в панике – кого-то виновного в случившемся. Конечно. Это опять Пейтон, про которую она на миг забыла. И Элен сказала себе: «Не непреднамеренно, не непреднамеренно», – и стала от этого отталкиваться, обрабатывая рубец борной кислотой. «Ей-богу, она просто захотела показать свою независимость, маленький дьяволенок. Возможно, это произошло не намеренно, но это и не было непреднамеренным». И она провела черту между этими двумя понятиями, приняв порочное и ложное решение, – она это понимала, даже когда оно появилось в ее сознании: возможно, Пейтон и не планировала падения Моди, но дала ей упасть подсознательно, желая отомстить, или показать свою независимость, или что-то еще. Однако Элен тотчас подумала: «Нет, нет, ох, нет», – и, чтобы отвлечь себя от этих мыслей (которые, как она сказала Кэри, по определению означают, что она была дрянной и жестокой матерью для Пейтон), бросилась в ванную, где, дрожа, стала мочить в горячей воде тряпку, чтобы обработать рану Моди. Потом она вспомнила, что не нужно ничего мочить в горячей воде, потому что на ранку уже наложена мазь, и быстро бросила тряпку в уборную, проследила, как та растянулась и расширилась, и, стоя под немилосердным и разоблачающим светом в ванной, смотрела на себя в зеркало, на свою увядающую красоту и думала: «Почему-то я не могу собраться с мыслями».
«О да».
Значит, в голове была тогда пустота. Она вернулась к кровати и раздела Моди, и положила в угол ортопедические скобы, и, поцеловав девочку, вышла и закрыла дверь. Она прошла в свою комнату и заперлась в ней. Она помнит, что там стоял сильный химический запах и было очень душно: перед ужином она распылила там «Флит», потому что сейчас, в конце лета, очень оживились и озлобились комары. Она наблюдала их наступление, и сама залатала сетки, снабдив дом распылителями. Комары были большие и бурые, большие, как тутовые ягоды, и появлялись тучами на закате солнца, вылетая роями из проливов и прудков в последней атаке перед началом этого мертвого сезона, который уже чувствовался в предваряющих его приход прохладных ветрах, в коричневатой окраске болот. Элен включила свет и переведя дух, распахнула все окна, потом разделась и надела ночную рубашку. Затем она наложила кольдкрем налицо, расчесала волосы и легла в постель. Она закурила сигарету и поставила рядом с собой пепельницу.
Все это время, как ни странно, сказала она Кэри, она старалась вытеснить из своей памяти сумятицу последнего часа и, лишь натянув на себя одеяло, улегшись на подушки, положив экземпляр «Хорошее домоводство» на колени, она поняла, чего ей стоило усилие не думать и как она напряжена: она с трудом могла читать журнал – так ее трясло. Она опустила журнал – несколько минут она смотрела отсутствующим взглядом на цветную рекламу гамбургеров, плавающих в отвратительном красном соусе, и почувствовала, что ее начинает тошнить. Потом – опять так странно, сказала она Кэри – следующей ее мыслью было: она держалась поразительно хорошо, с достоинством; вспоминая события последних минут, она считала, что была разумно немногословна и держалась отстраненно с Милтоном, когда сказала ему у лестницы, что завтра побудет здесь. Все это, пока она лежала, дрожа, в постели, прошло теплой, доставляющей удовлетворение волной в ее сознании, с приятным чувством, какое вызывают воспоминания о маленьких победах. Все это было так странно, и не замаскировался ли этот дьявол – или кто он там есть, – чтобы внушить ей такую исполненную самодовольства, мерзкую мысль? Хотя невидимый, разумно держащийся за кулисами, разве он не подталкивает все время ее? Тем не менее она собой вполне довольна.
И тут (над этим, сказала Элен, она размышляла с тех пор, и по-прежнему у нее нет этому объяснений – может быть, Кэри поможет), тут вдруг все, что произошло вечером, стало ясно, словно в процессе своих неустойчивых настроений она медленно качалась – то настроение поднималось, то опускалось и, наконец, установилось, так что в какой-то момент все ее мысли не спеша точно уравновесились. Она поднесла руку ко лбу, и пальцы оказались мокрыми от пота – воздух был полон какого-то запаха, вроде лигроина, и она села в постели, разбросав сигареты, спички, пепел.
И подумала: «Они считают, что я недостаточно сдержанна, не держусь с достоинством или что-то еще. Они просто считают меня чудаковатой». И, уткнувшись лицом в руки, подумала: «Господи, пожалуйста, помоги мне, я с ума схожу».
Вот оно: подозрение – реальное и оскорбительное и на данный момент с трудом отрицаемое. Что же ей делать? Она посмотрела вокруг себя – на знакомые желтые капсулы нембутала в бутылочке на ее туалете; недолго отвлеченно подумала, глядя на бутылочку: десять или, может, пятнадцать капсул навеки все уладят, – но эта мысль быстро исчезла. Ей хотелось закричать… но это глупо. И пока все это пролетало в ее сознании, она вспомнила, что выбросила из головы мысль о безумии – слишком трудно и тяжело было об этом думать дольше минуты, и, вздохнув, вытянула свои горячие ноги, так что простыня бесшумно, с потоком воздуха, накрыла ее тело словно рухнувшая палатка. Какое-то время она лежала молча, закрыв глаза, а потом безо всякой видимой причины встала и подошла босиком к окну. Тогда она на момент почувствовала себя, как она выразилась, «нормальной». По всей вероятности, свежий воздух прояснил ее мозги, и, сев в кресло у окна, она перестала потеть и дрожать. Снизу до нее донеслись звуки радио и смех Милтона, праздный, и громкий, и беззаботный, словно ничего и не произошло. Опершись локтями на подоконник, она положила подбородок на руки и стала смотреть вниз, на сад и залив. Пожалуй, сейчас, по размышлении, только время года и повлияло на нее, и она почувствовала себя несчастной, – этот конец лета, переходный месяц сентябрь, когда год словно желтеет и утрясается, остановившись, как усталая пожилая крестьянка, чтобы передохнуть, и все листья становятся тусклыми, блекло-зелеными. Все застывает в ожидании, в предвкушении, а в воздухе появляется что-то обещающее дым и огонь, и разложение. Некоторые цветы какое-то время весело цветут, но сентябрь – месяц стремительный, безумный, несущий в воздухе семена для похорон, нагоняющий на людей усталость и немного волнения, как перед отправкой поезда. Но это и приятный месяц – в нем есть своя прелесть. Настала ночь, но светло-серое небо фосфоресцировало, и в нем зажглась над заливом вечерняя звезда, словно одинокий драгоценный камень в дымном море, а внизу от земли шел запах травы и цветов, мимозы тряслись под ветром. За ними и за ивами, стоявшими на краю воды, медленно плыли, направляясь к морю, темные корабли. Война. И снова ветер, слегка прохладный, ударил ей в щеку, принеся запах соли и неизбежное начало осени, а в окно тщетно ломились большущие комары. Элен слегка подула на сетку. Комары взлетели вверх, к небу, и снова вернулись, тяжело садясь на сетку при убывающем ветре. На землю упала ветка, листья полетели по подъездной дороге и сразу замерли – армия, сраженная на ходу. Радио умолкло, тоненький голосок певицы на полуноте заглох, словно и он погиб в последнем, все растворяющем вздохе ветра, и в наступившей тишине Элен подумала, что она узница, изгнанница.
Луна взошла жаркая и оранжевая, очертив клумбу, извилистую и затененную, с дремлющими цветами, темные ивы, а под мимозой – две фигуры: Пейтон и юноши. Элен наклонилась, стала наблюдать. Они подошли друг к другу и поцеловались, и ветер, должно быть, снова затряс ветками, поскольку раздался неистовый долгий шелест и вниз полетели листья, словно крылья птиц.
– Прощай, Пейтон.
– Прощай.
– Возвращайся, Пейтон. Скорее возвращайся.
– Когда-нибудь.
– Прощай… прощай… прощай.
Элен отвернулась, снова полная неизвестно на кого направленной злости. Она легла в постель и, уткнувшись лицом в подушку, постаралась помолиться – прося не наставить ее, что казалось слишком неясным и элементарным, а скорее прося Господа просто наделить ее здравым смыслом, чтобы она возводила вину за свои страхи и злость на тех, на кого следует: «Великий Боже, я не могу ненавидеть собственного мужа; великий Боже, я не могу ненавидеть Пейтон, мою собственную плоть и кровь», – но она чувствовала: что-то не так, потому что ее молитвы, казалось, безответно возносились к небу, и она, выпустив пар, приняла две таблетки нембутала и наконец погрузилась в сон, говоря во сне: «Прощай, прощай», – тени-силуэту, женщине, которая мелькнула и исчезла, тогда как белые цветы полетели на землю, и сквозь них казалось, что она несет письмо, но кому? Элен пригнулась, чтобы лучше рассмотреть, увидела ноготки, настурции, маки, возмутительно красные, и четыре черных волоса, лежавших в ее саду, образуя слово «ГРЕХ». Она отвернулась, испугавшись, а тут Милтон сказал: «Давай, детка, я отправлю это для тебя», – и пошел с Пейтон, которая шла в шортах рядом с ним и держала перед своими бедрами, округлыми как луна, шляпу – плавильный тигель с цветами. «Прощайте, прощайте», – попыталась сказать Элен, но оба они уже сели вместе с Долли Боннер на яхту, которую подхватил шквалистый ветер, так что паруса оказались в воде, и с быстротою урагана понес в море. Воздух наполнился каскадом листьев, словно перья летевших по ветру мимо дома, гаража, сталкиваясь со всем на своем пути, а потом послышался тяжелый удар и ветер поутих. Милтон, улыбаясь, вновь появился в саду, промокший до костей, и стал колотить ее лопаткой по дереву. «Элен! – кричал он. – Элен, Элен!»
Она проснулась. Милтон стучал в дверь.
«Ладно, – слабо произнесла она, – ладно. Минутку». Она вылезла из постели и, подойдя к двери, открыла ее.
«Бог мой, – сказал он. – Что случилось? Я думал, вы упали или еще что-то и потеряли сознание. Как Моди?»
«Все в порядке», – сказала она.
«Вы вся в поту, милочка».
Они стояли там, в дверях. Оба. Кэри так и представлял себе, как это было: один – в рубашке, плотный, загорелый после лета, проведенного на поле для гольфа, даже и теперь от его дыхания исходил слабый запах виски, и он озадаченно смотрел на ту, что уже не держалась повелительницей, а просто была больной, наглотавшейся лекарств. Издали слышалось, как волны набегают на берег, издавая долгое «ш-ш-ш…», и тихо откатываются в ночь. И она держала его за руку, с редкой преднамеренной лаской гладя его, стараясь прорваться сквозь волны нембутала и сбросить с себя остатки сна, память о порывах ветра, о дожде, говоря: «Милтон, вы не должны изменять мне».
Таким тоном, который скорее всего выбьет из колеи любого мужчину.
И прежде чем он мог что-либо ответить, она монотонно отбарабанила: «Все рассыпается. Даже если понадобится вся сила, какую я имею, я употреблю ее и постараюсь, чтобы мы остались вместе, Милтон… – И она погладила его по руке, что, должно быть, еще больше удивило его. – Я знаю, чтб вы затевали, и я не допущу этого. „Тех, кого Господь соединил, никому не позволено разделить“».
Изречение, совершенно сейчас неуместное, по мнению Кэри, старая наивная литания, которую мужчины забывают, а женщины помнят так хорошо, как детские стишки.
Лофтис тогда сказал: «О чем, черт побери, вы говорите?»
«Вы знаете».
«То есть?»
«Об этой женщине».
Он вспыхнул, резко повернулся…
«Да черт с вами в любом случае… – И вышел в холл. Дойдя до лестницы, он обернулся: – Черт бы вас побрал». И исчез.
Она тогда подумала, что хотя он и раньше бывал грубоват с ней и употреблял ругательные слова, но никогда еще не чертыхался. Никогда. Ну что ж. Она долго сидела у кровати Моди и думала. Моди крепко спала. В десять часов прозвонили церковные колокола, и Элен отправилась в свою комнату и легла в постель. Немного позже, лежа в одиночестве – она решила притвориться спящей, когда Милтон придет ложиться, – Элен услышала шаги на лестнице. Она приподнялась на локте.
«Пейтон, – громко произнесла она, – Пейтон, дорогая».
Но голос ее был недостаточно громок – по крайней мере она сделала жест, что в свете мерзкого поведения Милтона, пожалуй, не имело значения.
И наконец это (последующие события были изложены вкратце, без подробностей, несколько путано, и Кэри пришлось самому додумывать): она еще долго спала утром, после того как Милтон и Пейтон уехали, и услышала детские голоса, вторгшиеся в ее сон словно чириканье далеких незнакомых птиц, но громкие, в известной мере наводящие страх, и она в ужасе проснулась. Но ведь это были всего лишь дети – вдалеке смех и звук проезжающих велосипедов, замирающий на гравийной дороге, и она вроде бы с облегчением снова откинулась на подушку и, моргая, стала смотреть сквозь рыжеватый свет на кровать Милтона, на простыни со следами песка – он, значит, не мыл ноги. Приняв бромозельцер, чтобы прочистить голову, она одела Моди, приготовила завтрак, и тут пришла Элла. Наконец – к этому времени было уже десять часов – Элен позвонила по телефону, подумав при этом, какая она спокойная и уверенная в себе.
«Здравствуйте». (Элен, к счастью, узнала голос. Если бы ей пришлось сказать: «Это Долли Боннер?» – все сразу пошло бы вразрез с интимным тоном беседы, хоть и совсем хрупким, а этого она не хотела.) «Это Элен Лофтис. Как поживаете? – И не дожидаясь отклика: – Я подумала, не могли бы мы встретиться в полдень в „Байд-Э-Уи“. Я хочу кое-что с вами обсудить».
«М-м, нет, я, право, не думаю…» Голос звучал более чем нерешительно – голос человека шокированного, занявшего оборонительную позицию и испуганного.
Элен перебила ее: «Это очень срочно. Я настаиваю».
Как официально!
«Но нет…»
«Тогда перенесем на другое время. – Очень решительно: перчатка брошена. – Мне было бы удобнее всего встретиться сегодня, если у вас нет никаких других планов».
«Я должна поехать в…»
«В таком случае – в какой другой день?»
«Ладно, хорошо. Хорошо. В „Байд-Э-Уи“?»
«Да. Я считаю… я считаю, это в наших общих интересах».
«Хорошо. До свидания».
«Хорошо. До свидания».
* * *
Так, значит, она уже напугала ее. Если ничего больше, по крайней мере она сделала это, получила первоначальное преимущество, и Элен чувствовала, что вооружена для борьбы. В половине двенадцатого она сказала Элле, что надо дать Моди на ленч, и уехала на автобусе в город в кафе «Байд-Э-Уи».
К полудню на город спустилась страшная жара, и Элен уселась в уединенном уголке кафе, под электрическим вентилятором, который, словно чудовищный черный цветок, сонно поворачивался от стены, делая полукруг и разбрасывая тщедушные струйки жаркого воздуха. Вдалеке на судоверфи раздался свисток, разорвавший полуденную тишину, возвещая прибытие служащих, которые вскоре и показались – поодиночке или парами, вытирая белыми носовыми платками шеи: «Иисусе, ну и жарища же небывалая!» Но Долли не появлялась, и Элен продолжала сидеть в кафе, немного опасаясь того, что какой-нибудь мужчина узнает ее и сделает определенные выводы, но тут пришла Долли. Они знали про Милтона и Долли. Они знали. А может быть, нет? Мужчины… Огромная негритянка принесла Элен стакан с водой и оставила мокрые кружки на бумажных салфеточках. Наконец Элен поднялась, готовясь уйти, но в зеркале вешалки для шляп из орехового дерева, стоявшей в коридоре, она увидела, как Долли открыла оплетенную сеткой дверь и остановилась, озираясь, разгоряченная и несчастная. Элен слегка улыбнулась и помахала ей, Долли подошла и, отводя глаза, села, извинившись и осмотрительно заметив про жару. Появилась, вытирая лоб, официантка с напечатанным меню.
«Что бы вы хотели, моя дорогая?» – спросила Элен.
«Ну, право, я не голодна, – со смущенной улыбкой сказала Долли. – Разве что, пожалуй, чаю со льдом».
«Ну что вы, надо кушать, – поспешила сказать Элен, – особенно летом. Я слышала, что человек теряет так много, что… официантка, мне фрикадельки из семги и чай… что… я хочу сказать… – И она подняла на Долли глаза. – Человек, понимаете, так потеет, что надо есть, чтобы уравновесить эту… потерю. Это, конечно, одна из теорий».
«Да, – произнесла Долли, оглядывая со страдальческим видом кафе, – сегодня, конечно, особенный день».
Официантка нагнулась к ней.
«Вам больше ничего не нужно, мэм?»
«Нет, – сказала Долли, – нет».
«А как ваш комитет? – продолжила разговор Элен. – Я не помню, когда была в Загородном клубе. Боюсь…»
«О, отлично. О, отлично».
К часу они подошли к концу дороги, представлявшей взаимный интерес, и обследовали все тропинки; говорила главным образом Элен: ей приятно было сознавать свою ненависть к этой женщине. Более того: она уже считала себя победительницей, восхитительно царственной, она могла в любой момент нанести coup degrace[4]4
Смертельный удар (фр.).
[Закрыть] и безо всяких унизительных подготовок. Она распалилась, но была лишь слегка взволнована. Она подумала, что в течение тех лет, когда она знала Долли – не важно, что едва-едва и со скрытым подозрением, – она более или менее всегда так себя чувствовала. Есть люди, которые – когда встречаешься с ними после большого перерыва, – заставляют тебя собирать в уме все крохи информации, могущие, как тебе известно, интересовать вас обоих, а когда эти залежи исчерпаны, больше уже не о чем говорить, и тогда этот человек приводит тебя в смятение. Таким человеком была Долли, хотя сейчас – будучи страшно сконфужена – она, казалось, не готова была что-либо сказать, и Элен, остановившись на полуслове, обвела глазами зал, глядя на мужчин, выходивших один за другим, наевшихся, вялых, почесывающихся, оставлявших позади слабый голубой запах сигар. Они с Долли остались одни. Движение по улице, затихшее на время ленча, лениво возобновилось. Элен закурила сигарету.
«О, – проговорила она, – я помню Элен Дэвисон – это та, от которой ушел муж-моряк, и это принесло ей всевозможные неприятности. Все перестали с ней разговаривать. Ну, она действительно была ужасным человеком, и вы можете догадаться, как это влияло на его карьеру».
«Да», – сказала Долли и застенчиво подняла голову, и Элен увидела над ее губой усы из мелких капелек пота.
Они обе помолчали.
Наконец Элен произнесла: «Не хотите ли кофе?»
«Нет, благодарю, нет, право же, мне пора идти. В понедельник Мелвин возвращается в школу, и мне необходимо кое-что ему купить». Она отважилась изобразить намек на улыбку, словно предложение Элен выпить кофе действительно указывало – несмотря на телефонный разговор, – что это, в конце концов, просто светская встреча. Это была улыбка амнистированного заключенного, и улыбка расплылась по ее хорошенькому лицу и неожиданно перешла в смех избавления. «Милочка, – взвизгнула она, – сколько времени мы на них тратим – на наших детей, верно? Мелвин – вылитый отец, этот старый толстяк. Ему шестнадцать, представляете, а я должна покупать ему брюки тридцать шестого размера. – Она помолчала, улыбнулась и посмотрела на свои часы. – Ну…»
Вот теперь.
«Послушайте, – сказала Элен, наклоняясь вперед. Опять она не могла заставить себя назвать Долли по имени. – Я хочу поговорить с вами о серьезных вещах».
Долли повернулась к ней – настороженная и напряженная.
«Ну конечно, а в чем дело?»
«Сейчас приступлю к изложению, – сказала Элен без улыбки, но и без злости, держа себя в руках. – Речь идет о моем муже. Теперь послушайте… теперь, я думаю, вы знаете, почему мне хотелось встретиться с вами. Послушайте… – Она приподняла брови и, не отрывая руки от стола, предостерегающе покачала пальцем. – Я, право, считаю, что вытерпела достаточно, верно? Видите ли, у меня есть семья, которую я считаю очень важной частью моей жизни, очень важной. Ну и есть кое-что еще: приличие, вернее, неприличие происходящего, если вам понятно, что я имею в виду, и откровенно… послушайте: откровенно говоря, я устала слушать эти намеки и слухи о том, как ведет себя Милтон. Я знаю, Милтона есть в чем упрекнуть, у него много недостатков, как, я подозреваю, и у всех мужей, но я хочу, чтобы сейчас было совершенно ясно, что я не позволю вам больше так себя вести». Произнося все это, она уже понимала, что ничего хорошего не получается: она, похоже, утратила преимущество, даруемое неожиданностью, лицо ее вдруг запылало, а Долли к тому же не была раздавлена, на что надеялась Элен, а лишь смотрела на нее внимательно, спокойно, задумчиво прикусив нижнюю губу. «Вам ясно, что я имею в виду, – продолжала Элен ровным голосом, – я не собираюсь вам мстить. Я предлагаю вам сейчас изменить свое поведение, и тогда мы скажем: все забыто, живите и давайте жить другим и тому подобное. Вам ясно?» Какого черта, что произошло?
Долли лениво потянулась, весь страх прошел, словно при встрече с соперницей ее опасения, волнения перед схваткой исчезли. Она медленно потянулась, подняв сжатые руки к потолку, и издала какой-то неприятный звук, похожий на рычание, – звук, говоривший об апатии, безразличии.
«Милочка, – она со вздохом опустила руки, – я просто понятия не имею, о чем вы говорите».
«То есть… – Элен такого не предвидела: ярость. – Какого черта, что вы хотите сказать? Что вы хотите сказать, говоря, что не знаете, о чем я говорила? Я скажу вам, о чем. И вы это прекрасно знаете. Вот уже шесть лет, как мне известно про вас и Милтона. Шесть лет. Вот о чем. Смотрела, как вы одурачиваете его! Разрушаете мою семью – вот о чем! И вы не знаете, о чем я говорю! Бог мне свидетель…» Как она потеряла власть над собой, как быстро исчезла ее твердая решимость! Это хитроумное тайное оружие Долли – безразличие, самоуверенное, спокойное отрицание – превратило ее атаку в дикую сумятицу. И Элен быстро произнесла, громко и ясно: «Вы же понимаете, что я хочу сказать, верно? Вы разрушаете мою семью, потому что вы эгоистка, аморальная, порочная женщина. Шесть лет вы прокладывали путь к Милтону, а теперь, когда моя дочь уехала в школу, он еще больше нужен мне, и я не потерплю этого! Понятно: просто не потерплю!» Она погрозила Долли указательным пальцем, затем, дрожа, орошая проклятиями весь «Байд-Э-Уи», вытянула всю руку. Пожилая миссис Проссер, которая была тут управительницей, появилась в дверях вместе с группой негритянок с вытаращенными глазами. «Я не стану, прострадав шесть лет, – кричала Элен, – планировать… предвидеть, что проведу… проведу остаток жизни рабой вашей непристойной грязи!»
Долли поднялась, взяла свою сумку и зонт. Она бросила холодный взгляд на Элен.
«Подождите немного, – тихо произнесла она. – Просто подождите. Я все выложу в открытую, чего вы никогда не сделаете. О’кей. Послушайте, – прошептала она, нагнувшись к Элен, – если я совращала Милтона – совращала в вашем понимании, – так это было не в течение шести лет. А произошло это, милочка, две недели назад в Загородном клубе на устроенных вами танцах. Вот видите, я и призналась. И мы с Милтоном будем вместе так долго, как он этого захочет. И мне безразлично, сколько или где, милочка, люди говорят об этом. Потому что я люблю его, а это больше, чем вы ему даете, и вы это понимаете».
Она просунула руку в петлю на зонте – медленно, без усилий, словно собираясь за покупками, да она и собиралась.
«А теперь, – сказала она, – мы подняли тут шум, так что я лучше пойду. Не говорите о шести годах, моя дорогая, потому что это неправда. Только запомните: поступки Милтона объясняются тем, что он был просто одинок. Запомните это». И Долли швырнула на стол доллар.
Затем она повернулась и пошла, презрительно стуча высокими каблуками по линолеуму, прошла мимо миссис Проссер и изумленных официанток и вышла.
«Так вот?!» – воскликнула Элен, приподнявшись со стула, но слова ее повисли в жарком, душном воздухе, где шуршали передники и юбки и звучало хихиканье исчезавших из зала негритянок.
Через несколько минут Элен села на автобус на углу Двадцать восьмой улицы и Вашингтон-авеню и, погруженная в свои мысли, не заметила, что ее монета проскочила мимо отверстия и упала на пол. Шофер многозначительно посмотрел на нее, но это тоже прошло незамеченным. Придется ей просто молчать, подумала она, сидя в слегка раскачивавшемся автобусе, уносившем ее домой. Выход придет. Сама она, конечно, не грешила – только, пожалуй, слишком часто приходила к неверным выводам: была чересчур нетерпима… Да, молчи, терпи все и, главное, старайся выбросить из головы безграничные ошибки вроде нынешней… Ох какой позор! Унижение! Да ладно… забудь это, забудь.
В тот вечер она сидела в своем саду одна, когда Милтон вернулся из Суит-Брайера. Она рассказала Кэри, как Милтон, поставив машину и нырнув на минуту в дом – наверное, чтобы заглянуть в туалет, – вышел оттуда и сел рядом с ней.
«Ну вот, – сказал он, покачивая в руке стакан с виски, – наша девочка теперь стала взрослой студенткой».
«Все прошло хорошо?» – спокойно спросила его Элен.
«О, прекрасно. Что за ребенок! Она будет королевой красоты. Она выделяется точно бриллиант в куче угля, как говорят ниггеры. Уже теперь».
«О, как это приятно, – сказала Элен. – Жаль, право, жаль, что я не поехала. Я плохо себя чувствовала вчера вечером. А сегодня утром я чувствую себя, право, лучше. Я, право, приятно провела день».
«Отлично, – сказал он без особого интереса. – А как Моди?»
«В порядке. Она сегодня днем качалась на качелях на площадке. И немного устала».
«М-м-м».
Какое-то время они молчали. Затем Элен сказала: «По-моему, я слышала, вы разговаривали сейчас с кем-то в доме?»
«Угу, – сказал он. – Я звонил».
«О-о. – Она помолчала. – Надеюсь, Пейтон будет хорошо учиться, а не только стараться стать королевой красоты. Если она хочет стать кем-то…»
«О, Элен, – произнес он с легким смешком, – ее какое-то время не будет это волновать. И вам это известно. Ее будут волновать мальчики. Прежде всего. Она умный ребенок».
«Да. Меня это тоже волнует. Мальчики».
«С ней все будет о’кей».
«Надеюсь». Разговор снова прервался. Наконец Элен спросила: «Она ничего не говорила про меня… про то, что я сегодня не поехала?»
«Угу, да, она сердилась. Была обижена. Она вас не понимает. Я сказал ей, что вы разнервничались – из-за Моди и вообще. Она знает об этом».
Элен молчала и в известной мере удивилась, когда слезы потекли по ее лицу, – это случалось так редко. А Милтон потянулся, зевнул, встал – при этом слегка хрустнули окостеневшие суставы.
«Ну… – он зевнул, – я пошел спать. Завтра мне надо быть в Центральном управлении и встретиться с Питерсоном по поводу документа. Что с вами, Элен?»
Она молча покачала головой и протянула ему руку, до которой он не дотронулся или не заметил ее.
«Спокойной ночи, Милтон, – с трудом произнесла она, поскольку у нее сдавило горло. – Извините меня».
«За что, Элен?» – мягко спросил он.
«Ни за что, – быстро произнесла она, сердце ее так и стучало. – За все».
«Спокойной ночи».
Что-то в его голосе сказало ей, что он удивлен, даже приятно удивлен ее кротостью, ее благопристойностью. Или это слабость? Но он, видимо, был удивлен, ничего больше не мог сказать и потому ушел в дом. Это было большим сближением, подумала она, и все же недостаточным, чтобы успокоиться.
«О, как он может так благопристойно вести себя со мной?»
Элен высморкалась; на ее лоб сел комар. Она встала. Лунный свет заливал ее сад, и тени возникали одна за другой – умирающие цветы, гранат, застывшие деревья. Она опустилась у клумбы на колени. Даже за один день мертвые лепестки снова усеяли землю, и она стала собирать их, пока не набрала целую пригоршню. Она подняла глаза. Над ней висели гладкие листочки мимозы, застывшие в воздухе, отражая лунный свет словно бледные рукава воды. Элен подумала о Боге – это было мучительно: он не возникал в ваших размышлениях, это было все равно что пытаться представить себе далекого предка.
Кто же он?
Лепестки выпали из ее руки – сухая, призрачная шелуха; где-то с грохотом закрылась дверь, и летучая мышь, тихо взлетев, нырнула сквозь сумрак вниз и исчезла среди карнизов. «Я не сдамся, – думала Элен, – я не сдамся». В темноте серый дым от ее сигареты взмыл вверх, как надежда, и – «Я не сдамся»… Но что это даст? Одиночество окружало ее словно гора высохшей травы.
Сейчас, когда Кэри сделал на улице разворот, слева от него появились дома, обращенные к заливу. Среди них не было особняков, но это были просторные дома, стоявшие на подстриженных лужайках и сейчас, в середине дня, затененные густыми деревьями с ярко-зелеными листьями; все они в этот летний день казались прохладными, тихими, приятными домами. Дом Лофтиса находился всего в двух кварталах отсюда, и Кэри поехал дальше в тени деревьев, страдая от жары, погруженный в думы и расстроенный. В какой-то момент тишину прорезал вой пылесоса, но он затих, да где-то ребенок, которого не тревожила жара, отчаянно вскрикнул. А Кэри продолжал ехать и волноваться: что он скажет Элен? Время от времени он посматривал на дома, словно желая отвлечься, но тотчас отворачивался – в его памяти сохранялись лишь мелькавшие видения: хорошо ухоженные дома, погруженные в дрему тяжелой летней жарой, старичок, обрабатывающий клумбу, большая белая кошка, спящая на мотке садового шланга, а там – женщина с повязанной платком головой замерла, устало вытирая лоб и глядя с надеждой в небо сквозь увядающие сморщенные листья.
Что он скажет Элен? Да что он может сказать? Что он вообще способен сказать ей? По сути, ничего. И даже огорчившись – в этот момент самоосуждения ему вдруг пришло в голову, что солнце будет сиять так весь день, озирая все со своей верхотуры, не отбрасывая теней, – он почувствовал острый укол досады и злости: она не пойдет на компромисс, не сделает уступок. А это было плохо, неправильно. Тем не менее он не мог ей это сказать – не сегодня. Наверное, вообще никогда. Он не смог сказать ей это в тот вечер или в другие вечера, когда она приезжала к нему – холодная, педантичная, вначале сдержанная, повторявшая в основном все те же вымученные описания отдельных проступков, общих проступков, мучительные обвинения, справедливые обвинения, разнившиеся лишь в мелких деталях: «Я написала Пейтон три письма, Кэри, и она не ответила. Все благодаря Милтону, я знаю: он ей тоже пишет, развращая ее сознание…»








