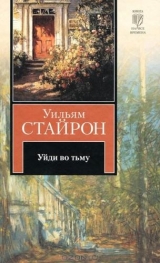
Текст книги "Уйди во тьму"
Автор книги: Уильям Стайрон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц)
– Мы еще не решили… – Грудь миссис Ла-Фарж приподнялась, задрожала; блестки на платье замигали как глаза. – …решили… решили. Чарли еще так молод… он такой уравновешенный, трезвый мальчик… Скорей всего станет вице-президентом института.
«Милтон и Долли. Им меня не обмануть. Доктор Холкомб говорит, что эмоциональные волнения после сорока могут вызвать физические осложнения, менопаузу, они, видите ли, требуют серьезных изменений, гормональной перестройки. Астро… генезиса. Вспомнила слово. О, это жуткая история».
Элен по рассеянности закурила сигарету, забыв про миссис Ла-Фарж.
– Извините, – сказала она, улыбнувшись и предлагая ей портсигар.
Но миссис Ла-Фарж сказала:
– Нет, благодарю, дорогая, я никогда к этому не притрагиваюсь. Мы отказались от курения ради Чарли – оба: Чет и я, – потому что…
«Потому что… О, это жуткая история. Потому что это тянется вот уже шесть лет – у Милтона же роман с этой женщиной. Она знает. Они что – ожидали, что она не узнает? Просто, чтобы быть в состоянии сказать…
А что она скажет? Как?»
«Миссис Ла-Фарж, послушайте, – могла бы она сказать, – мне не хотелось никому говорить, потому что… потому что у меня ведь тоже дети, и вы понимаете… Послушайте, миссис Ла-Фарж, наконец-то это пришло мне в голову. Милтон и Долли Боннер. Вы, возможно, этого не заметили. А я… это требует развода. Нет, это не должно вас так пугать, право. Нет, но это пришло мне в голову».
И потом она могла бы сказать: «Ох, если б вы знали, сколько я вытерпела за все эти годы. Вы были на Рождество у Ленхартов два года назад? Да, были, верно? Да, я заметила, хотя вы, возможно, и нет. Как они держались за руки и целовались, словно играючи. Не важно, что это была игра. Я все видела.
По-моему, они встречались и в других местах. У меня нет доказательств, но я уверена…
Разве вас не было в прошлом году на танцах у Пэйджес? Я видела, как они в вестибюле строили свои грязные планы. Я знаю, что это было так: глаза у них блестели, и руки встречались…
Но я никогда не скажу об этом».
Миссис Ла-Фарж взвизгнула.
– О, вот и Честер. Придется потанцевать. – Она с трудом поднялась со стула. – Увидимся потом.
Элен осталась одна. Горизонт был затянут черными облаками, вдалеке громыхал гром. Наступали сумерки. Ей было плохо в одиночестве – никто ведь, кроме того прыщавого парня, не приглашал ее танцевать.
Внезапно вместе с музыкой, смехом, погибающим в серых сумерках, и тающим над лужайкой дневным светом ей привиделось страшное видение: она была дома, в постели, окутанная тьмой, и вдруг проснулась от звука его шагов. Он стоял, как всегда, у ее кровати и смотрел на нее. «Элен, Элен, это не может так продолжаться, – сказал он с этим своим холодным наигранным смешком. – Я-то думал, что у нас снова все наладилось».
«Я плохо себя чувствую», – сказала она, а сама думала: «Я видела, я видела, как они оба жаждут друг друга. Как встречались их руки…»
«Мне плохо».
И думала: «О, я хочу любить его. Право, хочу. Снова».
Он ушел, не произнеся ни слова. И когда в этом таком знакомом, таком реальном и, однако же, вымышленном и странном видении он ушел, она снова рухнула на кровать или, вернее, в кромешную тьму, понимая, что всего лишь одним словом – «да», или «прости», или «люблю» – она, возможно, поставила бы все на свое место, выбросила бы всех фальшивых, мстительных и будоражащих демонов в окружающий их ночной воздух, и все снова пошло бы как надо. Но она опять погрузилась во тьму, дверь закрылась, загородив прямоугольник света, на время проникший в комнату, в ее дом, загородив от нее все, так что теперь, в полусне, грезя наяву, отчаянно желая заснуть, она стала думать о былых днях, прошедших в армии, о несущихся издали обволакивающих звуках труб на параде и о военной форме отца, которую было так успокоительно приятно гладить, мечтая забыться в объятиях этих сильных и преданных рук.
Она подняла глаза.
Пейтон, шестнадцатилетняя девушка, улыбаясь, шурша голубым шелковым платьем, бежала к ней.
– Мама, мама, не валяй дурака. Пошли танцевать.
– Что это ты пьешь?
Вспыхнув, Пейтон опустила глаза.
– Да просто пунш, мама.
– Пойдем со мной.
Пейтон покорно пошла, и они вместе стали пробираться сквозь толпу молодых людей и девушек, где стоял запах духов, слышались веселые выкрики: «С днем рождения!» А в туалете чернокожая девушка, почувствовав что-то серьезное, какие-то неполадки у белых, благоразумно вышла. Элен повернулась к дочери.
– Дай мне стакан. – Глотнула. Виски. Повернулась и вылила содержимое в туалет. – Это тебе дал твой отец, да?
– Да, – смиренно произнесла Пейтон. – Он сказал, что вдень моего рождения…
Она была красивая, молодая, и два этих обстоятельства вызывали горечь и тревогу у Элен.
– Я этого не потерплю, – сказала она. – Я видела, как твой отец губил себя пьянством, и я не потерплю этого. Ты поняла?
Пейтон посмотрела на нее.
– Мама… – начала было она.
– Замолчи. Я не потерплю этого. Собирай свои вещи. Я увожу тебя домой.
С минуту Пейтон молчала. Потом подняла глаза, буйно, возмущенно тряхнула волосами.
– Я презираю тебя! – сказала она и ушла.
Красная, дрожащая, Элен вернулась на террасу. Милтон весело улыбнулся ей. Она отвернулась. Над лужайкой пронеслось облако, и день стал темным, как в зашторенной комнате. Ветер потряс деревья вокруг террасы, разметал волосы девушек и, издав легкий вздох, ослаб, и день снова восторжествовал вместе с хлынувшим светом: с лужайки слетела тень, перескочила на бассейн, исчезла. Внизу в солнечном свете Элен увидела знакомую фигуру.
«Ох, Моди, дорогая моя».
И, приподняв юбку, она побежала вниз. Моди сидела одна в кресле возле бассейна, ела мороженое, вытянув перед собой оплетенную ремнями ногу, и флегматично смотрела на реку и приближающуюся грозу. Элен подошла к ней, нагнулась и, глядя ей в лицо, сказала:
– Пошли, дорогая. Пойдем со мной. Мы уезжаем домой.
Моди тихо подняла глаза, по-прежнему спокойная, взгляд по-прежнему безмятежный и пустой.
– Да, мамулечка.
– Пошли же.
– О’кей, мамулечка.
Элен взяла ее за руку. Над рекой с треском грохнул гром, купальщики помчались из бассейна, на террасе с первыми каплями дождя раздались взволнованные голоса. Музыканты бросились в дом, таща с собой пульты и саксофоны, а на террасе стоял Милтон, разговаривая с Пейтон.
«Она не питает ко мне ненависти. Не питает. Не питает. Она просто не может ненавидеть меня».
Когда Пейтон с надменным видом выскочила из дамской комнаты в холл, там ее поджидал Чарли Ла-Фарж.
– Пейтон, – окликнул он ее, – куда это ты направилась? Пейтон! Эй, красотка! – И он свистнул.
Пейтон быстро, без единого слова прошла мимо него и направилась через бальный зал на террасу, где ветер приближающейся грозы все еще разносил веселый грохот труб.
– Эй, Пейтон. Что с тобой? Эй, красотка!
Все мальчишки звали ее «красоткой». Да она и была красавицей. У нее были карие, всегда очень внимательные глаза – они, как и рот, делали ее лицо вдумчивым и любознательным. Ее губы, довольно полные, были всегда слегка приоткрыты, словно мягко, терпеливо спрашивая: «Ну и?..» – у всех этих молодых людей, которые, с тех пор как она себя помнила, вертелись вокруг нее; их невнятные, неразличимые голоса вечно жужжали словно десятки пчел. Волосы, обрамлявшие ее лицо, были темно-каштановые и обычно коротко подстриженные, и к двенадцати годам она уже потеряла счет мальчишкам, предлагавшим ей выйти за них замуж.
Сейчас, сокращая путь, она прошла через Музей гольфа, гордость клуба, – просторную, залитую солнцем комнату, выходившую на террасу, где аккуратными рядами стояли блестящие клюшки, и ниблики, и короткие клюшки, которыми пользовались Бобби Джонс и Томми Армор в том или другом состязании, а также мячи для гольфа, словно бесконечные ряды поцарапанных и обрезанных голубиных яиц, которыми люди вроде Джонни Револта побеждали в Западных открытых чемпионатах в 1929 году. Пейтон на все это не обратила ни малейшего внимания; она быстро прошла в дверь и вышла на террасу – ленточка зеленых конфетти пролетела по воздуху и тихо опустилась ей на волосы. Капли дождя, словно серебряные доллары, начали падать на пол, и Чарли Ла-Фарж, шедший за ней, взял ее за руку и сказал:
– Пошли, красотка, давай станцуем, пока не разошелся дождь.
Она отрицательно покачала головой и, выдернув из его пальцев свою руку, оглядела террасу.
– Пойдем же, лапочка. – Печально, умоляюще.
Она никак не отреагировала. Она направилась к отцу, который, раскрасневшись и улыбаясь, смотрел, склонив голову, в лицо Долли.
– Это обогатит мужчину, – говорил он.
Пейтон потянула его за локоть.
– Зайка, – сказала она. – Оторвись на минутку. Мне надо поговорить с тобой.
Лофтис и Долли остановились в танце.
– Что случилось, крошка?
– Пошли, зайка, я просто должна поговорить с тобой. Извините, миссис Боннер.
Брови Долли недоуменно поползли вверх.
– В чем дело, милочка?
– Да ну же, зайка!
– Извините, Долли, – сказал Лофтис.
Пейтон отослала прочь юношу, жаждавшего потанцевать с ней, и потащила Лофтиса в Музей гольфа. Там было темно. В помещении пахло промасленной кожей, протухшими трофеями. Они с Лофтисом сели на диван. Рядом, в бальном зале, музыканты расставляли свои пульты, чтобы продолжить танцы, а юноши и девушки спешили туда, спасаясь от дождя.
– В чем дело, крошка?
Пейтон заплакала уткнувшись головой в колени.
– Мама говорит, что я должна идти домой!
«Тьфу, черт побери», – подумал Лофтис. Он принес с собой стакан с пуншем, который весь день пополнял, и сейчас, сделав большой глоток, погладил дочь по волосам и неуклюже спросил:
– Почему, детка? Почему она сказала, что хочет тебя увезти?
– Потому что, – сказала Пейтон. – Потому что… потому что, сказала она, что ты дал мне виски, а я сказала ей, что это же день моего рождения и ты дал мне всего одну порцию и совсем немножко… ох, зайка! – Она выпрямилась, держась за его локоть, и слезы исчезли так же быстро, как появились. – Это же пустяк, правда, Заинька? Правда? Скажи ей, папа! – гневно произнесла она. – Не могу я ехать домой. Ничего хуже я никогда не слышала! – У нее был такой вид, точно она сейчас снова заплачет, и он привлек ее к себе, чувствуя на своей ноге ее руку.
– Видишь ли, – рассудил он, – не следовало мне давать тебе виски. Это был, пожалуй, мой самый глупый поступок за неделю.
«Действительно глупый», – подумал он. Виски было идеальнейшей наживкой для скандала. Вот уже двадцать лет Элен считала, что напиваться – это величайший проступок даже для него, а теперь дать ей повод думать, что он развращает молодое существо… о Господи.
Пейтон отодвинулась от него и положила руку ему на плечо.
– Зайка, – сказала она, – скажи ей что-нибудь. Скажи, что мы ничего плохого не замышляли. Скажи ей, хорошо?
Он взял ее руку.
– О’кей, детка. Тебе не придется ехать домой. Мы позаботимся об этом. А теперь улыбнись.
Пейтон не стала улыбаться; она задумчиво склонила голову набок, так что короткие волны каштановых волос частично закрыли ее лицо. И произнесла веско – так, что слова ее, достигая сознания Лофтиса, преисполняли его нелепом и жутким страхом:
– Зайка, я не знаю, что не так. Страшно такое говорить, и я не знаю, как это высказать – так это страшно. Но она все время так поступает и, наверное, считает, что это правильно, а я ничего не могу с собой поделать, зайка, я просто не люблю ее. – Она подняла на него глаза, помолчала и покачала головой. – Зайка, – повторила она, – я просто не думаю, что люблю ее.
Она поднялась с дивана и стояла, повернувшись к нему спиной. Он встал, пошатываясь, повернул ее к себе и притянул ее голову к своей груди.
– Лапочка, – прошептал он, – ты не должна такое говорить. Твоя мама… ну, она всегда была… ну, она всегда нервничала и была легковозбудима и… ну, она ведь так не думает. Она…
– Она не должна тащить меня домой.
– Нет. Мы это уладим. Нет. Но, лапочка…
Он прижал ее к себе. Сырой холодный туман – отчасти темнота, отчасти алкоголь, отчасти собственное смятение – застлал его зрение. Он чувствовал, что любит Пейтон больше всего на свете. Он поцеловал ее. Что до Элен – ну ее к черту. Он снова держал в руке стакан с виски и поднес его к губам Пейтон.
– А теперь, лапочка, – сказал он, – не волнуйся. Возвращайся туда, веселись и танцуй. Тебе не надо ехать домой.
Пейтон сделала большой глоток виски.
– О’кей. – Она посмотрела на него. – Ох, зайка, ты такой милашка.
Она поцеловала его – словно капелька дождя упала на его щеку – и, пошатываясь, вышла из комнаты. Он смотрел ей вслед: дверь, придерживаемая воздухом, с шипеньем, открылась, и он остался один в музее с мячами для гольфа, и медалями, и сиреневым угасающим светом. Он снова опустился на диван.
Несколько минут он сидел так, глядя в окно. Танцы, после того как он прогнал мяч по восемнадцати лункам, утомили его; он понимал, что опьянел больше, чем следовало, а ведь вечер еще не кончился, но стакан его был пуст, если не считать двух кубиков льда. Он тоскливо подумал, что надо его наполнить. За дверями он слышал музыку, топот ног. Он подумал, что это танцуют джиттербаг. В открытое окно проникал прохладный воздух, но и дождь, поэтому он опустил окно. Противоположный берег реки был закрыт стеной дождя, лившего из летних, белых как молоко, облаков; склон под окном выглядел так, будто он смотрел на него сквозь зеленый кварц: темное поле для гольфа, пустынное, исхлестанное ветром и дождем; затопленные ивы у реки, днем такие чинные и женственные, сейчас тряслись и дрожали, вздымая свои ветви, словно руки обезумевших женщин, к льющему с неба дождю. Вниз по реке, близ берега, плыло суденышко ловцов устриц, и Лофтис, разомлев от тепла и большого количества выпитого виски, должно быть, задремал – правда, всего лишь на минутку, поскольку, когда открыл глаза – да закрывал ли он их вообще? – суденышко лишь на несколько ярдов продвинулось вдоль берега. Слегка озадаченный, встревоженный, тупо глядя на реку, он подумал: «Что это мне привиделось?» А снова задремав, он увидел костер, столб дыма, угрожающе трепыхавшийся на горизонте, и похожий на травинки гонимый ветром дождь, мгновенно рассыпавшийся на свету. Глаза его открылись – было почти темно; суденышко ловцов устриц исчезло за завесой из качающихся ив.
«Мне надо выпить…»
Внизу, в раздевалке, он достал из своего мешка для гольфа пинту «Хайрем Уокер», выпил и вернулся в бальный зал, где на площадке лестницы, ведущей наверх, обнаружил Долли.
– Ой, Милтон, дорогой мой, я всюду искала вас.
– Как дела, крошка?
– Ой, Милтон, что случилось? У вас такой вид, будто вы увидели привидение.
– Дело в Элен, – сказал он. – Она сказала, что увозит Пейтон домой.
– Как глупо!
– Да, – сказал он.
– Но почему?
– О-о, я не знаю. Я дал ей глоток виски, чтобы развеселить…
– О-о, вот оно что. Как глупо!
– Угу. – Он вздохнул. – Не следовало мне давать ей…
– Нет, – сказала Долли. – Я хочу сказать: как глупо с ее стороны… – Она помолчала с высокомерно-безразличным видом. – А в общем, – произнесла она с легким ледяным смешком, – это, знаете ли, право, не мое дело.
– Нет, – сказал он. – Я хочу сказать: верно. Это было глупо. Глупо с моей стороны, глупо – с ее. Но, – добавил он задумчиво, помолчав, – она не увезет Пейтон домой.
– Когда же это произошло?
– Как раз перед дождем, – ответил он, – по-моему, всего несколько минут назад. По-моему, она что-то заподозрила.
– Да, – произнесла Долли с легким сарказмом, – представляю себе.
Лофтис устало оперся на перила лестницы.
– Сегодня утром я прогнал мяч по девяти лункам и еще по восемнадцати. Это меня чуть совсем не измотало.
Он умолк, и она подошла к нему – он вдохнул запах ее духов, острый, сладкий запах, интимно-кокетливый, непреодолимый, как запахи в этих рекламных пробах, – приятный извечный запах, напоминающий об изгибах плоти. Запах был всегда один и тот же – Лофтис отождествлял этот запах с ней; вот так же, стоя в смутном, неловком и часто – к его невероятному удивлению – необъяснимом ожидании на каком-нибудь приеме, он отождествлял вдруг открывшуюся входную дверь, веселое приветствие – порой слишком шумное, но всегда восторженное, и радостное, и теплое – только с ней; порой ему казалось, он знает: она близко, – даже прежде, чем она входила в комнату.
Он посмотрел на нее. Она повернулась и тоже оперлась на перила. Праздник проходил далеко, стены скрадывали шум.
– Черт подери, – вдруг произнес он. – Что это еще за пуританская мораль… этакое дерьмо? Почему, вы считаете, я должен это терпеть? Почему, вы думаете… – Он умолк, смутившись. Никогда прежде он не позволял себе так выражаться при Долли применительно к Элен. Сейчас он почувствовал, что это неуместно и ради неясного чувства приличия, запрещающего так попрекать свою жену, он должен исправить свой промах. Он сказал: – А-а, черт подери, – и ударил по перилам рукой, – может, я и в самом деле не знаю, как воспитывать детей.
– Ох, Милтон, – резко произнесла Долли, – не глупите уж. Это, право, не мое дело, но я считаю самым нелепым из когда-либо слышанного ее желание так поступить. На вашем месте – конечно, как я уже говорила, не мое это дело – я просто сказала бы ей, что об этом думаю. Надо же такое придумать!
Этот момент, вдруг показалось Лофтису, приобрел размеры гигантской беды, дилеммы, схизмы и ереси, и столь тонких моральных структур, что такому, как он – бедному адвокату, – нечего и намечать спасительную цепочку действий. Музыка издалека прорывалась сквозь стены пронзительными и сентиментальными завываниями. Дождь прекратился, слабый холодный свет проникал в окна, а вдалеке он слышал последние раскаты отступающей на восток грозы – словно бочки перекатывались через край ночи. Скоро будет совсем темно.
– Долли, – заговорил он (слишком пьяный, чтобы рассуждать логично, он, как ни странно, радовался возможности облегчить душу сентиментальностью), – вы, по-моему, единственная, кто меня понимает.
Из-под опущенных век она взглянула на него нежно и – он знал – понимающе.
– Я живу в Порт-Варвике двадцать лет. Я питал большие надежды, когда сюда приехал. Я собирался стать чертовски удачливым политическим деятелем. Я хотел растормошить город, штат, все. По крайней мере я думал, что к нынешнему времени стану главным прокурором штата. А посмотрите на меня сейчас – полнейший гнилой неудачник, кровосос, высасывающий из жены деньги, чтобы чувствовать себя хоть немного на высоте, подразумевая под этим возможность накачиваться виски, как любая шишка в городе, а под этим я подразумеваю… – И умолк. Исповеди не были его отличительной чертой, и хотя ему приятно было чувствовать себя немного трагиком, одновременно у него слегка перехватывало дух.
– Да это же не так, – горячо произнесла Долли. И сжала его локоть. – Не так! Не так! Вы еще станете большим человеком. Вы – прекрасный человек, удивительный. У вас есть замечательное качество, благодаря которому все хотят дружить с вами. Хотят разговаривать с вами. Вы просто так и… ну, в общем, светитесь!
– Позвольте мне докончить это за вас, – сказал он и, подмигнув, потянулся за ее стаканом.
С сияющими по-прежнему глазами она протянула ему стакан словно кубок, и он одним махом опустошил его. В маленьком холле становилось жарко, и он подошел к окну и открыл его. Осторожно сел на край подоконника – так, чтобы дождь не попал на брюки. Долли последовала за ним, шурша юбками. Она остановилась возле него и легонько положила руку ему на плечо.
– А знаете… – Он посмотрел вверх. – Знаете, по-моему, я впервые разговариваю с вами наедине. Я имею в виду: без докучливых ушей и глаз. Мы всегда так осторожничали.
– Как это понимать – осторожничали?
– Были осмотрительны, осторожны, застенчивы.
– Да что вы, Милтон, – рассмеялась она, – разве вы не помните тот раз, давно, в вашем доме? Мы были тогда одни. – Она стиснула его плечо, отчего по руке его пробежала приятная нервная дрожь. – Вы впервые назвали меня «сладким котеночком». Я это помню. А вы, Милтон-душенька, не помните?
– Да. – Он вспомнил. Это было давно. Пьяный и злополучный день, который был заморожен в его памяти. Он выбросил его из головы и подумал об Элен. Сейчас она, наверное, собирает вещи, зонты, галоши, и ему надо пойти и встретиться с ней – решил он с дурным предчувствием, близким к ужасу.
«Я боюсь Элен», – подумал он.
Он обнял Долли за талию и привлек к себе. Талия у нее была приятно мягкая, и, не сознавая, что делает, он пролез указательным пальцем в дырочку или ластовицу в ее платье и почувствовал под шелком кожу, податливую и очень теплую. Казалось, Долли была не против, поэтому он оставил там палец и начал гладить шелк, а Долли молча и сначала немного застенчиво стала поглаживать его затылок.
– Но, ей-богу, – произнес он вдруг, смущенный молчанием и чувствуя необходимость сделать какое-то заявление, – это вовсе не потому, что я не хотел быть с вами.
– Как и я тоже, – торжественно заявила Долли.
На дворе было темно, стоял туман. Яркий свет освещал бассейн; в лесах за ним тысяча лягушек и углокрылых кузнечиков устроили хаотичную пронзительную какофонию. Появились звезды и краешек летней луны, тогда как садовые столики, а также блестящие «бьюики» и «олдсмобили» на подъездной дороге, купались в призрачном, мирном свете, сквозь который музыка из отдаления плыла на террасу и взлетала к звездам. Лофтис не спеша, однако не без лукавого намерения, подбирался к резинке на трусах Долли; он думал: «Молодая, молодая», – а Долли сказала:
– Милтон, я хотела… – И погладила его по щеке.
Он встал и притянул ее к себе.
– Долли, – сказал он, – сладкий котеночек, по-моему, я люблю тебя.
Его руки обвились вокруг нее. И он прижался к ее губам долгим, исполненным безысходности поцелуем.
Японские фонарики расцвели над террасой как налитые пастельные луны, окрашивая каменные плиты пола в экзотические цвета – лиловый, светло-лиловый, призрачные крылья полуночной синевы. На столиках валялись флажки из гофрированной бумаги и бумажные шляпы среди сувениров, брошенных ленточек и брикетов таявшего ванильного мороженого. Юноши и девушки отправились купаться. Лофтис и Долли и мистер и миссис Ла-Фарж попивали виски с содовой – во всяком случае, этим занимались Долли с Лофтисом, а мистер и миссис Ла-Фарж, которые были родом из Дарема, штат Северная Каролина, принадлежали к трезвенникам. Праздник удался – было достаточно шума и беспорядка, а сейчас три негритянки обходили столики, где сидели, выпивая, матери и отцы, и там и сям убирали разбитую посуду.
Мистер Ла-Фарж сказал:
– Вы ведь жена Слейтера Боннера, верно? Как поживает старина Пуки? Я не видел его целую вечность.
Это был коренастый нудный мужчина с редкими волосами и большими темными зубами. Он продавал бакалею оптом, играл в гольф в начале восьмидесятых и был законченным подкаблучником у своей жены, которая на сорок фунтов перевешивала его и вечно шпыняла мужа за грамматические ляпсусы.
Долли кивнула:
– Пуки эту неделю в Ричмонде «по делу», как он это называет. В торговле недвижимостью все заняты по горло.
– Война… – начал было Ла-Фарж.
– Да, война – это ужасно, – перебила его миссис Ла-Фарж. – Все говорят: она должна начаться в любую минуту. Бедная маленькая Польша!
– Бедные мы, ты хочешь сказать, – изрек мистер Ла-Фарж. Он откинулся на спинку стула и проглотил большую порцию имбирного эля, показав при этом ряд темных лошадиных зубов. – Бедные мы, – повторил он.
Последовало ни к чему не обязывающее молчание, нарушаемое далеким кваканьем лягушек и стрекотом кузнечиков да слабыми вскриками и взвизгами из бассейна.
– Бедные мы, – повторил мистер Ла-Фарж.
Он говорил монотонно, без интонаций, как обитатель каролинского Пьемонта, и у Лофтиса, глядевшего на него сонными глазами – он переел и перепил и жаждал улечься где-нибудь, – было такое чувство, что, если они с Долли не уйдут тотчас же от этих людей, он погибнет от нервного срыва. Ну почему ему суждено вечно находиться среди низкопробных личностей, зубных врачей, торговцев недвижимостью и владельцев дорогих похоронных бюро? Чаще ездить в Нью-Йорк и слушать оперетты, встречаться с интересными людьми, бывать в студенческом клубе – вот это было бы славно. Долли толкнула его коленкой. Взять с собой Долли? Но тут Честер Ла-Фарж произнес:
– Не надо нам ввязываться в иностранные распри. Это сионисты Уолл-стрит втягивают нас в войну. Международные жулики.
Миссис Ла-Фарж хихикнула.
– Жулики, дорогой, – сказала она.
Ла-Фарж широко, осуждающе повел рукой.
– Жулики, крикуны – все одно. Я знаю только, что международные банкиры-евреи сговариваются, чтобы послать моего сына Чарли на войну.
Долли и миссис Ла-Фарж заинтересованно и одобрительно поддакнули в унисон, а Лофтис, которому все это наскучило и опротивело, смотрел вдаль. Бассейн, находившийся, казалось, бесконечно далеко, дрожал в его глазах, покрывшись в холодном жутком свете ярко-зеленой пленкой, которую полуголые молодые тела словно прорывали, ныряя с пугающе отчаянным порывом. «А ну, Пейтон!» – раздался юношеский голос, перевалив через темный склон вместе с приглушенным всплеском, и почему-то породил в Лофтисе легкую и неясную печаль. Уголком глаза он взглянул на Долли. «Неловкая ситуация, – подумал он, – сидеть тут с ней. Сидеть вот так, на виду у Господа Бога и еще бог знает кого: например, находящейся вон там Милли Армстронг, одной из ближайших приятельниц Элен». Невольно он вжал голову в плечи, точно хотел, чтобы они приняли его, может, за Пуки или за старика дядюшку Долли из Эмпории, но тут миссис Ла-Фарж произнесла с раздражающей прямотой:
– Куда, ради всего святого, подевалась Элен, Милтон?
– Ей надо было увезти домой Моди, – тотчас ответил он, сам немного удивляясь тому, как просто было соврать. – Вы же знаете… – Он слабо улыбнулся, повернул руки ладонями вверх и с сумрачным видом опустил взгляд на стол, как бы говоря: «Вы же знаете, как это бывает. Этот недуг, это бремя. Я, во всяком случае, это знаю».
– Бедняжка, – произнесла миссис Ла-Фарж, – бедное дитя. Она быстро устает, правда? Я имею в виду Моди.
– Да, – просто сказал он.
Лофтис осушил стакан, налил себе еще из бутылки, стоявшей под столом во исполнение закона штата, запрещавшего пить спиртное на публике. Нагибаясь, он задел плечо Долли и, как ему показалось, ощутил – со смутным чувством стыда, – что тот долгий поцелуй все еще горит на его губах. Мысленно он вернулся на несколько часов назад и вспомнил, как быстро они отстранились друг от друга. Этот поцелуй не только возбудил его, но и встревожил и напугал. Они отстранились не потому, что он того хотел, – ведь гладя друг друга и лаская, они обнялись в наступившей темноте, а когда на минуту разжали объятия, он почувствовал, как колотится сердце; ее руки были повсюду – на его руках, на щеках, на волосах, а на губах он чувствовал ее липкую помаду. И оба одновременно решили, прошептав:
– Нам надо быть осторожнее.
– Я увижу тебя позже, мой дорогой, – прошептала она и помчалась наверх.
А потом эта жуткая история с Элен. Совершенно жуткая. Совладав с собой, он бросил вниз с лестницы носовой платок, испачканный красным, и вышел, еще не вполне успокоившись, в холл как раз, как ему показалось, в тот момент, когда Элен стремительно вышла из бального зала, а за ней – Моди и Пейтон.
– Привет, дорогая, – тихо произнес он.
Вся на нервах, в волнении, в черном плаще с капюшоном, она несла уйму всякой всячины от дождя (такой он и представлял себе ее раньше): зонты – целых два, дождевик Моди и галоши; и последняя грустная деталь – бутылочка с аспирином, которую она сжимала в руке.
– Кто-то заболел?
Элен уложила Моди на диван и, нагнувшись, стала надевать ей галоши.
– Моди простудилась, – пробормотала она.
Пейтон с надутым видом подошла к Лофтису и продела свою руку ему под локоть.
– Привет, папулечка, – сказала Моди, с улыбкой подняв на него глаза.
– Привет, душенька. Послушайте, – сказал он, нагнувшись и постучав по плечу Элен. – Послушайте, – мягко повторил он, а в висках так и застучала кровь, – давайте, дорогая моя, договоримся. Пейтон остается здесь.
Элен выпрямилась и повернулась к нему с кривой неприятной улыбочкой – он мельком заметил, как у нее вздымается грудь, а также краешком глаза увидел, что помощник управляющего клубом, сидевший за своим столом, бледный разжиревший мужчина, пересчитывавший стопки монет, поглядывал на происходящее через свои бифокусные очки, которые казались пустыми кружочками, отражавшими дневной свет.
Элен улыбнулась и сказала:
– Здесь, с вами, чтобы вы могли накачивать ее виски. Ну так, – продолжала она, нагнувшись над галошами, поднимая с привычной нежностью оплетенную скрепами ногу Моди и застегивая ремешок, – это вы плохо придумали. – На мгновение умолкла. – Плохо придумали.
«Ах, значит, вот как? – повторил он про себя. – Плохо придумал».
Он стоял молча – руки в карманах – и наблюдал за ней. Никто из них не произнес ни слова. Пейтон, прильнув к отцу, тоже наблюдала за матерью, а Моди, лежа на диване, спокойно смотрела на эти руки, возившиеся с пряжками, штрипками и ремешками. Элен, слишком разгневанная, действовала неуклюже, хотя эта процедура, давно войдя в привычку, никак не требовала мастерства. Тщетно пыталась она натянуть галошу на металлическую пластинку – ничего не получалось. Лофтис, испуганный, не зная, на что решиться, и не пытался ей помочь. Или, вернее, он больше не боялся, а просто медлил, почему-то – как раз в этот момент – почувствовав, что принимает участие в случайно возникшей и малоприятной ситуации, которая – подобно нудным драматическим спектаклям в воскресной школе, в которых он в давние времена участвовал, – была не отрепетирована и поэтому явилась унылой докукой из-за бесцельных, неуверенных движений актеров и произносимого ими текста. Бывают такие минуты, когда действовать явно показано, но невозможно, и гневные слова, хотя и желательные и необходимые, не слетают с языка; просто удивительно: по непонятным причинам ты не в силах произнести эти полные яда слова – возможно потому, что в подобных случаях в атмосфере ненависти и горя все еще присутствует и спасительное дыхание любви.
Вероятно, Лофтис был слишком на взводе – может быть, поцелуй Долли после всех этих лет разрушил и уничтожил что-то. Трезвый, он боялся Элен: казалось, он бесконечно долго жил с ней не в браке, а в состоянии легкого раздражения; они, как негативные полюса магнита, постепенно, но решительно отталкивались друг от друга. Но сейчас – в доску пьяный – он осознанно, заносчиво считал себя хозяином ситуации и, наблюдая, как Элен яростно сражается с галошами и штрипками, что-то неистово бормочет словно одержимая, спокойно ждал возможности произнести свой текст.








