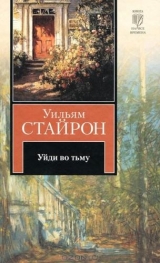
Текст книги "Уйди во тьму"
Автор книги: Уильям Стайрон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
– И что меня заводит, – с горечью произнесла Пейтон, – так это то, что она – после всего – по-прежнему не может сказать ни одного хорошего слова.
– Что за женщина. Жаль, что я с ней не встретился.
– Нет, ты этого не захотел бы.
– Мне б хотелось…
– А что она тогда наговорила, – перебила его Пейтон. – Это было ужасно. Я подошла к ней, а она отвернулась. Потом посмотрела на меня и сказала: «Это твоя вина. Твоя. Ты дала ей упасть, ты дала ей упасть». Бог мой, я даже не знала, о чем она говорит, пока она, как она выразилась, не «освежила» мою память. Я рассказываю тебе, Боже, о том, что было пару лет назад, когда я не удержала Моди и она поскользнулась…
– А Моди…
– Да, она даже не позволила мне увидеть ее. Я ушла. Я не могла больше это выдерживать. Просто ушла, даже не зная, как Моди на самом деле себя чувствует, она… не умирает ли или насколько все это преувеличено. Ну, ты понимаешь: чтобы произвести впечатление.
– Иисусе!..
– Она сказала, что я предаюсь распутству и пьянству, и что мне все безразлично. Это были ее последние слова.
– Иисусе, сладкая моя, это звучит как…
– Да. Она сумасшедшая. – Пейтон наклонила бутылку и глотнула виски, и часть жидкости вылилась на ее пальто из верблюжьей шерсти.
– Осторожно, – сказал он.
– Ох, Дик.
Успокаивая ее, он нагнулся и поцеловал в волосы. Выехав на более высокое место, на прямую, затянутую туманом дорогу, он поехал очень быстро, и Пейтон пробормотала:
– Люблю быструю езду.
Он прижал ее к себе. Теперь пошли большие голые поля, к югу показался клочок реки Раппаханок – эти места они знали: здесь дорога, дом или сарай, бесшумно пронесшиеся мимо погруженной в тишину машины, лишь обещали, что через несколько ярдов появится другой дом, или дорога, или сарай, каждый более знакомый, по мере того как они приближались к своему дому. Это была Северная Коса, край аккуратных пасторальных заборов, свежей древесины, пасущихся овец и англосаксов – эти последние говорили с нагоняющим сон акцентом елизаветинских времен, вставали на заре, ложились с наступлением сумерек и держались с кальвинистской страстью традиционной нетерпимости порока. Большинство были пресвитерианцами и баптистами, многие – епископалианцами, и все молились и охотились на куропаток с одинаковым пылом, и умирали в здравом уме и преклонном возрасте от сердечной недостаточности; судьба уготовила им жизнь в мирном и не подвергшемся завоеванию крае, где не было железных дорог и больших городов, и низменных плотских соблазнов, и когда они умирали, то умирали в большинстве своем ублаготворенными, с отпущенными скромными грешками. Они жили между двух рек и небом и так же бережно относились к своей глубинке, как это происходит в самом сердце Африки. Они полны были здорового и честного любопытства, при этом объектом его не являлась экзотика или нечто прибывшее с Севера, и запахом моря были наполнены их дни; дотошные во всем – в морали тоже, но не слишком, – они жили в гармонии с природой и именовали себя последними американцами.
Только большое богатство способно было – предположительно – развратить такой народ, но Картрайты, хотя духовно ориентировались больше на Фермерский банк Ланкастера, чем на древнюю приходскую церковь, где каждое воскресенье педантично, но поверхностно являли свою преданность, не были развращены. Ими восхищались, и их уважали, и поскольку они считали, что тоже принадлежат к общине, это несколько чрезмерно почтительное отношение со стороны соседей смущало их и заставляло при их богатстве одеваться в неяркие, серые тона. Если они были выскочками, никто никогда не винил их в этом; никто не стал бы хихикать. Гаррисон Картрайт был энергичный вспыльчивый мужчина с лицом бульдога и обладал способностью наживать деньги с такой же легкостью, с какой голубь клюет кукурузные зерна. Все предприятия в этой части штата: банки, рыбный промысел, агентства по продаже автомобилей, ледники, – короче, все, что могло принести десятицентовик прибыли, полностью или частично принадлежало Картрайту, и естественным следствием этого было то, что он выступал и в другой – возможно, даже более головокружительной – сфере, будучи своего рода проконсулом сенатора Бёрда. Картрайт был сильным, властным мужчиной, но, подобно многим настоящим гениям, был любезен, умел менять тон – чтобы ладить с людьми – и знал, когда надо понизить голос. Люди, жаждущие нынче иметь царя, хотят, чтобы у него был алюминиевый скипетр, желательно складывающийся, домотканая одежда и большая широкая улыбка, – все это было у Картрайта.
Амбивалентность таких людей неизбежно странным образом сказывается на сыновьях. Когда Дику было шесть лет, Гаррисон Картрайт дал мальчику такого подзатыльника, что тот полетел вниз головой в воду тридцати футов глубиной, а все потому, что его сын не был ни храбрецом, ни умельцем, способным обращаться с главным парусом яхты. В памяти Дика была жива боль от удара и жуткий, перехватывающий дух страх, когда он погрузился в воду и почувствовал, как руль яхты прошелся по его голове, а также то, как это сказалось на его отце: какие угрызения совести исказили это тупое лицо бульдога, когда Картрайт вытащил через край яхты мокрого сына из воды, его слащавые, недостойные мужчины извинения и, наконец, его слезы. «Дикки, Дикки, Дикки, – хрипел он. – Что я наделал?»
Отец озадачивал Дика, и ребенком он разрывался между любовью и ненавистью. В спокойное время, когда отец был сдержан и владел собой, и любезно играл роль покорного деревенского эсквайра, Дик предпринимал попытки проявить инициативу и всегда удивлялся, с какой добротой и любовью отец это воспринимал. Но наступала плохая погода, облака и бурное море; дули муссоны, принося легкий запах долларов, были гибельные сделки, рискованные предприятия на каком-то далеком, опасном берегу. Затем отправленный в забытье Дик нашел вместе со своим братом и двумя сестрами уединение в обществе бабушки, которая взяла в свои руки хозяйство в доме после смерти невестки и страдала от артрита и чрезмерного увлечения Библией.
Мать Дика принадлежала к епископальной церкви, и хотя семья из уважения к ее памяти и по привычке по-прежнему ходила в маленькую церковь в деревне, старуха, будучи реформированной пресвитерианкой и прямым потомком Джона Нокса[18]18
Нокс Джон (1505–1572) – шотландский религиозный реформатор; основатель пресвитерианства в Шотландии.
[Закрыть], быстро стала вносить изменения в это мягкое либеральное влияние бабушки. За завтраком она пила горячую воду, подслащенную сахаром, – это для желудка. В нижней спальне хорошего фермерского дома, в котором они жили, она каждый день проводила строгие службы своей веры, и вот туда приглашали Дика, тоненького мальчика с карими глазами, который дремал среди косых лучей света, потом разбрасывал руки, чтобы ощутить приток крови, распятый таким образом на свету, словно на хранилище отупляющей скуки. Кивая, он дремал, потом снова открывал глаза и смотрел на суровое лицо старого орла, чей клюв бесконечно закрывался и открывался, выпуская слова о грехе и проклятии, взятые из Библии, которую держали артритные когти орла. Там были и картины, созданные и противопоставленные более приятным зеленым видениям за окном – лужайке, кедрам, покрытому травой берегу пруда, где ползали речные раки и юркали в свои норки и где от пыльцы с сентябрьских деревьев все водоемы становились золотыми; а там были картины рая и ада, семиголового чудовища, чаши гнева Господня, женщины – олицетворения гнусности и грязных прелюбодеяний, которая именовалась матерью шлюх; и мальчик, подобно автору божественной книги, с большим восторгом удивлялся всему. Главным же образом он думал о тех легковозбудимых, брошенных в ад, которые тянули руки к безжалостному Аврааму с лицом злого духа и по-детски извечно кричали от боли и жжения. Эти дети терзали его душу. А позже, лежа на животе возле пруда, он размышлял и мечтал, тыча палкой в грязь, и видел их внизу, под колышущейся золотой пленкой, – детей не старше своей сестры, затонувших глубоко, среди раковин моллюсков и кокетливых пескарей, – детей, которые шевелились и беззвучно кричали и которых не касались светлые, все искупляющие воды. Поскольку он любил свою бабушку, поскольку она по-доброму относилась к нему и готовила ему сливочную помадку, он выносил такое к себе отношение – не по доброй воле, а приняв решение, и таким образом рано в жизни узнал, что за сладости платят слезами.
В юности он стал высоким блондином – сравнительно неиспорченным, несмотря на то что был богат, – со средним умом и хорошими намерениями. Три года, проведенных в маленькой епископальной подготовительной школе через реку, избавили его от боязни Бога, и он обнаружил, что пребывание сына богатого отца в школе для бедных мальчиков – это плюс в социальном смысле, если он сумеет остаться нормальным человеком. Из-за большого, как у отца, рта его нельзя было считать красивым, но он был привлекателен, сравнительно хорошо сложен и умен, – человек не выдающийся, однако от природы обладающий достаточным обаянием, чтобы оружием его не являлись деньги. Он был просто наделен небольшим превосходством. Он поступил в университет изучать бизнес, получая на содержание двести долларов в месяц, неуклонно веря – как все виргинские джентльмены – в виски и ощущая потребность в сексе, что он считал – как все молодые люди – пылким и самым главным в мире. В Шарлотсвилле он довольно легко познакомился с алкоголем, а вот знакомство с женщинами оказалось делом более трудным, и к тому времени, когда он встретился с Пейтон в конце второго курса, его единственное приобщение к сексу было с немолодой женой шофера грузовика, которая отдалась ему – вместе с еще пятью его сожителями по братству – жаркой весенней ночью в машине, припаркованной за придорожной закусочной.
С Пейтон его желание не исчезло – лишь было приглушено, и он приспособился следовать огорчительному ритуалу «студенческой любви», стараясь по возможности не расстраиваться. Во всяком случае, пытаясь не расстраиваться. Пейтон преисполняла его восторгом: она так себя вела – с холодным ироничным юмором, слегка горьким, но не нагонявшим мрака, и с большим пониманием людей, чем он, – что наконец он осознал, что по-настоящему любит ее, а ее красота, которая в один прекрасный день может принадлежать ему – не как его «олдсмобиль», а духовно, безоговорочно, нерушимо, без необходимости ухода за ней и починки, – вызывала в его душе до боли страстное желание. Их жизнь превратилась в один большой танец, в этакое море музыки, в котором сдержанные слова нежности – как отблески звезд; они целовались, прижимались друг к другу, и Дик был одновременно доволен и разочарован: это и есть райское счастье, такое радостное и такое мучительно-бесплодное? «Пейтон, тебе не хотелось бы…» – говорил он и умолкал, и нежное желание наполняло его душу, но он любил ее, и душа у него была протестантская, и она возмущалась.
Правда, часто не эти несовместимые состояния – желание и приличие – мучили его, а сама Пейтон. Никто, кроме его отца, так не озадачивал его, и порой он задавался вопросом: если – и когда – они поженятся, как он будет справляться с ней? Он пытался определить, что она в нем любит, или что ей нравится, или что ее привлекает. Она ни разу не сказала: «Я люблю тебя», – правда, он считал это формальностью. Он быстро отбросил проблему своих денег – когда их отношения приняли серьезный характер, она сказала ему: «Пошел ты со своими деньгами», – и он поверил ей, поскольку знал, что рассуждает она всегда откровенно и честно. Его смущало другое: он обладал упорядоченным и методичным рассудком, довольно рано научился сдерживать свои эмоции и всегда пытался доискиваться до понимания: как согласуются эти приступы ярости – нелепые, дикие и безосновательные, возникавшие всегда, когда она слишком много выпьет, и обычно направленные на него, – с тем, когда она ведет себя спокойно, нормально, когда, обвив руками его шею, называет его «Дики, мальчик мой» и ласкает его ухо языком, а от запаха духов в ее волосах он так слабеет, что готов упасть? Сотню раз за последние два года, уехав с какой-нибудь оргии, которая снисходительно именовалась «легкой попойкой», они оказывались одни, ошалевшие, чудом уцелевшие после бешеной езды по залитым лунным светом холмам, лесам, – они едва ли знали, где они, да и не так это было важно, – они парковались в густой, все сгущавшейся тени и ласкали друг друга – влажную кожу и волосы, и боялись сделать выдох – до того переполнены воздухом были их легкие, – чтобы не произвести неприятный свистящий звук. В этом году они слушали песню под названием «Наперегонки с луной». Она звучала не из какой-то стальной башни, находящейся в милях от них, а из глубины машины и исполнялась только для них. Они лежали, съежившись, рядом на скользкой коже, над ними в парах света пьяно крутилась заря, а с пола машины звучала первоклассная невидимая музыка – барабаны, трубы, скрипки, таинственно фосфоресцируя, зажигали их бедра и руки бледным невидимым огнем. Все это очень разочаровывало.
Но были и другие времена, наполненные не меньшей страстью, такие же памятные, но ужасные. Эти вечера начинались – тоже часто в доме братства – такими же веселыми, невинными развлечениями, а заканчивались бурей мерзких слов, слезами, размолвками. Дик никогда не мог сказать, какое настроение владеет ее душой; самое большее – он узнал, что она так или иначе привязана к дому, к своему отцу и что, получив известие от него или из семьи, она могла отдалиться от него или вообще не подпускать его к себе, а то и еще хуже – это могло сбросить ее с эмоционального каната, на котором она, казалось, всегда ненадежно балансировала. Тогда она становилась грубой и озадачивающей. Позже, в машине, она безосновательно обвиняла его в пренебрежении к ней (а он, насколько помнил, весь вечер не сводил с нее глаз), в бесчувствии, вообще в грубости и отсутствии чувства: ну как, спрашивала она, может она выйти замуж за человека, который так серьезно относится ко всему, что связано с братством, – за человека, вся жизнь которого – сплошное клише? «Боже, Дик, я люблю хорошо проводить время, я люблю сборища, но как ты можешь стоять и смеяться остротам этой дуры Таккер, этой шлюхи?.. Дик, я просто не думаю, что ты будешь достаточно нежным, если у нас будут дети…»
Вот такого рода ситуации.
Он проглатывал оскорбления, зная, что скоро это пройдет, зная, что она станет ласковой, и извинится, и поцелует его. То, что ее горькие слова уязвляли его скромное чувство собственного достоинства, не ломало его: он уже взвесил свои позиции, свои чувства, и если Пейтон, невзирая на эти неразумные вспышки обиды и подозрений, продолжает любить его за его положительные черты характера – каковы бы они ни были, – что ж, разве этого не достаточно? Она продолжала его смущать, но перемены в ее настроениях прокаливали их роман и постепенно стало ясно, какие черты в нем она любит. Частично – будучи такими разными – они дополняли друг друга: в середине ее диких взрывов он сознавал, что она знает, какой он сильный и надежный и что он успокоит ее. Слишком уважая себя, чтобы дать ей себя затоптать, он становился щитом для ее эмоций, зная, что она, как и он, человек живой и непоследовательный и что она всерьез не думает того, что говорит о нем.
Так что, когда он был вдали от нее, это было счастливое время, которое он предпочитал вспоминать. Вместе же они бывали так часто, как это позволяли их занятия, а именно: почти все время – каждый конец недели, а также по средам и четвергам и даже по вторникам, когда Дик днем отправлялся в долгую поездку через горы в Суит-Брайер. Их встречи были несерьезными – как встречи мальчиков и девочек из колледжа, и даже, для чужих, глаз беспечными, но это была лишь поза, поскольку, оставшись наедине, они давали рукам ласкать друг друга и ввязывали в жаркую ткань своего желания поцелуи и откровенные хриплые призывы, осуществления которых ни один из них не ожидал, да по-настоящему и не хотел. Они снова пили, ездили бесконечные мили на купленном на черном рынке бензине и оказывались высоко на залитых лунным светом, затянутых туманом холмах, танцуя под музыку, лившуюся из радиоприемника, запущенного на полную мощь, быстро переступая голыми ногами наперегонки с луной, которую Вогн Монро воспел для них в тихих гармоничных тактах и которая с этих округлых, бледных и мирных вершин казалась музыкой, созданной только для них…
Сейчас время близилось к рассвету, и они подъезжали к дому. Пол-литровая бутылка, лежавшая между ними, была почти пуста. Они проехали большие пустые поля, снова пошли знакомые фермы, ручей с индейским названием, изобилующим «к» и «кью», почти застывший под тонким слоем льда. Травянисто-зеленый свет опустился на землю, но все еще спало, было тихо и неподвижно, лишь желтое пламя ненадолго вспыхнуло в окне да три гуся взлетели с болота – некоторое время они летели на одной скорости с машиной, а потом свернули и полетели над рекой. На востоке утренняя звезда померкла, потом исчезла, и они выехали из темного укрытия лесов на яркий свет; над полями клубился дым из кухонных труб; настало официально воскресенье.
– Я сказала ему, что уйду из школы. – Пейтон икала и вынуждена была замолчать, сдерживая дыхание, пока Дик считал до девяти. – Вот! – Она снова взяла его за руку. – Я сказала ему, что не хочу больше брать ее вшивые деньги.
– Все будет о’кей, – сказал он, – не волнуйся.
– Моди не будет о’кей. Ох, Дик. – Она положила голову ему на плечо, и он снова обнял ее.
– Осталось всего несколько миль, лапочка, – сказал он.
Они вяло переговаривались, поскольку ни тот ни другая не спали этой ночью и только час или два ночью накануне. Однако они преодолевали усталость с помощью внутреннего волнения: Пейтон прошла через период напряжения и тревоги, но для таких молодых людей беда – это еще не конец, беда открывает новые перспективы, бегство или свободу. Дик успокоил ее насчет Моди: тут ничего нельзя больше поделать – надо только ждать и смотреть. А пока… Пока они говорили и говорили – главным образом Пейтон, – и благодаря виски, которое притупило и ввело в заблуждение их разум, они повторялись в своем разговоре, и в нем было искусственное возбуждение, и его печальная и фатальная окраска вселяла в них чувство своеобразной радости.
– А еще папа, – тихо произнесла Пейтон. – Как я уже говорила тебе. Ужасно было видеть его таким, как перед нашим уходом. Ох, видел бы ты его. Ты, правда, никогда такого не видел. Он был совсем потерянный – чуть не обслюнявил всю меня, говоря, что это не конец, что я должна вернуться с ним в Порт-Варвик. – Она резко выпрямилась, глядя на Дика. – Ты только представь себе! Он был совершенно потерянный, она совсем подорвала его, так что я, право, на минуту подумала, что он лишился рассудка. Можешь себе представить: он всерьез предлагал мне вернуться вместе с ним, с ней! – Пейтон на минуту умолкла, отбросила волосы со лба. – Бедняга. Он такой болван. Но я люблю его, Дик. Люблю. – Она снова икнула и, порывшись в кармане, вытащила кольцо Лофтиса. – Смотри, Дик, смотри, что эта старая тупица дал мне. Верно, красивое? И знаешь, что он сказал? Он сказал – он попытался сострить… – Она издала смешок. – Он был такой жалкий, когда у него свалилась перевязка. Я вернула ее на место. Так он снял с пальца это кольцо и попытался пошутить. «Послушай, – сказал он, – если этот богатый молодой мерзавец может подарить тебе значок братства, самое меньшее, что я могу сделать, это просить тебя принять от такой разорившейся развалины, как я, сей маленький символ любви». Дорогой человек. О, это было так патетично… ик! – Она снова откинулась на спинку сиденья, беспомощно смеясь, делая судорожные вздохи, перемежавшиеся иканием, что грозило превратиться в истерию. – Дай мне выпить, дорогуша. Чтобы излечиться.
– Бедная крошка. Чертовски отличная штука, – сказал Дик.
– Что?
– Все это. – Он отвел глаза с дороги, лицо у него было красное и угрюмое, и он плохо владел языком. – Все. Я хочу сказать… о, какого черта. Я хочу сказать: не уходи из школы.
Лапочка, у нас не так много времени. Дядя Сэм[19]19
Дядя Сэм – синоним американской армии.
[Закрыть] заберет меня. Давай поженимся. Сегодня. Поедем в Мэриленд. У папки куча продовольственных талонов. Мы сначала поспим. Потом поедем в Ла-Плату и поженимся. Лапочка, я буду заботиться о тебе до конца моей жизни. Ох, лапочка, черт бы побрал…
Она его не слушала. Она улыбалась. Она сказала:
– Это было бы смешно, если б не было так ужасно. Он извинялся передо мной зато, что все эти годы распутничал с этой кошмарной женщиной. Передо мной! Зачем он это делал? Будто мне не все равно. Я хотела сказать ему, что это прекрасно, только почему он не выбрал кого-нибудь, у кого было бы хоть немного… savoir faire?[20]20
Умение вести себя (фр.).
[Закрыть] И почему он вздумал извиняться передо мной? Наверно потому, что ему надо было перед кем-то извиниться.
– Так как насчет этого, дорогуша?
– Насчет чего?
– Поездки в…
– Ох нет, Дики, не сегодня.
– А когда? Скажи мне – когда?
– Нет, Дик. Нет! Нет! Ради Бога, неужели ты не видишь… Ох, я такая пьяная… Я такая…
Она уткнулась головой ему в колени, сжав рукой его ногу. Он не вздрогнул, а смотрел прямо перед собой и не произнес ни слова – машина пробиралась сквозь туман, было зеленое, не поддающееся описанию утро. Появился дубовый и сосновый лес; две колонны из кирпича стояли по бокам въезда на гравийную дорогу; они свернули туда. В полумиле по ней стоял дом, пустой и тихий. Они проехали по маленькому мостику через пруд. В одной из побеленных служб, где жили когда-то рабы, прокукарекал петух. Ветви больших дубов образовывали арку над дорогой, и когда они ехали там, машина привела в ужас стадо гусей, которые в неуклюжей спешке, крякая в смятении, полетели вперед.
– Харвей, должно быть, уже встал, – сказал Дик, – в жизни не видел такого энергичного негра.
Пейтон никак не отреагировала – только приподняла голову и снова опустила Дику на колени. Лицо ее было смертельно бледно.
Выпив кофе, они немного ожили. Но от напряжения и нервного состояния оба слишком устали, чтобы спать. Часы на кухне показывали пять, но они стояли, и Дик с Пейтон вяло прикинули – хотя, в общем-то, им было все равно, – что сейчас, должно быть, около семи. В доме не было никого, кроме них: семья уехала – как ранее говорил Дик – в округ Кинг-энд-Куин навестить родственников. Дом был безрадостный и тихий, ничто не нарушало в нем покоя, кроме раздававшегося иногда потрескивания досок, вытягивавшихся, как ноги проснувшегося человека, с щелкающим звуком, нагреваясь на заре, – и так каждое утро на протяжении почти двух сотен лет. В доме стоял затхлый запах – окон не открывали с четверга, и Пейтон с Диком бесцельно бродили по затхлым, душным комнатам, не в состоянии ни вернуться к прерванному разговору, ни забыть его. И такое было впечатление, словно их напряженность и усталость – а главным образом горе и растерянность Пейтон, отчаяние – стали передаваться дому. Среди этих старых комнат, где до сего дня вместе с радио, электрическими лампочками и современными креслами по-прежнему сохранились некоторые убогие остатки благонравной жизни предков – старые трости, вырезанные из погибшего пекана много лет назад, задолго до начала войны, и изгрызенная мышами Библия для чтения с кафедры, и довоенные романы, запыленные и не вытащенные из ящиков, и христианские литографии апостолов, и Вознесениями лежащей в обмороке Сюзанны, – среди всего этого бродили Дик и Пейтон, нося с собой – подобно анахроническому запаху – свое особое, современное отчаяние.
Они рухнули вместе на диван и признали, что обоим нужно выпить. Дик достал виски отца и налил в два стакана. Пока Пейтон пила, Дик вышел из комнаты и нашел Харвея, старого негра, типичного Дядюшку Римуса начиная с высоких, на пуговицах, ботинок и кончая беззубой улыбкой и бесцветными волосами.
– Я не хочу, чтобы ты говорил папе, что мисс Лофтис останавливалась здесь, – с трудом произнося слова, сказал Дик.
Обладая практическим умом и будучи очень старым, Харвей понял и ответил спокойно:
– Да, сёр, миста Дик.
Вернувшись в гостиную, Дик обнаружил, что Пейтон стоит у окна, держа в руке второй стакан виски. Она включила радио. Он постоял возле нее, молча. Над рекой появилось солнце. Река была красивая – широкая и голубая, и спокойная, ни один город не обезображивал ее берегов. В этой реке было что-то первобытное – в лесах, теснившихся по ее берегам, и в пустынных отмелях, образованных приливами, и в том, как утки взлетали на юг по голубому безоблачному небу; казалось, что река была всегда такой – она не менялась, ее не коснулись орудия или оружие человека, и она останется такой, пока земля не станет вновь морем, а море – землей, и приливы не уничтожат все – и леса, и ракушки, и вернувшихся уток, – и река будет течь по дну качающегося вечного океана. Пейтон повернулась к Дику и сказала:
– Они считают, что они победили.
– Кто, лапочка?
– Дате – из прошлого поколения. Папа, наверное. Все, кто о чем-то думал. Они считали себя потерянными. Они сумасшедшие. Никакие они не потерянные. Они все делали, чтобы потерять нас.
– Нас?
– Да. Они потеряли не себя, они потеряли нас – тебя и меня. Посмотри на папу. Я так люблю его. Но он потерял меня и даже не знает об этом. – Она вынула из кармашка кольцо и посмотрела на него. – Дорогой. По-моему, у нас фрейдистская привязанность друг к другу. Дорогой. Но он такой осел. Если бы он не был женат на матери, мы все могли бы отлично жить. Она не по силам ему. Вот мы и потерялись. Он потерял меня, и все его друзья потеряли своих детей. Не знаю почему, но это так. По крайней мере у них была возможность некоторое время пожить вместе. Но они не позаботились и потеряли тебя тоже, и теперь ты уйдешь на войну и будешь убит.
– Нет, не буду. Я твердый орешек.
– Никакой ты нетвердый. Ты такой же, как я, ты не знаешь, какой путь выбрать.
– Я знаю, что хочу на тебе жениться.
– Нет, Дик, не начинай…
– Ой, лапочка, послушай же: мы могли бы…
Такое было впечатление, будто его слова, упорно повторяемые, причиняли ей физическую боль, порождали агонию сожалений, и воспоминания желание. Она в ярости повернулась к нему, и, поскольку была пьяна, голос ее звучал хрипло, а слова – невнятно.
– Прекрати говорить про женитьбу, Дик. Прекрати об этом говорить! Ты эгоистично ко мне относишься. И глупо. И если хочешь знать, почему я так себя веду, так потому, что я не люблю тебя и никогда не любила. Не из-за того, что ты такой, и не из-за чего-то еще, а просто потому, что не люблю и не могу любить, и ведь это так худо. Разве не худо, Дик? Разве не худо то, что я такая раздражительная? Что ты никогда…
Он знал, что это у нее пройдет. Он обнял ее, крепко к себе прижал. Она немного посопротивлялась, но потом обмякла, и поскольку он любил ее и понимал, он вложил всю свою преданность, целуя ее в губы, что наполнило священным восторгом его душу. Она сказала «нет», один раз, но это было ее последним словом, ибо что-то проскочило между ними – тяга, беззвучная как воздух, и он повел ее в спальню. Там стояла старая кровать его бабушки с четырьмя столбиками, и они весь день лежали на ней, отбросив одеяла, поскольку в комнате было жарко и душно, – лежали голые и спали. Совокупление отняло у них все силы, но спали они беспокойно: им снились сны, лишенные любви. Солнце взошло, начало клониться, и день залил светом комнату. Радио, негромко звучавшее в гостиной, пронизывало их сны еле слышным бормотанием: война, сказал проповедник, охватила весь мир, – и на туманном краю сна, между бодрствованием и сном, мозг их обоих уловил слова «Христос» и «Антихрист», которые тотчас вылетели из памяти и забылись, а они переворачивались и снова видели сны.
Не просыпаясь, он обнял ее – она отодвинулась. В полях, по которым гулял ветер, залаяла собака. Послышалась танцевальная музыка, а потом – Моцарт, песня безграничной невинности, которая звучала среди разрушенных мирных храмов и внесла в их сны немыслимое видение: любовь, пережившую время и существовавшую даже в ночи, недосягаемую для смерти и всех незапамятных наступающих сумерек. Затем наступил вечер. Раскинув руки и ноги, они зашевелились и перевернулись. Сумерки накрыли их тела. Они были окрашены огнем, как тела тех павших детей, которые живут и дышат, и беззвучно вскрикивают и чьи души вечно пылают.








