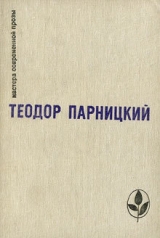
Текст книги "Серебряные орлы"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
Старец усмехнулся. Присел на кровать.
– Не я один, – сказал он, – нам двенадцати была дарована сила, чтобы понимали нашу речь и римляне, и греки, и египтяне, и ливийцы, и те, что пришли из Памфилии, и из Фригии, и из Каппадокии…
– Но что это за странный такой язык?
– Язык Авраама, Исаака, Иакова.
– Ты иудей? Никогда не видал иудея, столь бедно одетого, – проворчал Аарон.
– Мне не во что одеться. По всей земле не найдешь такого облачения, которое достойно было бы прикрыть мне плечи. Пурпур всех королевств мира лишь подстилка под моими ногами.
– Какой ты кичливый. Ты что, царь иудейский? Никогда не слышал, чтобы у евреев после Иродов был царь. А может быть, это Рихеза, все еще выплачивая за Оттонов долг благодарности, возвела на царский трон кого-нибудь из рода Калонима?
– Нет, именно иудеи, мой народ, не хотят признавать меня владыкой, – ответил старец с грустной улыбкой. – Глупцы! Нет, скорее бедные слепцы! Если бы они уселись у моих ног, я бы королевским пурпуром прикрыл их плечи. Мрамор Капитолия охладил бы их исстрадавшиеся головы, фонтаны Ватикана омыли бы их ноги, истомившиеся в бесконечных скитаниях…
– Ты сказал, что пришел меня излечить. Ты лекарь? Но наверное, лучше, чем другой еврей-лекарь, сын Калонима, ведь он плохо лечил Оттона…
– Когда мы с Иоанном входили через Красные ворота в храм, я коснулся рукой хромого от рождения, и он тут же стал прыгать…
Аарон закрыл лицо руками.
– Излечи не тело мое, а душу, ключарь небес. Я страшным согрешил вожделением, вожделением духовным взором…
– Стало быть, уже возвращается к тебе здоровье. Ты уже понимаешь, что это лишь душа твоя видела подле себя женскую фигуру, а на самом деле ее не было…
– Не было?
– Какой ты странный. Страшным голосом звал на помощь, а теперь я слышу сожаление и горечь в твоем голосе: ты жалеешь, что лишь в бреду к тебе приходила женщина…
– Дозволишь ли, царь царей, чтобы твой недостойный дружинник задал вопрос?
– Спрашивай, как если бы спрашивал Сильвестра, любимца моего.
– А что я… всегда, до конца дней своих буду платить?
Старец коснулся рукой лба Аарона. Другой провел по своему лбу, по щеке, по бороде.
– Была у меня, Аарон, жена, которую я очень любил. Но когда прибежал Андрей, когда крикнул: «Мы нашли спасителя!» – я тут же побежал, чтобы никогда больше не вернуться к любимой жене.
– Значит, тогда я очень согрешил, – с рыданием прошептал Аарон, прижимаясь к морщинистой, костлявой руке.
– Простится тебе. Если уж меня простил Христос, хотя я трижды отрекся от него…
– Послушай! – воскликнул Аарон совершенно другим голосом, словно разговаривал уже с равным себе. – Послушай, ты должен сказать мне, как это случилось, что, хоть ты отрекся от Христа, он все равно предоставил тебе власть над овцами и агнцами…
– Неизмеримо милосердие божие, – прошептал старец, повесив голову.
– Нет, этого я не понимаю, – все больше возбуждался Аарон. – Никогда не пойму! Он мог тебя простить, потому что сам сказал, что следует прощать до семижды семидесяти раз! Но ведь это не одно и то же: простить и доверить власть. Потому ли, что ты его очень возлюбил, сделал он тебя своим наместником, вручил тебе золотой ключ от царства небесного, ключ, который сейчас торчит в двери, излучая золотой свет? Но ведь Иоанн тоже очень его любил. И при этом Иоанн никогда не отрекался от него, не изменял ему… Так почему же, простив тебя, он не передал все же ключ Иоанну? Разве он был уверен, что ты больше не изменишь ему?
– Мудрость предвечного заранее знает все.
– Значит, он заранее знал, что, прежде чем пропоет петух, ты отречешься от него. Так как же мог он, зная это, доверить тебе наместничество в вождении дружины?
Старец поднялся. Отошел от кровати, отступил на несколько шагов. В черных глазах его замерцал свет напряженной мысли, проникающей в великую тайну.
– Не говорил ли тебе не раз Сильвестр мой любимый, что источник силы, которой величие божье наградило общину, мною управляемую – церковь, – содержится в мудрости? Подыскивая наместника, господь искал среди своих учеников такого, чтобы он превосходил всех мудростью, именно мудростью… Я мог упереться, мог изменить, но я всегда оставался тем, кто понимает, кто знает… А только тот, кто понимает, кто знает, может повелевать… может быть наместником самого бога.
И вновь приблизился старец к ложу. Наклонился почти над самым ухом Аарона.
– А может быть, – прошептал он с загадочной улыбкой, – может быть, он сам не знал, не подозревал, не предчувствовал того, что от меня услышал… Может быть, именно за это так меня и возлюбил, что я указал ему нужную дорогу… Каждый вождь должен иметь подле себя мудреца, который указывал бы ему верную дорогу к власти, к силе; каждый вождь простит такому мудрецу любое отречение, любую измену…
– Это не ты говоришь, не ты! – воскликнул Аарон, выскакивая из постели. – Это Ибн аль-Фаради говорит! Я узнаю его голос, его улыбку, его греческую речь, его арабскую мысль! Это не ты… не ты… не ты…
– Это я, отец Аарон… Я, аббат Антоний… успокойся, вернись в постель… С кем ты разговариваешь? На кого кричишь? Ах, как ты болен!.. Как ужасно бредишь!..
С трудом удалось Антонию с помощью слуг вновь уложить Аарона, вновь укутать медвежьей шкурой. Сквозь судорожно стиснутые губы и зубы с трудом вливали в горло больного горячие подкрепляющие напитки. Целыми неделями он бредил в горячке. Наконец из Мисни, от маркграфа Германа, зятя Болеслава, привезли еврея-лекаря. Долго не хотел Аарон допускать его к себе.
– Не смей приближаться ко мне! – кричал он хрипло. – Не смей! Ты вновь осквернишь чистоту моей мысли. Ты не веришь, что бог способен унизиться до того, чтобы воплотиться в людскую натуру… Ты не веришь, что, прежде чем Петр сказал, он ужо знал… Он знал, кто он такой…
Еврею из Мисни повезло больше, чем сыну Калонима. Тот не спас Оттона, а этот исцелил тынецкого аббата Аарона. На второй неделе великого поста Аарон уже начал вставать с постели и прохаживаться по комнате.
Как-то Антоний вошел в его комнату в обществе незнакомого юноши, очень хорошо говорящего но-латыни.
– Похоже, не сакс, – нагнулся Аарон к уху Антония. – И ведь не священник, а так бегло владеет священной речью Рима. Бургунд? Италиец?
– Нет, это Стойгнев, поляк, – улыбнулся Антоний. – Вот мы и вырастили первый прекрасный цветок мудрости на славянской целине, – добавил он голосом, в котором звучала явная гордость.
Стойгнев выезжал с посольством от Болеслава к князьям и епископам Лотарингии. Антоний отнюдь не скрывал от Аарона, что польский посланник едет подбивать лотарингцев против Генриха Второго.
– Вот-вот начнется новая война, – сказал он, потирая руки. – Набожный, благочестивый король Генрих вновь натравливает на нашего короля язычников-лютичей. А мы за это натравим на него лотарингцев, может быть, даже братьев его собственной жены. Изволь, отец Аарон, рассказать Стойгневу о всех известных мужах Лотарингии, которых ты узнал в бытность свою там. Расскажи, кто из них любит коней, кто наряды, а кто женщин, кто легко упивается, кто легко впадает в гнев.
Аарон с удивлением всматривался в лицо Стойгнева. Распухшее, под глазом синяк, на щеке царапины.
– Это его отец и старшие братья так на дорогу разукрасили, – усмехнулся Антоний. – Разозлило их, что младший самый в семье получил при княжеском дворе такую высокую должность. Еще много понадобится времени, отец Аарон, чтобы удалось хорошенько вбить в головы полякам благородную науку, что нет права первородства, а есть лишь право мудрости и верности в королевской службе. Все еще им мнятся наставления языческих предков касательно единства рода, племени, крови, не усвоили еще слова спасителя, что кто не отречется от отца, матери, брата, сестры – не достоин ему служить. Ему и наместникам его: королям, епископам, аббатам. Не может понять родитель Стойгнева, что он менее близок своему сыну, чем я, италиец, или ты, ирландец, не понимает, что единство в службе Болеславу – обруч покрепче, нежели единство рода и крови.
«Он совсем как Тимофей сказал роду своему: „Я против вас“», – подумал Аарон, с изумлением глядя на синяки Стойгнева.
– А Тимофей вернулся? – торопливо спросил он Антония.
– Нет, не вернулся. Зато о государе Мешко есть радостные известия. Ему уже не грозит страшная мука. Удальрих Чешский выдал его королю Генриху.
– А король Генрих выдаст его отцу?
Антоний вновь потер руки, вновь улыбнулся.
– Распахнул наш король крышки сундуков своей казны. Дары богатые: оружие, седла, чаши, перстни, цепи – уже изобильно разошлись по саксонским городам, по маркграфам, по епископам. Да и советники давят на Генриха, чтобы как можно скорее выпустил Мешко.
Голос Антония вдруг посерьезнел, стал даже строгим.
– Говорят, что король Генрих потребовал от Мешко клятвы, что тот всегда будет ему верен, даже если понадобится против отца идти. Не знаю, правда ли это. Но слышал, что государыня Рихеза якобы послала к заточенному супругу гонца, чтобы тот уговорил Мешко непременно дать такую клятву Генриху, но не как германскому королю, а как римскому императору.
Почти до рассвета сидел Стойгнев у Аарона, внимательно слушая рассказы о лотарингских вельможах, об их нравах и слабостях. Время от времени вставляя вопросы, которые приводили Аарона в удивление: до того были умны.
Антоний не ушел со Стойгиевом.
– А ведь у тебя есть кто-нибудь в Англии, – спросил он Аарона, когда они остались одни, – о ком ты мог бы сказать, что это верный друг твоей молодости?
Аарон удивленно, торопливо, но внимательно пробежал мыслью школьные годы в Гластонбери. Из тайников памяти вынырнула фигура стройного, молчаливого, замкнутого юнца, который вместе с Аароном восемнадцать лет назад сопровождал архиепископа Эльфрикав Рим.
– Разве что Этельиот, сын Этельмара, – прошептал Аарон почти с грустью: горечью наполняло его то, что он чувствовал себя в Англии таким одиноким и лишь о спутнике своем мог сказать: «Мой друг».
Антоний вскочил:
– Этельиот, сын Этельмара? Так он же сейчас гластонберийский аббат: ничей голос в Англии последние годы не звучит столь веско, сколь его. Это хорошо, очень хорошо. Нашему королю весьма может быть полезна твоя с ним дружба.
– Чем она может быть полезна? – воскликнул удивленно Аарон.
Антоний долго и испытующе приглядывался к нему, как будто колебался, должен ли он пускаться в дальнейшие объяснения или лучше промолчать.
Но видимо, он куда больше доверял Аарону, чем самому казалось, и Антоний взял тынецкого аббата за руки и сказал почти шепотом:
Она подняла руки, и Аарон даже зажмурился: его почти ослепил поток зеленых искрящихся камешков, которые посыпались к ее босым ногам.
– Ты не имеешь права на изумруды, – воскликнул он чуть ли не оскорбленно. – У тебя ведь не зеленые глаза, а синие. Пойдем поищем для тебя сапфиры, я знаю галерею в этой мечети: там ты найдешь всякие каменья.
Он сполз с постели, накинул на себя лежащее на низеньком столике одеяние, с удивлением заметил, когда уже облачился, что оно зеленое, топкое и блестящее – скорее женское платье!
Легко отыскал он галерею, о которой говорил Рихезе. На цыпочках скользил он вдоль блестящих мраморных колонн апельсинового цвета. Почти у каждой колонны стояли на каменных постаментах чаши, полные искрящихся камней. Рихеза наклонялась над каждой чашей: потоки красного, голубого, бледно-зеленого, фиолетового цвета стекали с ее пальцев, воздетых над головой, на заплетенные темные волосы, на грудь, к ногам.
– Будь осторожна! – крикнул Аарон. – Камень, даже самый благородный, ударяет. Будет больно.
– Мне больно не будет. Я сильная.
В глубине галереи горело шесть светильников. Шесть светящихся кругов падало на завесу, всю затканную серебром. Когда они подошли поближе, Аарон заметил, что умелые руки ткача, великолепного умельца, расшили завесу сотнями маленьких орлов. Аарон почувствовал, как его начинает охватывать страх, хотя не мог понять, чем вызван этот ужас.
– Там за этой завесой кто-то есть, – еле произнес он трясущимися губами.
Рихезу, кажется, тоже охватила тревога. И у нее тряслись губы, когда она, крепко прижимая левую руку к груди, прошептала:
– Уже пора. Где твой меч?
У него застучало в висках, зашумело в ушах, тысячи невидимых иголок кололи изнутри ноги.
– У меня нет меча.
Она засмеялась весело, презрительно, безжалостно:
– Нет меча? Тогда зачем же ты обращался ко мне на языке своей матери? И вот с таким, у которого даже иет меча, я хотела брататься в смирении?! Какая же я дура! Действительно я ошиблась, сказав, что ты меня любишь. Никого ты не можешь любить, не имея рыцарского меча.
Аарон шагнул вперед.
– Есть у меня меч, – гневно процедил он. – Есть. Достоин я брататься с тобой и в хвале, и в могуществе, а не только в смирении. Но святейший отец Сильвестр приказал мне отложить его навсегда. Не обнажу его никогда, я священник, а не рыцарь.
– Даже если я паду перед тобой на колени, буду целовать твои ноги?
Ноги под Аароном подогнулись.
– Государыня, – прошептал он с болью, даже застонав, – неужели ты хочешь, чтобы я пронзил второй бок спасителя нашего?
– Нет, я хочу, чтобы ты поразил мечом другую цель.
– Никакую, государыня Рихеза…
– Тогда оставайся тут. Я сама приподниму завесу, сама под нею пройду. Возьму меч Болеслава, могучий меч.
– И против кого его обратишь? – хотел крикнуть он, по лишь еле слышный шепот сорвался с его губ. Он чувствовал, что еще минута – и он упадет на пол, на груды искрящихся рубинов, сапфиров, аметистов.
Но Рихеза расслышала, что он сказал. На лице ее заиграла улыбка, мимолетная и зловещая. Но полная очарования улыбка.
– Сначала против себя, – сказала она, приподнимая завесу, – а потом…
Аарон почувствовал, что за его спиной кто-то встал. Он хотел вскочить, кинуться вперед, задержать Рихезу, оттащить ее от завесы.
Но не мог сдвинуться. Чувствовал, что ноги приросли к полу.
– Не огорчайся, брат, – услышал он за собой спокойный голос Тимофея. – Окликни только ее по имени.
Аарон вздохнул с невыразимым облегчением.
– Феодора Стефания! – воскликнул он звучно.
Она выпустила из рук край завесы, покачнулась, отступила. Вся съежилась, уменьшилась. Медленно, неохотно, но будто принужденная неумолимым заклятием обратила к Аарону глаза. Широко раскрытые, растерянные, полные ужаса. Не синие – а зеленые…
14

Болеслав вошел медленным, тяжелым шагом, широко расставляя ноги, покачивая бедрами и плечами. Перед ним шли две огромные собаки, их лоснящиеся, мохнатые спины были вровень с его рукой; Болеслав на ходу поглаживал их с явным удовольствием, а когда они вскидывали к нему морды, он останавливался, весело обнажая красивые, ослепительно белые зубы. Архиепископ Ипполит, Тимофей, аббат Антоний, Саул из Коньского и Винцент, прозываемый Кривоусым, шли за Болеславом – все сильно чем-то озабоченные, возбужденные, но скорее веселые, чем удрученные. Возбуждение виднелось и на лице Мешко, и на лице Рихезы, только никак оно не было веселым: племянница Оттона подбадривала супруга взглядом, полным решимости, но угрюмым и почти гневным. Она была очень бледна, то и дело закусывала губы и быстро постукивала об пол правой ногой: сквозь тонкую кожу башмака нетрудно было заметить, как беспрестанно то поджимаются, то цепенеют пальцы.
Болеслав направился к возвышению о двух ступенях, где стоял треногий престол без всякого покрытия и поручней. Когда сел, его широкие плечи почти совсем закрыли изображение орла, висевшее на стене, орел был совсем белым, а не серебряным, так как с течением лет потускнели, выцвели нити, которыми вышит он был на большом куске пурпурной ткани – знак патриция Римской империи.
Собаки улеглись в ногах Болеслава. Терлись спинами о его обувь, скалили клыки, облизывались.
– Дозволит ли государь мой отец задать ему вопрос? – спросил Мешко по-германски неуверенным, дрожащим голосом.
Болеслав утвердительно кивнул. Светлые глаза его сверлили бледное, полное тревоги красивое лицо сына с нескрываемым удовольствием, не лишенным легкой издевки. «Заранее знаю, что ты спросишь», – будто говорили они.
– Правда ли это, что государь мой отец желает доверить мне защиту кросненского града от императорских войск?
Болеслав все так же молча кивнул. И перевел взгляд на лицо Рихезы, скользнул но ее лбу, глазам и губам. Аарону показалось, что во взгляде его уже меньше было издевки, но меньше и приветливости. Глаза смотрели острее и холоднее, но и сосредоточеннее, настороженнее.
– Этот не даст себя опутать никакой Феодоре Стефании, – прошептал про себя Аарон, чувствуя во всем теле сильную дрожь.
Уже год прошел с тех пор, как он в Познани во сне крикнул Рихезе: «Феодора Стефания!» Это был для него переломный момент. Он замкнулся в себе, помрачнел. Аббат Антоний не узнавал его, приписывал необычайную перемену тяжелой болезни, обессилившей его. И Рихеза тут же сказала, когда он вернулся в Краков: «Какой ты стал другой!» Аарон избегал ее как мог. И еще больше стал избегать после возвращения Тимофея. Если раньше бывали минуты, когда он говорил себе, что это демоны наслали ему в Познани после болезни коварный, лживый сон, то такие мгновения безвозвратно ушли с прибытием в Краков познаньского епископа Тимофея. В тот день угнетенное состояние Аарона достигло предела: он уже не тешил себя иллюзиями. Он должен был сказать сам себе, что сон его не лгал, не вводил в заблуждение. Рихеза – это Феодора Стефания при Болеславе и Мешко, сомнений нет.
Тимофей вернулся из Рима в Польшу необычным путем – через Венецию и Венгрию.
– Если бы я поехал в Познань иначе, германцы посадили бы меня в клетку, чуть в Венгрии не схватили, – весело рассказывал он, обнажая щербину в верхних зубах.
Аарона удивило, что Тимофей опять какой-то другой. Обычно мало что меняется в человеческой натуре, когда приближается четвертый десяток, – так всегда думал Аарон, так внушали ему архиепископ Эльфрик и араб Ибн аль-Фаради. И вот Тимофей опровергал это мнение: движения, голос, улыбка, богатство мысли и слова – все в нем как будто обновилось после поездки в Рим, как бы освежилось, стало солиднее и вместе с тем красивее. Это был все тот же зрелый человек, а вместе с тем какой-то помолодевший.
Рихеза смотрела на познаньского епископа с не меньшим удивлением, чем Аарон. По заходе солнца они стояли втроем на Вавельском холме, над самым обрывом, опершись о деревянную балюстраду, которую Рихеза велела сделать по образцу каменной балюстрады над Авентинским обрывом. Далеко внизу под ними бурлила весенней радостью помолодевшая Висла.
– Насколько она красивее Тибра, – прошептал Тимофей, перегибаясь через ограждение.
– Я просто удивлена, что тебя не полюбила Феодора Стефания, – сказала вдруг тихим голосом Рихеза.
Гладко выбритое, полное, красивое лицо Тимофея медленно повернулось к ней. Больше чем когда-либо познаньский епископ был похож на своего дядю Иоанна Феофилакта, вот уже три года носящего имя Бенедикт Восьмой. Взгляд Аарона жадно впился в глаза друга. «Еще минутка, – подумал он со страхом, – и я все узнаю… Уверюсь в том, что давно хорошо понял, почему она сказала мне в Равенне: «Это лекарство – в благодарность…» Почему у нее был такой возбужденный голос, когда она после смерти Оттона звала Тимофея последовать за нею».
– Не подобает, государыня Рихеза, спрашивать о мирских делах тех, кто удостоился епископского помазания, – сказал Тимофей с улыбкой и горделивой и снисходительной, пренебрежительно пожимая плечами.
Но усмехались только губы – зеленые глаза были холодными и, как Аарону показалось, почти строгими. Совсем какой-то новой была эта строгость. «Смотрит как Григорий Пятый», – устыдился вдруг своих мыслей о Феодоре Стефании тынецкий аббат и поспешно опустил глаза.
Но чувство разочарования взяло верх над неожиданной пристыженностью.
– Разве ты не видел в Риме в последнюю свою поездку Феодоры Стефании? – выдавил он на одном дыхании, не поднимая глаз.
И сказав это, испугался. Тут же рассердился на себя: что же это творится? Он начинает бояться Тимофея?
– Видел.
Одинаково любопытный взгляд устремили на Тимофея и Аарон и Рихеза.
– Где? Когда? – торопливо, почти лихорадочно спросил Аарон.
Теперь насмешливо улыбались не только губы, но и глаза Тимофея. Он небрежно рассказал, что на первой неделе великого поста прислуживал в латеранском соборе своему дяде, святейшему отцу; в толпе, заполнившей церковь святого Иоанна, он заметил и вдову Кресценция.
– Это правда, что она отравила дядю Оттона? – спросила Рихеза, закинув руки за спину и опираясь о балюстраду.
– Нет, не отравила. Она душу его отравила. Отравляла ее долгие годы. Умышленно.
– Это греки ее подговорили.
Восклицание вырвалось у Аарона совершенно невольно. Тимофей медленно повернулся к нему, высоко вскинув брови и наморщив лоб.
– Ты знаешь об этом? – спросил он тоном глубокого изумления. – Да, ее подослали греки. Подослали, чтобы она опутала Оттона, чтобы отравила ему душу. Я не поверил своему дяде Иоанну Феофилакту, когда он сказал мне: «Ее у тебя, Тимофей, отнял кое-кто посильнее Оттона». Оказалось, он сказал правду. Святейший отец Сильвестр подтвердил это.
Тимофей на миг смолк, медленно отошел от балюстрады, приблизился к Аарону и взял его под руку.
– Глупцом я был и слепцом, преследуя Оттона ненавистью и ревностью, – произнес он свистящим голосом. – Не понимал я, что он куда больше достоин сожаления, чем я… куда больше обманут… Помнишь, отец Аарон? Перед воротами Патерна я бросил в лицо императору гневные и оскорбительные слова. Потом подозвал меня святейший отец Сильвестр и сказал наедине: «Никто не должен знать того, что сейчас от меня услышишь. Но тебе я должен сказать, так как не могу выносить, чтобы ты, как глупый осел, лягал раненного копьем льва, мстя ему за мнимые обиды». И рассказал мне все.
– Потому-то ты и плакал тогда вечером, сидя на камне? – прошептал Аарон.
– Да, потому и плакал. Над глупостью своей и над обидой Оттоновой. Вот ты говоришь, отец Аарон, что знаешь, будто греки подослали ее к императору. Но не знаешь, наверное, что она умышленно пробралась к воинам Экгардта, умышленно сделала так, чтобы они напали на нее, чтобы криками призвать маркграфа и предстать с ним перед императором. Просто удивительно, как ей удалось все, что замыслила. Нет, я плохо выразился: ведь не она же это замыслила, а Иоанн Филагат, симонит…
– Иоанн Филагат? – удивленно воскликнул Аарон.
– Да, это он вырастил из нее свою мстительницу. Я же сказал: греки ее подослали. Но я не точно сказал. Не греки, а всего лишь грек. Симонит, предвидя гибель Кресценция и свою собственную, в ожидании кары, стократ им заслуженной, сказал себе: «Я погибну, но пусть погибнут и те, кто обрек меня на мучения». Прежде чем его схватили верные слуги императора, он успел подробно наставить Феодору Стефанию, что она должна делать, чтобы отомстить за его мучения.
«Однако же я знаю больше его, – удовлетворенно подумал Аарон, припоминая разговор с греком по дороге в Познань. – Наверное, только и правды в словах Тимофея, что устами Иоанна Филагата греки склонили Феодору Стефанию верно служить базилевсам».
– Но чем же был этот Иоанн Филагат для Феодоры Стефании? – воскликнула Рихеза. – Почему именно она должна была отомстить за его мучения?
– Но ведь она и не знала, что мстит за его мучения. Он сумел убедить ее, что она вовсе не его делу должна служить, коварно заняв место подле Оттона, а своему: делу своего мужа, сына, Рима. Пугал ее, что, когда Оттон и Григорий окончательно победят, саксы выселят все благородные римские роды на Эльбу. А ведь ты знаешь, Аарон, что ни одна мысль не была столь ужасной и страшной для Феодоры Стефании, как мысль о разлуке с Римом.
– И этого было достаточно, чтобы толкнуть ее на такую страшную измену? Чтобы годы изображать любовь к дяде Оттону? Чтобы подбадривать его улыбкой, когда он казнил ее мужа? Разве она не любила своего мужа?
– Очень любила.
– Не пойму, – начала было Рихеза, но не успела произнести ничего, кроме этих двух слов, так как Тимофей прервал ее неожиданно бурно.
– Есть различные способы, государыня Рихеза, – процедил он со свистом через щербину в зубах, – чтобы склонить женщину к вероломству против того, с кем она идет на ложе. Для одних одни, для других – другие…
Уже смеркалось, но было еще достаточно ясно, чтобы глаза Аарона смогли заметить, как неожиданной бледностью покрылось лицо Рихезы. И тут же побледнел он сам, тут же вновь почувствовал стук в висках и шум в ушах.
– Но почему же только тебе, Тимофей, а не самому дяде Оттону открыл папа Сильвестр эту страшную тайну?! – воскликнула Рихеза таким тоном, словно с чем-то в себе борясь.
Тимофей вновь улыбнулся. На сей раз действительно презрительно, а не только снисходительно.
– Я не такой ученый, как мой милый друг аббат Аарон, – сказал он, – но немного подучил грамматику и риторику. Я знаю, что древние писатели любили выражать свои мысли с помощью сравнений. Так вот, позволь, государыня Рихеза, ответить тебе на последний вопрос сравнением. Известно, что ты верная, преданная супруга государя Мешко Ламберта, верная, послушная дочь государя Болеслава. Но если бы ты предала их, если бы замышляла что-то против них, склоняя в постели Мешко идти на твои коварные уговоры, а я бы об этом знал, скажи: разве поверил бы мне твой супруг, если бы я открыл ему эту тайну? Никогда! Против кого направил бы он тогда свой гнев? Против тебя? Никогда. Против меня! Велико могущество женщины в постели…
– Как ты смеешь так говорить! – взорвалась Рихеза, отрывая руки от балюстрады и судорожно стискивая кулаки.
Тимофей спокойно шагнул вперед.
– Но ведь я же всего лишь подражаю древним писателям, прибегая к сравнению, – сказал он точно таким же тоном, каким в Аароновом сновидении сказал: «Окликни ее по имени».
С этого весеннего вечера все чаще задавал себе Аарон полный тревоги и боли вопрос, который уже сам в себе содержал, к сожалению, не оставляющий сомнений ответ: «Неужели Рихеза действительно Феодора Стефания для Мешко и его отца?!» Из этого вопроса незамедлительно вытекал другой: «Кто же тогда я? Я, прибывший в Польшу по приказанию Рихезы, настоятель монастыря, ею основанного и находящегося под ее неустанным покровительством? Все называют меня здесь: «Вернейший слуга снохи государя Болеслава». Но я, верно служа ей, служу тем самым и делу, которому она служит. Какое же это дело? Она говорит, что это дело наследия Оттона, святое дело правящей миром Римской империи, дело, которое так дорого было и сердцу святейшего отца Сильвестра. Да разве только этому делу! Мой сон и сравнение Тимофея вроде бы говорят, что не только этому делу. Так какому же? А наверное, такому, что скрытно бьет по Болеславу, причем средствами Феодоры Стефании. Значит, я игрушка тайных врагов Болеслава? Не зря, выходит, спрашивал меня Антоний: «Кому ты служишь, аббат?» Значит, и Болеслав, возможно, подозревает меня, что я, верно служа Рихезе, служу делу его врагов?»
Он не мог спать. Вскакивал по ночам с постели и до рассвета кружил по своей просторной спальне. Вгрызался памятью в мельчайшие подробности, связывающие его с Рихезой: лихорадочно припоминал все, что когда-либо услышал от нее в Кёльне, в Мерзебурге, по дороге в Польшу, в Кракове. Воссоздавал в памяти разговоры ее с мужем, которые неоднократно велись в его присутствии или которые ему удавалось случайно услышать. В этих разговорах прослеживал тайно вынашиваемую измену Болеславу. Порой его охватывало такое отчаяние, что он решал немедленно отправиться на поиски Болеслава, поклониться ему в ноги и сказать, что он покидает Польшу. «И куда же ты пойдешь?» – несомненно, спросит его Болеслав, дружески кладя тяжелую свою руку на его хрупкое плечо.
Бот именно: куда? В Рим, к Иоанну Феофилакту, ныне папе Бенедикту Восьмому? Но Тимофей, когда он как-то заговорил с ним об этом, неожиданно сухо, почти неприязненно сказал:
– Говорил я о тебе с папой Бенедиктом. Он сказал, незачем тебе возвращаться в Рим. Твое место в Польше.
Так, может быть вернуться в Англию? Мысль эта начала преследовать Аарона со дня Вознесения девы Марии, когда ему неожиданно вручили письмо с печатью гластонберийского аббата. Это был ответ на письмо, которое Аарон послал в Англию в конце зимы по желанию Болеслава, переданное ему устами аббата Антония.
Дрожащей рукой сломал Аарон печать, дрожащими губами шепотом стал выговаривать прочитанное:
Этельнот, недостойный слуга Христа нашего и Этельреда, короля англов и саксов, ныне пребывающего в изгнании, Аарону, высокочтимому аббату и любезному нашему другу, шлет братский привет.
Двадцать лет прошло, дорогой брат, с тех пор, как я обнял тебя в последний раз, но бессилен оказался ход времени перед силой любви моей к тебе. И ныне люблю тебя, Аарон, так же, как в гластонберийской школе, как на корабле, как в Риме. Никого сильнее не любил я, даже родных братьев. Управляя ныне по воле бога и короля гластонберийским аббатством и нашей школой, я никому не дозволяю сидеть на той скамье, где мы рядом сидели столько лет. Пустое место заставляет меня неустанно думать о тебе, а когда думаю о тебе, чувствую себя счастливым. Никогда я не был так счастлив, как именно в эту минуту, когда узнал, что ты жив, узнал, где находишься, и могу писать тебе…
У Аарона дрогнула рука, на пол посыпались листочки – множество листков, испещрепных плотными рядами мелких, четко выписанных букв. Не письмо, а целая книжечка!
Значит, вот сколько лет отдаления нужно, чтобы узнать, что у тебя есть друг?! И кто? Высокомерный, малословный, обычно грубоватый Этельнот, сын могущественного Этельмера, неимоверно кичащийся своей кровью, богатством, властью отца, королевской милостью?! Ведь он, Аарон, не смел обратиться к Этельноту без дрожи в голосе и в сердце. Как же он робел перед ним, своим товарищем по школьной скамье, избегал Этельнота как мог, хотя все годы учебы старался оказывать ему серьезные услуги, даже не сознавая толком, зачем он это делает, то ли во имя искренней дружбы, то ли из-за желания подладиться, заслужить благоволение молодого вельможи, с которым делит честь быть первым во всех предметах, преподаваемых в известной школе гластонберийского аббатства.
Еще в Риме Аарон был уверен, что Этельнот его не любит, более того, просто не выносит. Каждое его слово, каждый его поступок были как будто исполнены презрительного оскорбления из-за того, что вот приходится знатному отпрыску Этельмера делить с ирландским приблудышем лавры учености, лавры высокого отличия, которыми явилась их поездка в Рим. И поэтому Аарон, боясь быть высмеянным, сказал Антонию: «Этельнот был моим другом», хотелось ему в глазах мендзыжецкого аббата, а значит и в глазах Болеслава быть кем-то, с кем надо считаться, если Болеслав намерен чего-то добиться в Англии, где он, Аарон, рос. Ведь, посылая по поручению Болеслава письмо Этельноту, он вовсе не ждал ответа: глубоко был убежден, что высокомерный сын Этельмера вовсе не захочет ответить на послание издалека – послание, которое напомнит о том, что вот приходилось столько лет делить с приблудным ирландцем честь учености… Может быть, и вовсе не помнит Аарона, да еще рассердится, получив его письмо: вот заставляют вспоминать о неприятных вещах, так уязвляющих гордость… Отправив письмо, Аарон неоднократно ловил себя на мысли, а вдруг и не дойдет письмо до Этельнота: огонь пожрет его в дороге или – что вернее всего – волны морские поглотят.








