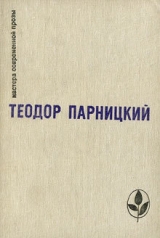
Текст книги "Серебряные орлы"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 34 страниц)
– Откуда же, сын мой, эта уверенность, что тебя осенил дух святой? – строго прервал императора Аарон. – А не были ли это демонские козни?
По лицу Оттона покатились слезы. Он не знает, поистине не знает, не может сказать, действительно не сатанинский ли здесь умысел. Но нет, пожалуй, все же божественное прозрение. Пусть преподобный отец сам подумает. Есть в Риме женщина по имени Феодора Стефания. Эта женщина горячо любит императора, так, как ни одна женщина не любила ни одного мужчину. Женщина эта была женой Кресценция, она спала с ним, родила ему детей, потому что так требовала семья, – обычное дело. Он, Оттон, знает, и хорошо знает, наверняка знает, что она была довольна, была счастлива, когда император отобрал ее у Кресценция. Но он, От-топ, не жестокий человек, как о нем говорят некоторые, он даже не злой, душа у него мягкая: хотя Кресценций тяжело провинился против величества, но, раз уж он отец детей Феодоры Стефании, императора обрадовало, что он может ему простить и не казнит его, не заточит, только изгонит из города, как можно дальше от Феодоры Стефании. Но во время пиршества, за столом, накрытом на троих, император вдруг заметил, что Кресценций обменивается с Феодорой Стефанией лукавыми взглядами… и если бы только взглядами – они пересмеивались… Да. Оттон хорошо заметил, хотя сидел боком, – они смеялись: сначала Кресценций, потом они вместе – смеялись над ним, над императорским величеством… Смеялись, радостно и злорадно помышляя о кознях, которые Кресценций будет строить против Оттона, к которым будет склонять слабую женскую душу своей бывшей супруги… Так пусть же скажет преподобный отец: разве не праведно, не прозорливо поступило императорское величество, обрубив в благородном гневе корень гнусной измены, прежде чем из него вырос цветок ядовитого святотатственного преступления?!
– А ты не думаешь, сын мой, что, может быть, они вовсе не над тобой смеялись? Что, может быть, никакой измены в их смехе не таилось? Может быть, они смеялись друг другу, радуясь, что вновь вместе…
Глаза Оттона быстро-быстро замигали.
– Что ты хочешь сказать? Как ты это понимаешь? Ты говоришь, что они радовались, что снова вместе?
– Именно так я и сказал, сын мой. Неужели ты никогда не думал, что, может быть, они очень любили друг друга?
Оттон засмеялся.
– Сын мой, ты на исповеди! – строго напомнил ему Аарон.
– Нет, нет… это невозможно… ты просто глупец… ничего не понимаешь… Если бы ты знал… если бы ты слышал, что она мне говорит, когда будит меня ночью и просит… нет, нет… она меня любит – только меня – так, как я сказал: так, как ни одна женщина никогда не любила ни одного мужчину…
– Почему же тогда ты сказал, что, прощая Кресценция, ты хотел изгнать его, чтобы он был как можно дальше от Феодоры Стефании?.. Что значили слова «как можно дальше от нее»?
Оттон вздрогнул и низко склонил голову.
– Нет, нет, – повторил он упрямо, – нет, они означали не то, что ты подумал… Вовсе нет… Ох, какой же ты глупый, какой темный… А ведь были минуты, когда я считал тебя мудрецом, таким же, как папа… Говоря «как можно дальше от псе», я имел в виду заботу, чтобы спасти ее от искушения, чтобы слабая женская душа не дала втянуть себя в путы вероломного заговора… Ты же знаешь, она так гордится, что рождена римлянкой, что ее тетки и бабки владели Римом, ставили и свергали по своей воле пап… Я стал рисовать перед ними обоими – коренными римлянами во многих поколениях – картину великолепной империи, которая возродится благодаря моему могуществу… Я говорил, а он смеялся, смеялся дерзко, издевательски. Слышишь? И посмел, несчастный, посмеяться над моим римским духом, кичась предо мной своими корнями, уходящими в землю этого города веками… О, я его хорошо понял: он считает меня саксом, приблудным, варваром – меня! – меня, о ком сам папа и Иоанн Феофилакт говорят, что великолепный римский дух моего величества затмевает память Константина, Траяна, Августа… А он смеялся – и она с ним, она с ним… надо мной… нет, не надо мной… она не надо мной… нет… Над моим римским духом смеялась, подстрекаемая им – и он должен был погибнуть…
Оттон на миг смолк, чтобы неожиданно исторгнуть из себя робким шепотом, пристыженным, поистине жалобным:
– Отец, преподобный отец, что ты сам думаешь о моем римском духе?
Аарон растерялся. Оробел. Не знал что сказать. Не мог сосредоточиться должным образом: слова императора вновь оживили сборище веселых юнцов и девушек, купающихся в пруду, парами убегающих к старым гробницам, гордо говорящих о себе: «Настоящие римляне – это мы, только мы…»
Но к счастью для него, отвечать не пришлось. Мысль Оттона лихорадочно крутилась вокруг этого «как можно дальше от Феодоры Стефании».
– Так вот, монах, – сказал он глухо, но с такой одержимостью, что Аарон даже вздрогнул, – если бы было так, как ты говоришь, если бы она его когда-нибудь, хоть бы даже еще тогда, когда я ее не знал, любила… но любила не так горячо, как любит сейчас меня, – слишком легка была бы для него та казнь, на которую я его обрек… Если бы я хоть один миг думал так, как ты, бедный глупец, думаешь, – прошли бы месяцы, целые месяцы, прежде чем ему отрубили бы голову. Его бы так истязали по моему приказу, что даже у венгров, самых диких язычников, от одного рассказа об этих муках волосы поседели.
– И так случилось бы, стоило тебе хоть на миг подумать, что она его любит? – дрожащим голосом спросил Аарон.
Оттон молча кивнул головой.
– Но почему ты приказал так страшно истязать Кресценция, а не Феодору Стефанию? Ведь ты же говоришь о ее любви?
Минута тишины, долгая минута тишины. А потом рыдание. Тихое, еле слышное, полное стыда рыдание:
– Потому что… потому что я не могу без нее.
И вновь тишина. На этот раз из-за Аарона. Потому что он не знает что сказать. Не знает, как должен поступить исповедник после такого признания. Собственно говоря, исполняя волю паны, он должен бы попытаться внушить Оттону, чтобы тот отдалил от себя Феодору Стефанию. Но он чувствует, что сейчас он на это не способен. Сейчас, когда император, рыдая, сказал: «Я не могу без нее». Аарон дивится себе: ведь это рыдание должно бы наполнить его гордостью, ведь ничто лучшим образом не свидетельствует о победе, которую он одержал над душой Оттона. Неужели он мог когда-либо себе представить или хотя во сне увидеть, что вечный государь, цезарь император, повелитель королей и князей и могущественных армий, владыка всего мира, будет в слезах раскрывать свою душу перед ним, приблудным монахом, не знающим отца своего, не помнящим матери? Перед ним будет разбираться в самых сокровенных, самых стыдливых своих чувствах?! К нему будет взывать, чтобы помог, дал совет, понял его?! Он достиг большего, чем хотел, большего, чем Сильвестр Второй мог ожидать от куда более опытного исповедника. Вот так сразу добился того, чего не ожидал и к чему не стремился: теперь он испытывает к Оттону доброжелательное сочувствие, оно мешает ему быть суровым, испытывать превосходство, лишает проницательности и бдительности. Он молчит, так как не может решиться на дальнейшую борьбу, просто не хочет бороться. Он не может заставить себя по-прежнему называть Оттона сыном, а не императорской вечностью. Так и хочется этим торжественным титулованием вернуть рыдающему юнцу чувство силы и гордости. Но он понимает, что нельзя этого делать, – и молчит.
Оттон же понял его молчание как знак того, что исповедь окончена. И вздохнул с облегчением.
– Колени занемели, – прошептал он, улыбаясь сквозь слезы.
В шепоте этом, полном пристыженности и извинения, было столько детской покорности и одновременно доверия, что Аарон не мог удержаться от слез. Охотнее всего он поднял бы руку, чтобы дать Оттону отпущение, но, помня наказ папы, с сожалением одернул себя: еще не время.
– У сына божьего в вертограде и на Голгофе не одни колени страдали, – сказал он, громадным усилием воли пытаясь придать своему голосу как можно больше строгости, – а ведь он страдал не за свои грехи, а за наши, и за твои тоже, сын мой…
Смолк было, потом на одном дыхании быстро произнес:
– Тебя же учили, что грех быть в связи с женщиной, хоть и самой желанной, но не сочетавшейся с тобой таинством брака в господе. Ты должен жениться, сын мой.
И сам испугался своих слов. Что он натворил? Воистину сочувствие к Оттону лишило его проницательности и бдительности. Он поторопился, исполняя наказ папы, ведь именно эта минута была самая не подходящая для такого наказа! Оттон только что рыдал, со стыдом признаваясь, что не может без Феодоры Стефании. Зачем тогда нужно долгие годы изучать логику, если ты не мог сообразить, что из двух посылок: «Я не могу без нее» и: «Женись» единственно правильный вывод: «Я женюсь на Феодоре Стефании».
А ведь подобный вывод находился в явном противоречии с желанием Сильвестра Второго: достаточно Аарону припомнить все, что папа говорил Феодоре Стефании и ему сразу же после ее ухода, чтобы с ужасом осознать, какую он совершил ошибку. И в отчаянии подумал, что папа одарил его незаслуженным доверием: нет, не должен был он браться за это задание, с которым не справился. Не только опыта ему недостает, но и проницательности и умения рассуждать. Думая, что творит добро, он совершает непоправимые ошибки.
– Нет, отче, я не женюсь. Никогда.
Такого ответа Аарон не предвидел, не предчувствовал. Он принес облегчение, по вместе с тем и тревогу. С неподдельной строгостью он потребовал объяснения. Но спрашивая почему, он мало питал надежды, что ответ императора будет связан с чувством гордости: раз уж греческие базилевсы отказали ему в сестре, то нет во всем мире королевны, достойной императорской диадемы. С таким ответом еще можно бороться, и Аарон, наученный папой, знал, как бороться. Но тут он был уверен, что, к сожалению, ответ будет не чем иным, как новым заявлением: «Не могу без Феодоры Стефании…» Значит, Аарон совершенно беспомощен.
Он заметил, что его вопрос уязвил Оттона.
– Святейший папа мог бы, однако, подобрать более подходящего исповедника для беседы с душой императорской вечности, – произнес он почти гневно. – Я мог бы разъяснить тебе, монах, о чем мечтает, по чему тоскует, к чему стремится наше священное величество… Неужели тебе и впрямь неизвестно о пашей воле отречься от всех мирских дел и удалиться в отшельничество, чтобы посвятить себя господу?
Тут уж Аарон совершенно искренне пожалел, что не положил конец исповеди. Вот забрел вместе с Оттоном в такую чащобу тайников его души, да так, что уже не видит никакой возможности выбраться. И не только себя винил он мысленно, но и папу. И не только в том, что ему, такому неопытному, такому беспомощному, доверил такое трудное задание. Хотелось еще укорить Сильвестра Второго, что тот его совершенно не выучил, как отнестись к мечте императора оставить сей мир и удалиться в обитель. Ведь в качестве исповедника, служителя Христова, он не может не высказать похвалы столь благочестивым намерениям. Он должен горячо уговаривать Оттона, чтобы тот последовал голосу своей души. Но что тогда будет с империей? Поощряя императора, он, Аарон, повлиял бы на судьбы стольких королевств, на судьбы всего христианства! А какое он имеет на это право? Откуда он может знать, благие или пагубные последствия для империи повлечет за собой это отречение? Даже в голове помутилось. Из совета папы, чтобы во время исповеди он склонял императора жениться, недвусмысленно вытекает, что Сильвестр Второй совершенно не считается с мечтою Оттона отказаться от власти, стать монахом или отшельником. Точно папа ничего об этих мечтах не знает! А отсюда следует, что Аарон должен отсоветовать императору отрекаться от мира и власти. А можно ли это делать? Не возьмет ли он на себя тяжкий грех? И не удивительно будет, если Оттон решительно встанет с колен и уйдет, сказав на прощание: «Не достоин ты меня исповедовать, не достоин, чтобы я называл тебя слугой того, кто сказал богатому юноше: „Раздай все, что у тебя есть и следуй за мной“».
Но Аарон овладел хаосом мыслей. Напряженно искал выхода, и ему показалось, что нашел. Он примирит чаяния императора с советом папы одной фразой и положит конец исповеди. И без того он уже обессилел, как никогда. Больше не выдержит.
– Похвальны твои намерения, сын мой. Но ты должен следовать положительным примерам, которые нам передали минувшие века, а также недавние деяния греческих базилевсов. Ты должен взять себе жену, которая родит тебе наследника. Ты воспитаешь его, передашь ему свою мудрость и могущество, подведешь под его руку всех тех, кто тебе служит, – и только тогда, спокойный за судьбы империи, разлучишься с супругой, снимешь с себя диадему и пурпур и всей душой посвятишь себя богу. Я думаю, мы можем закончить святой обряд покаяния. Ты же признался во всех грехах, так ведь?
Как-то в Реймсе Аарон поднялся на колокольню при соборе Святого Креста. С любопытством и восхищением разглядывал он большой колокол, которым не даром гордились реймские архиепископы перед всей Западной Франконией и даже перед всем христианским миром – в Англии таких колоколов Аарон не видал. С опаской потянул он за веревку – тщетно, колокол не издал ни звука. Сопротивление это подхлестнуло Аарона, и он до тех пор тянул за веревку, напрягая все силы, прикладывая столько старания, пока не раздался наконец удар, потом второй, третий, четвертый – и вот уже гулкий звон поплыл над городом, вызывая всеобщее удивление и тревогу из-за того, что в соборе звонят в такое необычное, неурочное время… Пристыженный, упав на колени, Аарон пытался утихомирить колокол, но тщетно, ни сила, ни старание не помогали, раскачавшаяся громадина была сильнее его, даже вырвала веревку из его немеющей руки.
Раскачавшаяся душа Оттона вырвалась из его рук, как этот колокол в Реймсе. Навалилась на него гулкой волной признаний, непредвиденная искренность которых поразила Аарона. Была минута, когда он даже хотел заткнуть уши: ему показалось, что он совершает святотатство, выслушивая такие вещи об Оттоновом величии. То, что он слышал из уст самого Оттона, усиливало ужас, к тому же император свою исповедь прерывал лихорадочным рыданием. Он восклицал, что нет, не хочет, никогда не захочет, чтобы какая-нибудь, пусть даже самая знатная, супруга родила ему наследника: несчастное будет то дитя, слабее и несчастливее своего отца, насколько он, Оттон, слабее и несчастливее Оттона Рыжего, а тем более могущественного деда, Оттона Первого… А великолепное и грозное величество правящей миром империи должно сочетаться с мощью, исполненной счастья, а не с беспомощной слабостью. Блистательная мысль Оттона Третьего сумела воспринять наследие блистательного Рима, могущественного Рима и усвоить все его требования, сумела сформулировать гордые намерения, долженствующие возродить Римскую империю, – но осуществление этих намерений слишком тяжкое бремя для бедной души Оттона… Аарон вздрогнул, вспомнив слова папы: «Невольно ты поймешь, какая бедная это душа, с которой ты будешь беседовать, если только добьешься, чтобы она позволила тебе с нею беседовать». Да, он добился. Оттон беседует с ним, более того, он поверяет ему такое, чего он не хочет слушать, боится слушать – это пугает его, приводит в трепет, в помрачение… Он говорит ему о том, что величие божие, смилостивившись над слабостью Оттона и способствуя его намерениям, благородным, святым, полным гордости, указало ему путь – путь далекий, трудный, чуждый доселе римскому имени, но единственно верный путь, – такой, который привел его в братские объятия могущественнейшего из могущественных мужей – единственного, кто достоин имени Цезаря империи, Августа, – единственного, чьи плечи не согнутся даже под тяжестью наследия Рима… Этот муж – патриций империи, Болеслав, князь польский… Сейчас перед ним носят серебряные орлы, а понесут золотые… Понесут… Оттон желает этого. Оттон этого добьется… а когда добьется, со спокойным сердцем уйдет в пустынную обитель молить бога, чтобы сжалился над его бедной душой, такой слабой, такой грешной… Нет, он даже не будет ждать так долго: счастливая мощь Болеслава, поддержанная мудростью папы Сильвестра Второго, сама завоюет себе золотых орлов, диадему, пурпур и власть над всем миром… Недалек день, когда мир увидит неожиданный уход Оттона в отшельническую келью… Он уйдет в болота под Равенной, к Ромуальду, самому строгому из пустынников, или еще дальше… далеко, далеко… поставит себе хижину на славянской земле, где-нибудь подле гробницы, в которой покоится друг Оттона святой мученик Войцех-Адальберт…
Аарон вновь почувствовал биение в висках, сильный шум в ушах. Славянский варвар – носитель величия Рима?! Сын ново-крещенного – христианский владыка?! Он же хорошо помнил, как Дадо возмущался и угрожал, когда этот Болеслав был наречен патрицием… Только еще патрицием, а не Цезарем Августом! Кричал, что опозорены серебряные орлы, если они украшают такую грудь. Даже серебряные, а не золотые! А что святейший отец думает об этом? Он даже никогда не заикался о подобной возможности! И ведь Болеслава никто никогда не видел в Риме: завтра во время торжественного шествия на Капитолий серебряных орлов понесут перед конем без всадника в седле! Аарона охватывает безграничное отчаяние при мысли о том, что он не сможет поговорить с папой о намерениях Оттона, касающихся Болеслава, – ведь он же узнал об этих намерениях на исповеди! Прерывающимся голосом спросил он императора, не считает ли тот, что нанесет ущерб своему племени и обиду роду своему, отобрав у него пурпур и диадему и передав их чужаку.
– Перед лицом величия Рима, призванного править всем миром, – ответил Оттон, – нет разницы между племенами… И кроме того, отче, разве царь небесный не отобрал водительство у Израиля, чтобы передать его язычникам? Вот так же и Рим вправе отобрать водительство у германцев и передать его славянам… – Он тяжело вздохнул. – Мое племя, говоришь, – страдальчески простонал он, – а где оно, мое племя, отче?.. Скажи, где, какое?
И вновь он почти рыдал. Вновь Аарону пришлось попросить императора понизить голос. А тот лихорадочно, одержимо взывал, почти кричал: германцы его считают греком, греки – германцем. Он римлянин, а римляне видят в нем варвара… Какое же племя мое? Какое? А мой род? Там, там, в небесах, одесную господа, наверное, скорбят и страдают могущественный Оттон Первый и Оттон Рыжий оттого, что диадема и пурпур перейдут от их рода к чужому… Но почему же они – эти два блистательных Оттона – не умолили господа, чтобы тот даровал им внука и сына посильнее? А впрочем, что важнее: род или могущество империи? В древнем Риме цезари, прославленные мудростью и силой, вовсе не в сынах крови своей видели паследников, а, наоборот, тех делали своими сыновьями, кого считали достойными этого наследия… И он, Оттон, вот так же сделает своим сыном польского Болеслава, хотя тот но летам своим, мудростью и силой годится ему в отцы. Конечно, он, Оттон, мог бы постараться, чтобы от его рода не ушли пурпур и диадема… мог бы, если бы на него раньше снизошло откровение духа святого… Он мог бы Матильду, сестру свою, отдать Болеславу, а не Герренфриду… Но тогда он был еще темный, его ослепляла племенная гордыня: вместе с иными глупцами верил, что недостойно отдавать императорскую дочь за сына новокрещенного и славянина… Вот и покарал его бог за темноту и гордыню… Приехав в польский город Гнезно, он понял, что никто так не достоин его сестры, как Болеслав, но было уже поздно… Мог бы своих сестер Адельгейду или Софию склонить, чтобы они покинули монастырь – пусть себе тот или иной аббат или епископ гневятся, он бы на это и не посмотрел, заставил хоть одну из них покинуть монастырь – но и это ни к чему, потому что Болеслав уже взял себе новую жену, какую-то совсем недостойную его звания и могущества, славянскую княжну… А может быть, склонить его, чтобы он отдалил свою жену и взял бы Софию, как отец Болеслава Мешко взял когда-то из монастыря Оду?
– Ты бы поднял, сын мой, против себя и Болеслава всю святую церковь, – строго сказал Аарон. – И свершил бы вдвойне тяжкий грех…
– Может быть, и верно ты говоришь. Святая церковь должна быть за нас, а не против нас, мы оба: я и Болеслав… Но ведь я что-нибудь приберегу для своей крови от императорского величества. Старшую дочь Матильды и Герренфрида возьмет в жены сын Болеслава, эта крошка Рихеза будет когда-нибудь Августой, будет – бог мне в этом порука!
Аарон не слишком внимательно слушал последние слова Оттона. Весь он был поглощен новой мыслью, которая наполнила его радостной надеждой на исполнение самого важного папского поручения.
– Сын мой, – сказал он, с трудом подавляя радость в голосе, – коли уж ты готовишься идти узким путем и тесными вратами, если призывает тебя голос сына божия: «Раздай все, что имеешь и следуй за мной» – ты уже сейчас должен сделать первый шаг. Ты хочешь отдалить от себя пурпур и диадему, а не должен ли сначала отдалить от себя женщину, с которой ты сочетаешься не по закону божьему?
Оттон поднял к нему полные удивления и упрека глаза:
– Неужели отец небесный, который не отказал тебе устами святейшего папы в праве быть принятым в число слуг своих, отказал тебе в даре памяти, отче? Я же только что сказал тебе, обнажив, как ты требовал, самые сокровенные тайники души моей, не могу я без Феодоры Стефании.
Аарон вновь почувствовал себя беспомощным, бессильным охотником, таким неопытным, заблудившимся в сумрачной чащобе, преследуя со своим гончим псом забившегося куда-то зверя.
– Не понимаю тебя, сын мой, – произнес он голосом, полным наивысшего удивления, но все еще любопытствующим и настойчивым. – Я начинаю опасаться, что ты и сам не понимаешь, но каким темным, полным опасностей путям блуждает твоя душа.
– Может быть, ты и прав, отче, – тихо, покорно ответил Оттон, – но разве ты здесь не для того, чтобы помочь мне выйти на свет с этих темных дорог? Помочь мне разобраться в том, чего я сам не очень хорошо понимаю?
Если Аарон, наставленный Сильвестром Вторым, сравнивал самого себя на время исповеди с вооруженным охотником, мысль Оттона с гончим псом, а душу его с сумрачной чащей, в которую забился преследуемый зверь, то теперь с грустью, почти с отчаянием вынужден был признаться, что охота превратилась в безнадежное блуждание по непроходимым дебрям, причем зверь уходит все дальше, все глубже в лесную глушь – гончая, поначалу упрямая и ленивая, преследует его своим все более обостряющимся нюхом с неистощимым ожесточением, зато охотник уже еле держится на ногах от изнеможения, потеряв где-то в кустах свое оружие. Это он должен просвещать Оттона, указывать ему дорогу, поучать? Да и что он мог сказать императору, когда тот лихорадочным шепотом стал излагать перед ним самые сокровенные тайны, касающиеся отношения своего тела и своей души к Феодоре Стефании? Аарон пытался постичь теперь, выслушивая, закрыв лицо обеими руками, странное – кощунственное, как ему казалось, – признание, что император тогда лишь оставит сей суетный мир, когда почувствует себя зрелым мужем, а не ребенком. Произойдет же это лишь тогда, когда он изведает всю полноту гордости, которую дает чувство достижения наивысшего наслаждения от общения с любимой женщиной. От этих признаний Аарон становился куда более беспомощным и бессильным, чем от чего-либо другого. О телесных и любовных делах он знал только то, что ему сказали книги, сны и рассказы Тимофея, но последние сейчас меньше всего годились. Тимофей некогда верил, что удивительная сила, которую он ощущает в себе, исходит от Феодоры Стефании; правда, в последнее время все говорит за то, что источник этой силы он усматривает в отказе от женской любви: ведь сближение с двоюродной сестрой Кресценция он расценивал как утрату своей силы. Оттон тоже говорил о какой-то удивительной силе, которую чувствует в себе. Но из его оборванных, бессвязных, часто мутных и темных признаний вытекало, что именно в любовном общении с женщиной эта его сила формируется, накапливается, расцветает, крепнет – но Феодора Стефания никак не источник этой силы, а только вспомогательное орудие для ее пробуждения и накопления – орудие, без которого Оттон, как он сам говорит, не может жить, как воин не может жить без меча. Лишь завоевав королевство, вопи может отбросить меч; лишь обретя чувство полноты силы, отдалит он Феодору Стефанию и тогда полностью посвятит себя богу, она же пусть займется своими детьми, пусть тоже идет в монастырь! Оттон просто ошеломил Аарона признаниями, что его грешное одиночество долгих молодых лет – одиночество, которое кончилось лишь тогда, когда ему раскрыла объятия Феодора Стефания, – так затормозило расцвет этой его удивительной силы, что, видимо, еще пройдут долгие годы, прежде чем он изведает полноту любовного наслаждения, а вместе с ним и полноту своей силы. Удивительное дело: в то время как Тимофея чувство нарастающей мощи наполняло все более гордыми мечтами о могуществе, все более сильной верой в то, что он добьется всего, чего захочет, благодаря этой силе – Оттон, наоборот, как будто не хотел извлекать из своей силы никакой для себя пользы. Вопреки всему, что Аарон доселе о нем слышал, он с жаром уверял своего исповедника, что не только не вынашивает новых мечтаний о могуществе, но решительно собирается отречься от всего, что до сих пор имел, – отречься немедленно, как только почувствует, что вместе с полнотой любовного наслаждения обрел полную силу. В какой-то момент Аарон подумал, что, может быть, император постарается использовать эту силу для борьбы со своей душой на трудном покаянном пути к святости; но ничего в словах Оттона не подтверждало такого предположения. Аарон даже испугался промелькнувшей у него мысли, счел ее кощунственной: достойно ли христианской душе черпать помощь на пути к святости из силы, почерпнутой в грешном общении с женским телом?! Оттон, казалось, уже не замечал, что у него немеют колени: из уст его лился нескончаемый поток оборванных, запутанных, все более косноязычных фраз: действительно, многое из того, что он чувствовал, он не понимал, а еще больше не мог изложить ясными словами. Аарон решил сдержать этот поток, возведя безжалостными, сокрушающими словами твердую и прочную, как он полагал, плотину, поскольку он сознавал, что больше не выдержит.
– Все, что ты говоришь, сын мой, доказывает лишь, сколь склонен ты ко греху плотского вожделения. И не только грешишь, но и вводишь в соблазн. Мужи разумные, почтенные, хотя и не достойные того, чтобы им можно было дерзко вторгаться в тайники императорской души, сумели усмотреть чрезмерное вожделение даже в твоих взглядах: взять хотя бы, к примеру, как ты впился глазами в босые ступени Феодоры Стефании, когда она впервые предстала перед твоей императорской вечностью.
Он умышленно сказал «твоей императорской вечности», а не «сын мой». Он взывал к Оттону, чтобы тот опомнился, чтобы удержался от излияний, чтобы сам устыдился перед своим собственным величеством. По титулование больше действовало на самого Аарона, чем на императора. И, произнеся эти слова, он растерялся, онемел, почувствовал, что утрачивает свое превосходство, которое с таким трудом завоевал: почувствовал себя жалким, ничего не значащим приблудным монахом, святотатственно осмелившимся дерзко разговаривать с императором.
От страха он даже зажмурил глаза, решив, что сейчас Оттон властно, грозно, не допуская никаких возражений потребует, чтобы Аарон назвал тех дерзких, которые посмели бесстыдно обсуждать взгляд, которым император соизволил некогда окинуть босые ступни Феодоры Стефании. Но он ошибся: в ответе императора не было ни угрозы, ни властности, только печаль и горечь. Он горько пожаловался на необлагороженные духом святым людские души, злокозненно и грубо усматривающие вожделение всюду, даже там, где ничего иного, из-за своей темноты и неотесанности, увидеть не могут. Он не винит их, потому что и сам, даже понимая многое, не может должным образом изложить словами то, что понимает, – но он хотел бы, чтобы преподобный отец не разделял мнения темных людей. И хотя ему трудно, он попробует объяснить исповеднику, почему же его действительно в такой жар бросил вид босых ног приведенной к нему красивой, благородной женщины. Он не впадал в излишнюю скромность: действительно лишь с большим трудом и не очень удачно удалось ему объяснить Аарону суть этого взгляда.
Уже ребенком Оттон знал, что ничто так не унижает достоинства, как появление перед людьми босым. Аарон установил, что в этом отношении Оттон ничем не отличается от той молодежи, которая весело резвилась у пруда на Аппиевой дороге. Совершенно так же, как эти юнцы и девицы, он полагал, что обнажать свои ступни нельзя, не испытывая унижения, разве что среди равных себе – среди своих. Но кто же равен Цезарю Августу? Выйдя из раннего младенчества, он даже в присутствии сестер не позволял себе снимать обуви. И хорошо помнит, что, когда в Павии коснулась его висков железная корона и в колеснице торжественно отвезли его во дворец, где в окружении придворных ждала его мать, он пожаловался на боль в пятке. Тогда императрица Феофано приказала даже графу Хоику, который обычно носил короля на руках, покинуть комнату. Потому что никому, так она сказала, не дозволено смотреть, как с четырехлетнего короля германцев и италийцев, с наследника римской императорской короны снимают обувь: никому, кроме матери и, конечно же, домашних слуг, которые никак в счет не идут, потому что они почти то же самое, что кошки и собаки. Так что решение Оттона при въезде в славянский город Гнезно босиком пройти семь миль до той церкви, где покоятся останки святого мученика Войцеха-Адальберта является самым драгоценным доказательством, как он чтит память любимого друга и какою милостью дарит польскую землю, которую святость Войцеха-Адальберта взяла под свое покровительство. И если бы преподобный отец сумел понять, какая это была огромная жертва со стороны императора – подобный отказ от своей гордыни, – сколько унижения испытал он в мыслях, ступая босиком по красным тканям, которыми устелил дорогу до Гнезно Болеслав, тогда еще вернейший ленник, а ныне любезный друг и наследник. Так что когда Оттон увидел перед собой босую Феодору Стефанию, его потрясли сразу две мысли: прежде всего вспомнилась мать, которая только перед ним, перед сыном и императором, не стыдилась обнажать свои ноги – ему показалось вдруг, что ни одна женщина, даже ни одна из сестер, не может быть ему так близка, как вот эта, полная великолепия и красоты незнакомая женщина. Если Аарон, хотя и с трудом, следовал доселе за бегом мысли Оттона, то следующее признание императора вызвало в его душе уже только безграничное смятение.








