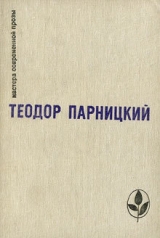
Текст книги "Серебряные орлы"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
Они ворвались – бурей промчались от одной двери к другой, – оттолкнули Феофано-младшую… Она покачнулась, чуть не упала, вся трепеща, забилась в угол – перед глазами мелькнуло красивое, смуглое лицо армянина Иоанна Цимисхия, любимца императора, он бежал с всклокоченными волосами, сжимая меч, что-то дико, хрипло крича. В соседней комнате послышался шум борьбы, короткий пронзительный вскрик, потом стопы и хрип. Феофано-старшая поправляя волосы, потирая пятку о пятку, спокойно сказала: «Отдай мои башмаки».
Память Оттона спутала, перемешала обрывки подслушанного в Кведлинбурге рассказа. Императора Никифора Фоку вовсе не сбросили с постели на какую-то шкуру – он с самого начала лежал на тигровой шкуре. Десятилетний Оттон не знал, что такое тигр. Мать объяснила, что это то же самое, что леопард, только больше, и вместо пятен у него полосы. У Оттона тряслись губы, отвисала челюсть, но он рыдающим криком вынудил мать трижды повторить, как Никифору Фоке связали ноги, как Иоанн Цимисхия, отодвинув товарищей, собственноручно вырвал у него волосы из бороды, бил умирающего ногой в живот и в лицо. Но совершенно Оттона не тронуло то, что мать его без чувств упала на пол, когда Феофано-старшая звонким, радостным голосом воскликнула, обращаясь к прибежавшим придворным: «Самодержец базилевс Никифор Фока, супруг мой, скончался! Восславьте самодержца базилевса Иоанна Цимисхия, моего нового супруга».
– Теперь ты понимаешь, почему я сказал, что допустил ошибку, не предупредив тебя, что нельзя будить неожиданно императора, – закончил свой рассказ Сильвестр Второй.
Да, Аарон понял, а в Патерне имел возможность убедиться, что проникновение в сущность чего-то страшного отнюдь не делает это менее страшным потому лишь, что ты его понял. Наоборот, зная источник, породивший крик Оттона, Аарон испытал большее потрясение, чем все остальные, ничего не знающие, ничего не понимающие, – когда сильный порыв ветра, ворвавшись в распахнутую дверь, заглушил крик Оттона воем, свистом и ревом невидимых духов.
В распахнутой двери стояла Феодора Стефания.
– Это я открыла дверь, – сказала она спокойно, но громко.
– Ты? – вырвалось из-за занавесей душераздирающее изумление.
Феодора Стефания медленным, но уверенным шагом пересекла комнату, отодвинула завесу, долго смотрела на то, что еще называли монархом.
– Да, это я.
– Да, это ты, – послышалось болезненное изумление, на сей раз с ударением на «это», а не «ты». И тут же с рыданием: – Как ты могла?
Это «как ты могла?» долгие годы звучало в ушах Аарона, будя бесчисленные, каждый раз другие, но всегда вызывающие ужас догадки.
– А как ты мог? – сказала Феодора Стефания, опуская завесу.
Уходила она спокойно. Никто из присутствующих не провожал ее ненавидящим или хотя бы неприязненным взглядом. Несколько недель спустя Аарон узнал от папы, что под взглядом Феодоры Стефании на миг обрели полное сознание уже помутившиеся глаза Оттона – из них потоком хлынули детские слезы. Этот миг Сильвестр Второй счел наиболее подходящим, чтобы причастить умирающего. Он кивнул епископу Петру, взял из его рук облатку. Но тут завеса вновь поднялась, облатка вернулась в руки епископа коменского.
– Вновь исходит кровавой пеной, – шепнул Петр Аарону, – видимо, внутренности у него лопаются. Не сможет принять тела и крови Христовой…
– Тимофей…
Это был уже хрип, а не крик и даже не стон.
Тимофей вскочил. Кинулся к занавесу. Но на половине дороги его приковали к полу слова невидимого папы:
– Но ведь Тимофей давно уже отправился по приказу императорской вечности в Польшу. Скоро вернется. Прежде чем ты восстанешь с одра здоровым, дорогой мой, он приведет с собой патриция Болеслава. А с пим прибудет многочисленная, сильная дружина. Золотые и серебряные орлы вместе войдут в Рим.
И тут Оттон крикнул:
– Болеслав, прибудь… прибудь, спаси…
Это были его последние слова.
– Спи, сынок, спокойно усни… тебе надо отдохнуть… Не бойся, ничего не бойся, ты вовсе не умираешь, только засни… Ведь если бы ты умирал, разве был бы таким беззаботным, веселым? Подумай только: разве было бы это возможно? Не бойся, спи, отдохни…
Архиепископ Гериберт поднялся со скамьи. Тяжелым, широким шагом пересек комнату, отдернул занавес, схватил папу за локоть и потянул за собой в дальний угол.
Лицо его все так же напоминало изваяние из камня или бронзы. Слегка щуря серые глаза, он впился ими в папу.
– Прошу тебя, спаси его.
Сильвестр Второй ответил ему братским сочувственным взглядом. Словами не мог ответить.
– Не надо ждать, пока придет Болеслав. Пусть сейчас поправляется.
Еще больше братского тепла, еще больше сочувствия появилось в глазах папы. Он привлек Гериберта к груди и поцеловал в губы.
– Его уже ничто не спасет, – прошептал он хрипло, с явным усилием выдавливая из себя каждое слово.
– Ты спасешь.
Сильвестр Второй закрыл глаза.
– Бог сильнее меня, брат мой, – процедил он сквозь зубы.
– Не бога проси.
Папа раскрыл глаза. Он все еще смотрел на Гериберта сочувственно, но это уже было сочувствие, которое питают к неразумным существам.
– Не бога проси, – твердо повторил архиепископ кёльнский, – проси те силы, которые тебе служат.
Папа сочувственно смотрел теперь не просто на неразумное существо, а на безумца.
– Сейчас я выберу самого большого силача из всех воинов, – торопливо, судорожно продолжал Гериберт, – он отнесет тебя на спине на самую вершину Соракты. Я же знаю, хорошо знаю, у тебя там есть грот, туда тебя переносил из Рима по воздуху царь нетопырей, там ты созывал всех, кто тебе был нужен: Велиала и Математика, Плутона и Астронома… Ведь ты же наместник Петра, любому можешь отпустить грех, так что и себе отпустишь…
– Тебе не отпущу, Гериберт, – неожиданно грозно прервал папа, искры неумолимого гнева вспыхнули в его глазах.
Но это не сбило Гериберта, не заставило замолчать. Из-за тяжелых занавесей доносились все более страшные стенания, а архиепископ-митрополит кёльнский, канцлер Римской империи, настойчиво, пылко молил папу призвать черные силы. Он знает, он понимает, что совершает гнуснейший, ужасный грех и склоняет к ужасному греху, но он верит, что бог простит им этот грех, ибо разве не сказал спаситель, что простит тому, кто много возлюбил? А где же еще в этой земной юдоли есть любовь сильнее, чем их любовь к Оттону? Так пусть же не упирается учитель Гериберт, пусть не медлит – пусть спешит на вершину Соракты, пусть созывает, пусть приказывает… Будет лучше, если он призовет Астронома – тот пролетит между звездами, сядет на Сатурне, отломит кусочек кольца: говорят, что небесный камень, который упал с Сатурна, излечил в Трире сотни умирающих…
– Нет, ты не любишь Оттона, ты только притворялся, что любил, чтобы стать папой… Почему ты упираешься? Я все знаю. Я знаю, как ты в Кордове влюбил в себя дочь мага: она отдала тебе за любовь чародейские книги, а когда гнался за тобой ее отец, ты укрылся, повиснув под мостом, перекинутым через страшный океан. Какой же человек мог так долго висеть под мостом на руках? Они тебя поддерживали. А потом Математик взял тебя на свои крылья и перенес через море…
– И вот, слушая тогда Гериберта, я подумал, Аарон, что если бросить на одну чашу весов все сокровища добродетели и все богатства святости, а на другую грех кичливой закоснелой темноты, то, пожалуй, не помилует бог эту душу, – сказал Сильвестр Второй несколько дней спустя после смерти Оттона. – Я уже хотел было сказать это архиепископу, но тут врач как раз приподнял завесу и махнул, чтобы я подошел к ложу императора.
Сильвестр Второй был так потрясен словами Гериберта, он даже не заметил, что врач подозвал его не рукой, а кивком головы. Взглядом дал понять, что конец наступит вот-вот.
Но врач ошибся. Оттон еще полчаса находился между жизнью и смертью. Папа, которого Рихерий еще в Реймсе научил, где на запястье надо ловить биение земного существования, левой рукой любовно связал себя с еще трепещущей жизнью, а правую вознес к небу, чтобы передать эту жизнь любви более достойной, чем его, Сильвестрова.
Когда врач вышел из-за занавеси, все находившиеся в комнате пали на колени. Послышались рыдания. Громче всех плакал Гериберт – в лице его уже не было ничего от бронзы и камня.
Тамм собрал во дворе замка всех воинов, составлявших гарнизон Патерна, и прибывших с императором.
Перед вооруженными рядами встал маркграф Гуго. За ним Пандульф Салернский, епископ Бернвард и Феодора Стефания.
– Вечный император Цезарь Август мертв. Вы слышите? – громко воскликнул маркграф Гуго.
– Вы слышите, германцы, ваш король мертв! – так же громко воскликнула Феодора Стефания.
Маркграф Гуго окинул ее удивленным взглядом. Она не опустила глаза, а окинула его взглядом высокомерным и повелительным.
Он отвел глаза и вновь обратил свой взор на ряды воинов.
– Благородные мужи, – сказал он, – и вы, воины, ваш предводитель ныне в лоне господнем, так сохраните верность его памяти и неустанно сражайтесь против взбунтовавшихся римлян…
– Я не германец, – послышался из шеренги чей-то голос. – Я римлянин. И не буду сражаться против Рима.
Лицо маркграфа Гуго побагровело. Глаза яростно сверкнули. Он схватился за меч.
– Я тоже не германец, – начал было он, но его слова потонули в гуле голосов, кричавших, что они римляне и не будут сражаться против города.
В рядах произошло замешательство. Германцы, которых было все же большинство, схватились за оружие.
– Уйми их, – обратилась Феодора Стефания к выходящему во двор папе. – Пусть кровопролитие и междоусобица не нарушат покой дорогого нашим сердцам усопшего.
Сильвестр Второй обратился к воинам. Застыли в воздухе занесенные мечи, опустились на землю ощетинившиеся копья. Римляне один за другим начали выходить из рядов. Но германцы пока не вкладывали мечи в ножны – все, как один, вопросительно не сводили глаз с лица маркграфа Гуго.
А тот беспомощным взглядом спрашивал папу, что делать дальше.
– Скажи ему, чтобы разрешил римлянам пойти за мной, – сказала Сильвестру Второму Феодора Стефания.
– За тобой? Куда, безумная?
– Туда, где их место. В Рим. Я передам их в услужение тому, кто является их единственным законным вождем. Патрицию.
Папа взглянул на нее невменяемым взором. Все почувствовали, что в любой момент могут треснуть обручи воли, которыми он сковал свое безграничное страдание.
– Патрицию? Это кто же?
– Наследственный патриций, как его деды и прадеды. Мой сын. – И, обращаясь к маркграфу Гуго, добавила: – Лучше без раздора. Я знаю, вас больше и вы перебьете нас без большого труда, но клянусь, прежде чем вы нас убьете, мы ворвемся в комнаты и оскверним тело вашего короля, разрубим его на куски.
Сильвестр Второй, пошатываясь, подошел к Феодоре Стефании. Дышал он тяжело, хрипло.
– Ступайте, – сказал он, – и проложите дорогу останкам Цезаря Августа. Они упокоятся подле Оттона Рыжего в подземелье собора святого Петра. Пусть небесный ключарь оберегает прах и отца и сына.
Взгляд Феодоры Стефании скользнул по лицам римских воинов. Они стояли плотно сбившись, устремив полные восхищения и преданности взгляды на властное лицо благородной римлянки.
– Ошибаешься, наместник Петра, – сказала она. – Город не примет в свои священные пределы германского короля. Его место подле своих, там, на далеком Севере. Так пусть и несут его на Север германские рыцари.
Она сделала шаг в сторону папы, потом второй и третий.
– А ты, старец, – сказала она снисходительно, даже тепло, почти сердечно, – иди с нами. Место Петрова наместника в Петровой столице. Иди, спокойно доживешь дни свои, никто не помешает тебе читать книги, смотреть на звезды, играть на органе. Будешь молиться за римлян, епископом которых ты являешься; будешь оберегать чистоту веры, а о правлении империей пусть заботятся другие.
С треском лопнули обручи могучей воли. Сильвестр Второй опустился на камень, на тот самый камень, на котором плакал Тимофей в вечер прибытия в Патерн. Теперь плакал папа. Беззвучно. Как плачут обиженные, гордые, умные дети.
Аарон с болью подумал, как сваленное бурей тоненькое, стройное деревцо может, падая, повредить мощный ствол.
Феодора Стефания сделала еще несколько шагов. Подошла к двери, в которой виднелась фигура Тимофея.
– А ты, граф Тускуланский? – спросила она странно изменившимся, неожиданно низким, вибрирующим голосом. – Твое место тоже в Риме.
Он ответил ей полным неописуемого презрения взглядом.
Она даже вздрогнула и побледнела.
– Ты не хочешь быть подле патриция?
– Я буду подле патриция. Именно к нему я и отправлюсь. И вернусь с пим.
Воцарилась тишина. Не черные и зеленые – а две пары зеленых глаз скрестились. Но только об одних глазах подумал про себя Аарон, что они холодные, зеленые.
– Больше ничего мне не скажешь? – Голос Феодоры Стефании прозвучал еще ниже, чем перед этим.
Аарону показалось на миг, что по лицу Тимофея пробежала тень волнения, которое он так часто на этом лице замечал в прошлые годы. Но нет, ему показалось.
Ничего, кроме спокойного, холодного презрения не слышалось в голосе Тимофея, когда, кривя рот и обнажив щербину в зубах, ответил Феодоре Стефании, что, конечно, скажет ей кое-что, но только когда вернется.
И, произнеся это, направился к воротам замка.
Аарон кинулся за ним.
– Куда ты? – воскликнул он удивленно, схватив его за руку.
– Я ведь сказал. В Польшу, к славянам.
11

Четыре месяца странствовал Тимофей, прежде чем добрался до Польши. Аарон, прежде чем осесть в Тынецком монастыре, скитался одиннадцать лет. Удивительные это были скитания! Зигзагами вели они дитя Ирландии через Прованс, Бургундию, обе Лотарингии, королевскую Францию, Аквитанию, Каталонское графство и превосходящую их чудесами Андалузию, находящуюся под властью Полумесяца. Путешествие свое Аарон начал спустя два месяца после смерти Оттона: Сильвестр Второй поручил ему творить милосердные дела за границами христианского мира. В далекой, неверной Кордове посланник папы должен был выкупить евнухов христианского происхождения. Покидая Рим, Аарон предполагал, что вернется спустя неполный год – но так никогда и не вернулся.
Страхом наполнилась его мысль о трудностях и опасностях необычного путешествия. Какое-то время он даже пытался противиться воле папы, умолял, отчаивался, плакал. Напрасно. На сей раз Сильвестр Второй был бесчувствен, строг, неумолим. Не дал убедить себя уверениями, что выбор его неудачен, что хорошо известная ему неумелость Аарона помешает справиться со столь опасным поручением.
– Ты не один поедешь, – брюзгливо ответил Сильвестр Второй. – Я вовсе не требую от тебя ловкости, ловкачами будут другие. А ехать с ними, руководить ими должен тот, кому я безоговорочно доверяю, кто умеет говорить и читать по-гречески. – После чего уже мягче добавил: кому много дано, с того много и спрашивается, неужели Аарон не помнит, что именно так сказал спаситель? – Тяжким и опасным путешествием должен ты, сын мой, платить за право принадлежать к благородной общине, черпающей свою мощь из мудрости церкви.
– Неужели я еще не заплатил бесчисленными отказами? – с горечью ответил молодой монах.
Ответом своим он не разгневал папу. Наоборот, впервые после смерти Оттона заискрилась в карих глазах улыбка, добрая улыбка, полная истинно отцовской сердечности.
– Мы с тобой столько говорили, сын мой, о мудрости, которая является источником силы церкви. Но никогда еще не размышляли о том, чему, собственно, должна служить эта чудесная сила. В библиотеках Кордовы, куда тебе советую заглянуть, много есть греческих книг, посвященных истории языческих империй, Египта и Вавилона. Мне пересказывали содержание этих книг: много там есть любопытного, а любопытнее всего сведения, что в этих империях тоже были блистательные объединения жрецов, владеющих великой мощью, почерпнутой в мудрости. И я не раз задумывался, не будут ли в день последнего страшного суда эти египетские и вавилонские мудрецы взывать, указывая на наше единение, Петрову церковь: почему же ты, господи, их поставил одесную, а нас ошую? Ведь мы же одинаковы! И я размышлял, неужели наше превосходство над ними только в том, что мы появились на свет после жертвенного распятия, а они задолго до сошествия спасителя превратились в прах? И я пришел к тому, что это не единственная разница: по этим греческим книгам жрецы Египта и Вавилона черпали силу из мудрости для того, чтобы она служила сама себе: сила ради силы. А для нашего единения милосердие божие собственным примером определило служение: мы для того черпаем силу из мудрости, чтобы она служила не самой себе, а любви и доброте. Ты помнишь мою лекцию в Реймсе о механике? Я говорил тогда, что каждое существо и каждый предмет, который двигается, проделывает путь откуда-то куда-то: путь между двумя точками – исходной точкой и точкой конечной. Могущество церкви – это также существо, пребывающее в неустанном движении: ее исходная точка – мудрость, конечная – доброта и любовь. Так что не стремись, сын мой, повиснуть, вопреки законам механики, насилуя природу вещей, на половине пути: пусть твоя сила, почерпнутая в мудрости, не служит только сама себе – тут ты уподобишься омерзительному скорпиону, который, свернувшись в кольцо, сам себя убивает: помни, что ты вступил в служение доброте и любви. Я посылаю тебя, Аарон, чтобы ты много сделал для тех, кто мал, меньше всех и беднее всех…
Аарон навзрыд плакал, прощаясь с папой. У Сильвестра Второго тоже слезы стояли в глазах.
– Столица Петрова с тоской и нетерпением будет ждать твоего возвращения, сын мой, – сказал он дрожащим, срывающимся голосом. – К твоему возвращению я приготовлю богатые дары для мудрости твоей. Только бы ты не усомнился в силе своей общины, Петровой церкви. Пусть тебя не удручает унижение, которое переносит ныне столица Петрова от скопища недалеких людей, чья темнота переняла после Оттона правление над правящим всем миром Римом. Источник силы Петровой не пересыхает. И вот вновь пополнила его предвечная мудрость приливом свежей струи. Я говорю об Иоанне Феофилакте, сын мой.
Иоанн Феофилакт пришел к папе ночью.
– Как Никодим к сыну божьему, – прошептал Сильвестр Второй Аарону.
Но оказалось, что вовсе не как Никодим.
Произошло это спустя неполный месяц после смерти Оттона. Папа играл на органе, когда ему доложили о неожиданном госте. Он удивился. С тех пор как вернулся в Рим, никто его не навещал. Никто не стремился отдать почести и заверить в своем расположении учителя придурковатого сакса Оттона, память которого римляне бесчестили почти с молитвенным жаром. Папский дворец в Латеране стал, по сути дела, тюрьмой, которую новые властители Рима позволяли Сильвестру покидать лишь для свершения богослужений. Кое-кто из них даже подумывал порой, как бы облегчить учителю уход вслед за учеником, но в конце концов было решено терпеливо выждать, пока выручит преклонный возраст Сильвестра Второго. Правда, когда в Риме разражались споры относительно вопросов веры, то призывали пану, дабы тот вынес окончательное решение, – наблюдающий за этими спорами юный сын Феодоры Стефании строго следил, чтобы Сильвестр Второй не разговаривал ни о чем, как только о вопросах чистоты веры и соответствии обрядов с канонами. Даже аббаты и приоры монастырей, принадлежащих или тяготеющих к клюнийцам, почти не встречались с папой, кроме часов богослужений. И чужеземных пришельцев допускали к нему новые властители Рима неохотно, с большими предосторожностями. Окружили папский двор своими людьми. Расспрашивали, о чем говорят за папским столом. Если бы могли, то непременно записывали бы папские сны. И все же не смогли воспрепятствовать Иоанну Феофилакту припасть к ногам папы.
Дядя Тимофея заявил Сильвестру Второму, что он жаждет посвятить себя служению святому Петру. Сказал, что уже стар, чтобы тешиться радостями того свинского загона, в который преобразился владычный город после смерти Оттона. Для него Рим – это могучее вселенское единение разноязычных народов, об этом единении мечтал Оттон – веками мечтает об этом и церковь. Оттон был и расточился, по Петр расточиться не может: Иоанн Феофилакт был вереи Оттону – он хочет быть верен святому Петру.
– Достойный сенатор, – с грустью и горечью сказал Сильвестр Второй, – святой Петр ныне ничего не может предложить тем, кто ему верен, кроме совместной униженности.
– Я предпочитаю быть с униженной мудростью, чем с торжествующей глупостью, – спокойно ответил Иоанн Феофилакт.
Сильвестр Второй молча поцеловал его в лоб, в щеку, в губы.
– Когда он проникнет в тайны святой науки об истинах веры, я сделаю его епископом, – сказал он назавтра Аарону.
Так он и сделал. Когда Аарон покидал после трехмесячного пребывания Лотарингию, где собирал сведения о вывезенных оттуда в Испанию невольниках, он услышал от аббата знаменитого Верденского монастыря, что, согласно известиям из Рима, епископство Порто получил тускуланский граф Иоанн Феофилакт. Аббата это известие омрачило, Аарона обрадовало.
Но и не только это его обрадовало. Все путешествие вопреки ожиданиям давало больше оснований для радости, чем для огорчений. Оказалось, что Сильвестр Второй вовсе не для того говорил, чтобы утешить испуганного Аарона, что, отправляя в этот путь своего любимца, он не требует и не ждет от него какой-то предприимчивости, что предприимчивыми будут другие. И действительно, все это время Аарона не покидало восхищение, до чего же великолепно продуманы были все детали поездки, как предусмотрительно использовал папа связи с бывшими своими учениками и другими знакомыми ему лицами в разных странах, чтобы с их помощью преодолевать возникающие на пути препятствия. Где бы ни появился папский посланник, все было уже готово к его приезду и к дальнейшему следованию. В королевской Франции, в Бургундии, в обеих Лотарингиях самые знаменитые епископы, аббаты, герцоги и графы старались превзойти друг друга в оказании Аарону услуг, нередко весьма для них обременительных. Молодой пресвитер без труда угадывал, что делают они это не для него, а для того, кто его послал; гораздо труднее было ему заметить, что делают это по столько для Сильвестра Второго, сколько для учителя Герберта.
Немало прошло времени, прежде чем Аарон понял, что в глазах большинства тех, кто столь ревностно о нем заботится, сан первосвященника, может быть, значил еще меньше, чем для невежественных глупцов, которые обрекли Сильвестра Второго на заточение в Латеране. Пе только князья и графы, но и многоученые епископы и аббаты, с которыми он встречался и которым был весьма признателен, ежились при одном упоминании о папе. Люди, которые произносили имя Герберта не иначе как шепотом, полным глубокого почтения, отнюдь не скрывали неприязни, даже враждебности к утверждениям клюнийских монастырей, что единственным наследником святого Петра является епископ города Рима, папа, верховенство которого должны безоговорочно признавать все остальные епископы и все монастыри во всем христианском мире. Если Оттон Третий сам о себе говорил, что Цезарь Август – это наместник Христа и что императорское величество выше величества наместника Петра, то ведь то же самое заявляли о короле Западной Франконии или же Франции тамошние архиепископы и епископы, подчеркивая при этом, что святой Петр обычно говорит устами своих синодов, то есть соборов всех епископов как всего христианского мира, так и каждого королевства в отдельности.
Для Аарона, хотя он, слушая такие слова, огорчался и внутренне протестовал, это не было чем-то новым: в Англии такое тоже доводилось слышать. Но совершенно непонятным казалось ему то, что несколько весьма почтенных, известных своей ученостью и святостью аббатов и епископов явно не одобряют предпринятой по решению папы поездки в Испанию. Они говорили, что Сильвестр Второй обрекает молодого, неопытного монаха на скверну – что не пристало христианскому священнослужителю, посланцу святейшего отца, отправляться к неверным с какой-то иной целью, нежели с целью обращения погибших душ в Христову веру. Аарона возмущало дерзкое противостояние воле святейшего отца, но были минуты, когда мысленно он признавал правоту этих замечаний, впадал в тревогу, сомнение, отчаяние. Только спустя годы понял, что же, собственно, их больше всего расстраивало во всем этом папском предприятии.
А ведь даже эти наиболее неприязненные, наиболее упрямые, наиболее противодействующие учению о верховенстве римской епископской столицы над всеми епископами делали все возможное, чтобы оказывать помощь посланцу римского епископа. Потому что все они или сами прошли некогда знаменитую школу учителя Герберта в Реймсе, или были друзьями тех, кто эту школу окончил. Потому что если они и были окружены всеобщим уважением, если их почитали мудрецами, полными учености, то они понимали, что обязаны всем этим одному учителю Герберту. До конца дней своих не переставали они гордиться, что имели счастье слушать его лекции по грамматике, риторике, логике, математике, астрономии, механике, и за право гордиться этим счастьем они платили Герберту внимательной заботой к его посланцу – даже те из них, кому снился тот блаженный миг, когда этот папский посланец управится со своими делами и возвратится в Рим.
Они передавали Аарона из рук в руки, снабжая его всем, в чем только он, по их мнению, мог нуждаться. Обстоятельно беседовали с иудеями, приглашая их на изысканные пиры в замки или монастыри, – знали, что без помощи евреев путешествовать невозможно.
Евреи удивляли, а иногда просто поражали Аарона. Ему казалось, что есть что-то необычное, граничащее с волшебством в том везении, с которым они оказывали ему неустанную помощь, правда дорого заставляя за нее платить. Где-нибудь на Маасе кто-то из них получил от епископа или аббата кусок земли, несколько овец и коров или даже невольников, а далеко от Мааса, на Гаронне, другой еврей вручал Аарону серебряные монеты и приводил коней. Листок бумаги с несколькими замысловатыми значками, написанными в Реймсе, давал возможность бесплатно находиться на постоялом дворе в Барселоне. Каталонские графы вели войну с арабами, епископ в Вике уверял Аарона, что заяц не проскользнет между раскинувшимися вдоль границ сражающимися лагерями, а евреи провели его через границу с такой легкостью и так просто, что Аарон, заснув в лектике, как только отошли от замка христианского графа, спокойно проснулся назавтра в чудесно благоухающей роще, над которой вздымалась башенка, украшенная полумесяцем. В новом, сначала страшном мире поклонников Магомета Аарону почти не пришлось менять ни одну из своих давних привычек: в Кордове, в Сарагоссе, в Севилье благодаря предприимчивости евреев он жил и ел почти так же, как в Реймсе, как в Орлеане, как в Барселоне, разве что обильнее и изысканнее. Только одеяние пришлось сменить. У неверных в Кордове или Сарагоссе он совершал богослужения и другие священнические обряды: еврейский мальчик проводил его по запутанным уличкам к далекому предместью, где за высокими, толстыми стенами скрывались красивые церкви; пресвитеры и даже епископы со смуглыми, строгими лицами приветствовали его на латыни отнюдь не хуже той, которую он слышал в каталонских и даже лотарингских монастырях и епископских замках.
В течение десяти лет Аарон трижды приезжал в Испанию, находящуюся под властью Полумесяца. Много чудес он повидал, много нового услышал, много пережил и передумал – но не мог сказать о себе: наконец-то я выполнил порученное мне милосердное дело. На месте оказалось, что оно почти неисполнимо.
Спустя песколько дней по прибытии в Кордову Аарон познакомился с высоким придворным сановником, который вел все дела, связанные с продажей и выкупом невольников. После трех недель знакомство перешло в приязнь, почти в дружбу. Сановник этот, носящий титул мухтасиба, был человеком большой учености; его заинтересовал молодой христианский священник, говорящий и пишущий по-гречески, отлично ознакомленный с основами грамматики, логики и даже философии.
– Среди греческих монахов бывают весьма ученые люди, – сказал он Аарону, – но христианина, латинщика, который не был бы темным неучем, я еще не встречал.
Он познакомил Аарона с другими учеными арабами. И даже гордился перед ними своим открытием: латинский монах, а столько знает – разве это не чудо из чудес?! Устраивал изысканные приемы для многих гостей, чтобы перемежать тонкие блюда спорами с христианским ученым о сущности добра и зла, о разделах философии, о строении строфы, о взаимозависимости понятий «существо разумное» и «существо смертное».
Сначала Аарон робел, даже откровенно боялся. Прошло немало времени, прежде чем он освоился с мыслью, что вот ему и привелось так свободно, так близко общаться с некрещенными. Даже угнетало ощущение их явного превосходства во всех областях паук. И ни с одним из собеседников он не мог равняться в свободном владении языком греков. Чувствовал себя скорее учеником, слушателем, нежели ученым собратом, как они его вежливо называли.
Дядя мухтасиба помнил Герберта. Встречался с ним сорок лет назад в школе грамматики, которую вел тогда в Кордове несравненный учитель Ибн аль-Кутия. Узнав, что Аарон был любимцем Герберта, он пригласил его к себе. Подробно расспрашивал о былом школьном товарище. Удивлялся тому, что именно Герберт стал первосвященником латинских христиан. А когда Аарон спросил, что именно его удивляет, проворчал, что ближе друг другу огонь и вода, чем ученость и священство. И добавил сокрушенно, что, к сожалению, Герберт не мог вынести из лекций знаменитого грамматика такой пользы, как все остальные его школьные товарищи: слишком слабо владел арабским.
Он расспрашивал Аарона о цели его приезда в Кордову. Со снисходительной усмешкой выслушал долгие рассказы о силе, которая, рождаясь из мудрости, должеа служить любви и доброте. Выразил сомнение в том, что Аарону удастся выкупить несколько сот евнухов. Но пообещал поддержку. Заверил Аарона, что будет горячо просить мухтасиба, своего племянника, чтобы тот помог найденному им христианскому ученому собрату как можно лучше выполнить свое задание.
И действительно, мухтасиб поспешил с помощью Аарону. Охотно брал у него длинные греческие свитки, просматривал имена, приказывал своим подчиненным перевести на арабский. Спустя какое-то время значащиеся в списках появлялись у Аарона – но он тщетно пытался увидеть в них тех малых сих, самых малых и самых несчастных, о ком говорил Сильвестр Второй. Светлоглазые сыновья Лотарингии не приветствовали папского посланника Христовым именем: они не знали триединого бога, а только того бога, самым великим и достойным пророком которого был Магомет. Они не хотели расставаться со страной Полумесяца. С простотой заявляли, что не смогут быть счастливы нигде больше. Хотя по закону все они принадлежали к сословию невольников, по распоряжались богатствами, иной раз такими, что все тускуланские поместья были в их глазах достоянием нищего. Управляющие виноградниками, апельсиновыми рощами, рыбными прудами, хлопковыми полями, бронзовыми и ткацкими мастерскими, презрительно пожимая плечами, отвергали всякую мысль о возвращении под убогий кров христианских родителей. Управляющие конторами, привозящими из-за моря сахарный тростник, бумагу, шелк и рис, с издевкой спрашивали, может быть, кожа на их спинах нужна ученым аббатам, чтобы выстукивать по ней палками ритм латинских стихов. Тучные евнухи, которые еле могли взобраться на носилки, поверяли Аарону тайны могущества, которого добиваешься, управляя королевствами из помещений, прилегающих к спальне.








