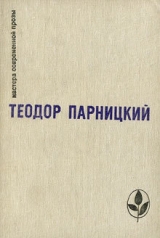
Текст книги "Серебряные орлы"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
– Я не боюсь ни мечей, ни огня, ни коварных заговоров, – шептал лихорадочно Оттон, – но всегда боялся женщин: боялся их удивительных грудей, бедер, волос, глаз, улыбок, просто женского голоса… И прежде, чем познал Феодору Стефанию, всего лишь дважды приблизился к женскому телу, приближался со страхом, а отходил в еще большем страхе…
И вдруг замутилась недолгая ясность императорских слов: вновь он заикался и путался, пытаясь объяснить, что от тех женщин он отходил не только со страхом, но и с мучительным чувством, ибо, несмотря на все великолепие и могущество его величества, обе они показывали свое превосходство, издевались над ним, презирали его – именно тогда, когда он от них отходил, даже еще больше, чем когда приближался… Может быть, потому он избегал близости с женщиной, хотя постоянно возвращался к этому мыслью… может быть, потому так упивался в грешном одиночестве… И то, что самая удивительная женщина, какую он когда-либо видел, стояла перед ним босая, – это унижало ее в его мыслях, а унижение позволяло верить, что раз уж она унижена, то не может чувствовать к нему презрения… не может издевательски возвышаться над ним, как возвышались те две… и, как ему казалось, все другие… Вот что кинуло его в жар и заставило темных дураков усмотреть в его взгляде вожделение. А в действительности в его глазах было лишь радостное изумление – вот женщина, которая ему близка, как ни одна не была близка, кроме покойной матери, и которой он не должен бояться, потому что не чувствует себя с нею униженным… А ему так нужна близкая, очень близкая женщина! И ведь действительно никто его искренне не любит, никому он не доверяет, ни в ком он не чувствует настоящей близости, даже в папе, любимом учителе… Грек для германцев, германец для греков, варвар для римлян, слабый умничающий ребенок для воинов с грубыми душами, дурачок для мудрецов – так он одинок… страшно одинок… Все как будто служат ему, почитают его, а в действительности или ненавидят, или презирают, думая только о том, как бы сдернуть с его слабых плеч пурпур… И только она искренне предана, она – единственно верна ему, страстно его любит… С какой тревогой он всегда блуждает по мрачным, пустым комнатам своего дворца, путаясь в роскошных одеяниях, то и дело спотыкаясь и опасливо ощупывая каждый темный угол, каждую степу, не таится ли где измена или несравненно более страшная, чем измена, – издевка… Ободряет его только свет, который падает в щель двери, ведущей в спальню, где преданно ожидает его Феодора Стефания: вот сейчас она откроет дверь, вот он увидит чудный блеск ее глаз и волос и еще более изумительный блеск ее тела… Пока он не ощутит себя зрелым мужем, не ощутит силы, что сама себе достаточна и не требует помощи женских объятий, он не отдалит от себя Феодоры Стефании, не уйдет в обитель… Сначала он должен научиться не бояться одиночества.
– Если бы ты знал, преподобный отец, как это страшно – быть одиноким!
Аарон с трудом удержался, чтобы не вскрикнуть: знаю… хорошо знаю… Ах, как это важно – быть в кругу своих, среди своих, как возле пруда на Аппиевой дороге…
И вновь он питал к Оттону только дружеское сочувствие. Идя в часовню, он живо представлял себе – даже багровые пятна выступили у него на лице – минуту, когда он прострет над покорно склонившимся императором руку, вооруженную мощным оружием отпущения грехов. Он готов был поклясться, что его будет распирать безграничная гордость, что вот священническое величие вознесло его столь высоко над тем, кто вознесся над всем миром. И ничего этого не случилось. Когда он, подняв руку, стал взывать к милосердию божьему, чтобы господь даровал прощение, милосердие, отпущение сокрушенной душе Оттона, когда он напомнил господу обещание, данное им всем священникам, а стало быть, и ему, Аарону, что «кому простите грехи, тому простятся», – он испытывал единственно чувство радости, что оказывает дружескую услугу кому-то очень в ней нуждающемуся. И действительно, искренняя радость прозвучала в его голосе, когда, перекрестив посыпанную пеплом светлую голову, громко воскликнул:
– Ступай с миром.
Этого возгласа давно уже с нетерпением ждала заполнившая базилику толпа. Выходя из часовни, он заметил усталость на всех лицах, а на некоторых усталость и гнев. Раз десять были пропеты семь покаянных псалмов, большинство свеч уже догорели, некоторые даже погасли. Но на лице Сильвестра Второго, который нп на минуту не вставал с колен, не видно было усталости: он окинул выходящего из часовни Оттона в высшей степени любопытным взглядом, на Аарона же бросил взгляд благожелательный, дружеский, полный признательности.
У императора действительно онемели колени – он еле переставлял ноги и покачивался; Аарон и сам испытывал крайнее изнеможение: ему хотелось спать, с трудом он подавлял зевоту.
У входа в храм императора ожидала колесница, окруженная плотным кольцом всадников. Иоанн Феофилакт вышел навстречу Оттону с выражением страшного раздражения на таком же усталом лице. Раздражение это сменилось отчаянием, когда Оттон отстранил его рукой и произнес срывающимся голосом, будто сдерживая рыдания:
– Придется вам еще подождать. Я хочу поговорить с его святейшеством папой.
Сильвестр Второй успел лишь шепнуть Аарону:
– Иди в мою спальню. Жди, пока я приду.
Подхватив покачивающегося Оттона под руку, папа провел его в комнату, где стоял орган, предложил прилечь на леопардовые шкуры.
Аарон в согласии с желанием папы прошел в его спальню и бессильно упал в мягкое, удобное кресло, в котором Сильвестр Второй размышлял о делах империи и церкви, о путях звезд и тайнах чисел. И Аарон тоже попытался размышлять: о сложных, неисповедимых путях Оттоновой души, о допущенных им во время исповеди ошибках. Но оказалось, что куда труднее бороться с сонливостью, чем с душой императора, – то и дело веки его тяжело опускались, а дыхание переходило в храп. Тогда он вскакивал и ходил по комнате, но слипающиеся глаза застилало туманом, сквозь туман он с трудом мог разглядеть в спальне груды книг, математические таблицы, астрономические приборы, выпиленные из дерева геометрические фигуры. Чем более мутным взглядом смотрел он на все эти предметы, тем более причудливые формы они приобретали: на черных таблицах виднелись уже не цифры, а скачущие магические знаки – треугольники, круги, конусы, цилиндры и пирамиды кружились в колдовском танце, железные звезды бегали по деревянному небосводу, белая мраморная голова искривила в издевательской ухмылке прекрасное, задумчивое лицо – он был уже не в спальне папы, а в пещере колдуна. Он отчетливо слышал стук, сначала в потолок, потом в пол. Кто-то невидимый пытался задуть огонь в единственном светильнике. Дул громко, тяжело сопя. Сопение это было так страшно, что Аарон невольно закричал:
– Помогите! Нечистая сила!
– Слева на полке стоит бутыль с желтой жидкостью, – послышался из-за неприкрытой двери голос папы, – смешай с водой, выпей, и тебе сразу расхочется спать. Скоро я приду.
Действительно, двух глотков желтоватой жидкости, смешанной с водой, было достаточно, чтобы Аарон понял, что испугался он своего собственного сопения, и уже совсем уверенной рукой отодвинул он затканный золотыми ключами занавес, чтобы закрыть окно, в которое врывался в спальню резкий ветер, грозящий задуть светильник. Мраморная голова, как всегда, была полна раздумий об удивительных, недоступных человеческому разуму вещах. Шляпки железных гвоздей, обозначающие звезды, недвижно сидели в деревянных обручах.
«Спальня ведь примыкает прямо к залу, где стоит орган, – промелькнуло в совсем прояснившейся голове Аарона, – значит, Оттон рядом. Что они там делают?»
На цыпочках приблизился он к неприкрытой двери – и впился взглядом в щель, сквозь которую вливался в спальню свет трех или четырех светильников, куда больших, чем тот, что в спальне. Он увидел Оттона, стоящего на коленях на леопардовых шкурах, уткнувшись головой в колени папы. Угловатые плечи императора сотрясала дрожь, а может быть, рыдания. Он что-то шептал, но зал, где стоял орган, был очень большой, леопардовые шкуры лежали далеко от двери, слух Аарона не мог уловить ни слова.
Вдруг его охватило чувство огромной неприязни к Оттону. Ничего не осталось от дружеского соболезнования, которое возникло в конце исповеди. Достаточно было немного сосредоточиться – и Аарон понял, что неприязнь эта вызвана прежде всего воспоминанием об откровениях императора касательно его отношения к Феодоре Стефании. Так он не потому не хочет или не может расстаться с нею, что любит ее, а потому, что она необходима ему как поддержка?! Как только почувствует, что больше в ней не нуждается, оттолкнет ее: пускай тоже идет в монастырь или возвращается к детям! Аарон стал сравнивать отношение императора к Феодоре Стефании с отношением к ней Тимофея, и постепенно неприязнь к Оттону переходила в гнев и презрение. И одновременно он стал испытывать презрение и гнев к себе: нет, вся исповедь – что касается его самого – была единой непростительной ошибкой: с трудом завоевав превосходство над душой Оттона, он должен был сокрушать, сокрушать и только сокрушать! Ничего больше эта душа не заслуживает. Быстро пробегал он в памяти отдельные части исповеди с самого начала, и все они лишь укрепляли его в чувстве гнева и презрения. И это владыка мира, воскреситель римского могущества?! И в такую душу должна снизойти, пусть и мельчайшая, частица божественного величия?! Неприязнь постепенно переходила и на папу. Как мог подобный мудрец не разобраться в Оттоне, в том, чего достойна его душа?! Пана запретил Аарону сообщать, что он узнал на исповеди, – хорошо, Аарон не нарушит запрета. Но папа не может запретить ему говорить о том, что сам же наказывал ему перед исповедью. Как только он войдет в спальню, Аарон попросит его разрешить вопрос весьма важного значения: Сильвестр приказал ему дать отпущение грехов императору. Он это сделал, только теперь он хочет знать, просто должен знать, в каких церковных канонах написано, что священник может давать отпущение грехов тому, кто недвусмысленно заявил, что намерен закоснело пребывать в грешной любовной связи?
Неприязнь перекинулась и на Феодору Стефанию. Неужели она так глупа и не может понять, кем, собственно, является для Оттона? И подумать только, она отвергла любовь Тимофея, чтобы любить Оттона! Ведь после исповеди императора Аарон уже не сомневался, что Феодора Стефания любит только Оттона: страстно любит, искренне. Ошибается Иоанн Феофилакт, говоря, что на самом деле любила лишь своего мужа… Только теперь становятся вполне понятными улыбочки, которыми подбадривала Феодора Стефания императора во время казни Кресценция, только теперь понимает Аарон, что и его и Тимофея наполняло таким ужасом: мертвая голова Кресценция, поднятая с плахи рукой его жены! Даже не дрогнула тогда рука Феодоры Стефании, не дрогнуло и ее сердце, она преданно стояла рядом с тем, кого любила, мощно поддерживала своей любовью слабую – а вовсе не бедную, – убогую душу Оттона! И хотя само воспоминание о том страшном дне вновь вызвало дрожь ужаса, он тут же почувствовал, что испытывает и восхищение перед Феодорой Стефанией, а не презрение, не отвращение; а если к восхищению этому примешивается доза неприязни, то потому лишь, что он не поймет, не может понять, никогда не сможет понять, как же это получается, что она любит именно эту жалкую, убогую душу, а не великолепную душу Тимофея. Ведь такую женщину, как она, не должен ослепить блеск диадемы, случайно украшающей столь недостойное чело!
Из-за неприкрытой двери донеслись звуки органа. Папа играл. Из-под невидимых пальцев плыли к Аарону мягкие, баюкающие звуки. Что-то вроде колыбельной. Может быть, это переложенная на музыку песенка, которую напевала увенчанному двумя коронами сынку своему гречанка Феофано? Неразумно поступает Сильвестр Второй: в его музыке больше силы, чем в желтом напитке. Аарон вновь опустился в мягкое, удобное кресло. И закрыл глаза. «На минуту, всего лишь на минуточку, – пробормотал он про себя, – чтобы лучше внимать этим чудным звукам. Ведь я же не собираюсь спать, мне и спать-то не хочется».
Да, да, наверняка греческая колыбельная. Аарону даже казалось, что он видит колыбельку. Видит и Феофано. Не прерывая песни, императрица протягивает руки, достает ребенка из колыбели, прижимает к груди. Она стоит босая, в ночной, открывающей шею и плечи рубашке, волосы беспорядочно ниспадают прямо на личико Оттона – ему, своему сыну и королю, наследнику императорской короны, она может показаться и в таком виде, это не унижает ее величества. Она ставит сыночка босыми ножками на покрывающий пол тканый покров: но нет, это не дитя стоит, а красивый отрок, почти совершенно голый. «Пойдем к пруду возле Аппиевой дороги, – говорит ему Аарон. – Повеселимся свободно с девушками и юношами… Это ничего, что ты босой и совершенно голый… Ты же будешь там среди своих. Эго тебя не унизит…» Оттон презрительно усмехается. «Некогда мне, – высокомерно говорит он, – я отправляюсь в поход, чтобы завоевать все царства мира…» – «Ты? Ты?» – столь же презрительно восклицает Аарон. «Да, я, вот увидишь». «Это, наверное, нечистая сила», – бормочет Аарон. Только магией можно добиться, что в маленькой папской спальне могло поместиться столько людей… Гуго Тосканский, Генрих Баварский, Куно Франкский, Герренфрид Лотарингский, архиепископ Гериберт и Арнульф… И сколько еще текут в распахнутые двери. Целые толпы… Сверкают копья и топоры, звякают мечи, звенят кольчуги и шпоры – действительно сила собирается могучая… и коня ведут – в спальню копя… Архиепископ Гериберт с почтением подставляет руку под закованную в железо ногу Оттона – император легко, ловко вскакивает, звеня латами, в седло, украшенное золотыми орлами. Боевую песню поют флейты – десятки флейт… Грозно взывают рога – сотни рогов… Гимном триумфа гремят трубы – тысячи труб… Аарон открывает глаза. Но не перестают петь флейты, взывать рога, греметь трубы – они-то как раз и разбудили его. Аарон побежал к двери. Папа сидел, наклонившись над органом. Это он вызвал слабым нажатием на клавиши пение десятков флейт, призыв сотен рогов, грохот тысяч труб. Гимн мощи и триумфа спадал невидимым блистательным пурпуром на плечи Оттона, который стоял недалеко от органа, гордо скрестив на груди руки, высоко подняв голову, радостно сверкая глазами, полными власти и беспредельного могущества.
9

Сильвестр Второй высоко ценил проницательность Иоанна Феофилакта. Но вопреки ожиданиям всего сената он не ответил утвердительной улыбкой на цветистую речь, в которой Иоанн Феофилакт с восторгом и почтением объяснял благополучное завершение кратковременной стычки между Римом и возвращающимся с Тибра императором прежде всего безграничной ученостью и мудростью учителя учителей Герберта. По мнению папы, не исполненная горькой жалобы и упреков прекрасная речь, произнесенная Оттоном с башни, а страх перед франкскими топорами и саксонскими копьями распахнул ворота, дерзко захлопнутые перед величеством. Топоров же этих и копий было в Риме, как полагал папа, решительно мало – приходится даже удивляться, как по сумели этого заметить дерзкие бунтовщики, которые осмелились всего несколько недель спустя после торжественного восшествия императора на Капитолий святотатственно выступить против наследника Ромула. «Мне удалось научить императорскую вечность мастерски овладеть латынью, но, к сожалению, не удается мне из пятидесяти топоров сделать триста, а из ста копий тысячу». Когда закончилось заседание сената и Иоанн Феофилакт остался один на один с папой, тот прямо спросил, действительно ли он верит, что очаг бунта подавлен. Дядя Тимофея пылко ответил, что не только верит, но и точно знает, потому что вместе с его двоюродным братом Григорием, от которого он отрекся и которого выдал в жаждущие мести руки императора, втоптана в землю всякая мысль о бунтах и покушениях.
Он ошибался. Мечты Григория пережили его тело. Давно задуманный в умах, этот заговор застиг Оттона в глубине Авентинского дворца, вырвал из постели, из объятий Феодоры Стефании, принудил к ужасному унижению – к бегству босиком в коморки, где жили слуги. Три дня гудящим муравейником осаждал Рим наследника Ромула, на четвертый расступился в глухом, не менее грозном, чем гул, молчании, чтобы пропустить во дворец вооруженный саксонский отряд под водительством закованного в железо епископа Бернварда. Оттон бросился епископу на шею, жадно вырвал из его рук кусок хлеба, густо намазанный медом, и, поспешно давясь им, слезами радости посеребрил щитки лат. И лишь когда насытился – впервые за четыре дня, – потянулся к своему копью, священному императорскому атрибуту, с риском для жизни отбитому у бунтовщиков епископом. Вновь сверкали гордостью черные глаза, из-за крепко стиснутых зубов посыпались бесчисленные жестокие приговоры.
– К сожалению, вечный государь, – пробормотал со вздохом Бернвард, – нас ровно столько, чтобы прикрыть твой уход из города, но не столько, чтобы выполнить хоть один твой приказ.
Оттон топнул ногой.
– Я не опозорю себя бегством! – гневно воскликнул он. – Прославленный римлянин, наследник Ромула не позволит вырвать у него это наследие, не даст изгнать себя живым из города. Я не покину дворец.
Покинул и дворец и город. Вместе с ним Феодора Стефания и папа, которого сопровождал Аарон. Императорская процессия двинулась к Сполето; Сполето захлопнул перед носом Оттона все ворота. Оттон бросился к Больсенскому озеру, чтобы в старом замке королевы готов Амаласунты переждать, пока подойдут свежие силы Гуго, маркграфа Тусции; озеро встретило его тучей метальных снарядов с лодок и плотов – из луков и арбалетов. Он метался между морем и горами, не осмеливаясь приблизиться к Риму. Когда же подошел маркграф Гуго, а с ним Генрих Баварский, Оттон с торжествующей, мстительной улыбкой новел их дружины на Рим. Днем дорогу его отмечали сгибающиеся под тяжестью висельников деревья, а ночью – гигантские пожары. Городом он не овладел. В отчаянии двинулся на север; бунт следовал за ним по пятам, даже опережал, захлопывал ворота всех замков и городов Романьи. Равенна осталась верной. Но под Равенной ожидал Ромуальд, суровый отшельник. Он грозно напомнил императору о давнем обете снять с себя пурпур и диадему, удалиться в пустынную обитель приняв на остаток дней своих схиму.
– Неужели в дерзкой сумятице бунта, – взывал он, – ты не слышишь, неверный слуга Христов, Оттон, громогласного голоса разгневанного господа? Опомнись, не теряй напрасно время, ты еще можешь удержать карающую десницу судии.
Оттон с рыданием пал к ногам Ромуальда, целовал край его нищенского одеяния, с жаром клялся, что в ближайшие же педели покончит со всеми суетными мирскими делами. Но шли месяцы, а император все не спешил заточить себя в пустынной обители. А рассылал гонцов, собирал войско, скупал оружие. Исчезал из Равенны, иногда на несколько недель – даже папа не всегда знал куда.
Как-то осенним утром придворные убедились в отсутствии не только императора, но и Феодоры Стефании. Оказалось, что из Равенны исчезли – видимо, вместе с Оттоном – Герренфрид, зять императора, коменский епископ Петр, капеллан Ракко и молоденький князь Пандульф, сын магкграфа Салерно, который всего лишь два дня назад привез императору какие-то тайные письма от своего отца, написанные по-гречески. Назавтра столь же таинственно исчезли еще двое: граф Бенедикт, свойственник Феодоры Стефании, и архиеписком Милана Арнульф.
Аарон заметил, что эти таинственные отъезды очень встревожили папу. Задумчивый и пасмурный, расхаживал он по галереям, украшающим внутренние дворики церкви святого Виталия. Редко заговаривал со своим любимцем – преимущественно проводил время в совещаниях с Гуго, маркграфом Тусции, и только что прибывшим в Равенну посланцем патриция Болеслава, аббатом Астриком Анастазием.
Астрик Анастазий прибыл не один. Но как удалось установить Аарону, никто из посланников польского князя не был славянином, все германцы: саксы или бавары. Правда, об одном из послов говорили, что он из славянского племени бойев или чехов, но, когда в присутствии Аарона к нему обратились по-славянски польские воины из дружины, подаренной Оттону Болеславом, он ответил им по-германски.
Аарон неоднократно имел возможность прислушиваться к разговорам папы с послами Болеслава. Кроме одного Астрика Анастазия, все остальные показались ему совершенно неотесанными людьми: хотя и были пресвитерами, но умели ни одной фразы склепать по-латыни – папа объяснялся с ними лишь через переводчика.
Разговоры шли преимущественно об основании в польском королевстве церквей и монастырей. Сильвестр Второй говорил о скором отъезде трех ученых монахов из окружения пустынника Ромуальда: Бенедикта, Иоанна и Антония. Но при этом он отмечал, что желает, чтобы в самой Польше они находились по возможности недолго: ему нужно, чтобы Болеслав послал их в те земли, куда еще не проникло слово божье. Особенно расспрашивал он об архиепископе Гауденции, брате святого мученика Войцеха-Адальберта, о епископе же познаньском Унгере никогда не говорил без гримасы неудовольствия: раз даже произнес «этот мясник». Но этих слов Астрик Анастазий своим товарищам не перевел.
Польские послы нередко засыпали папу жалобами и претензиями. Жаловались главным образом на саксонских господ, и не столько даже на маркграфов, сколько на епископов и аббатов, особенную неприязнь питали они к Гизело, архиепископу магдебургскому. Рассказывали, что время от времени он предпринимает военные походы на города и селения, подвластные польскому князю или его друзьям. Вооруженные воины архиепископа то и дело уводят людей Болеслава, преимущественно, как они утверждают, чтобы обратить их в святую веру или утвердить в этой вере – но разве такое поведение архиепископа Гизело согласуется со святыми канонами? Разве может он распространять свою власть на земли, волей святейшего отца подчиненные архиепископу Гауденцию? Не умея изъясняться по-латыни, польские послы оказывались вовсе не такими простаками, за каких их вначале принял Аарон. Они сумели искусно вернуться к старой истории захвата митрополитом Гизело земель магдебургского епископства, неоднократно выражали свое искреннее возмущение, что величие наместника Петра неслыханно страдает, поскольку Гизело не желает признать права папы разрешить его спор с епископом Бернвардом. Они довольно точно ухитрялись передать поносные выражения, кои архиепископ Гизело обрушивал на Бернварда, которого очень любит сам государь император. Они сумели даже повторить текст молитвы, которую монахи в Хильдесгеймском монастыре произносят каждое утро и вечер, умоляя святого Петра, чтобы тот наставил своего наместника в намерении отобрать у Гизело неправедную власть над их монастырем, давним средоточием учености и мастерства в различных искусствах.
Аарона привела в изумление эта искренняя приверженность германских клириков интересам славянского владыки. Поражало и то, что саксы с таким рвением выступают против саксонского архиепископа. Еще больше он изумился, когда сотоварищи Астрика Анастазия, явно пользуясь временным отсутствием аббата, с таинственными минами торопливо уведомили святейшего отца, что князь Болеслав горько скорбит от неприязни, которой его дарят доверенные люди пребывающего сейчас здесь, в Равенне, князя Генриха Баварского, подстрекая против патриция родственное им племя чехов. Они просили, чтобы святейший отец разрешил вопрос, не должна ли чешская земля подлежать власти митрополита Гауденция, а не майнцского архиепископа. Их государь Болеслав полагает, что архиепископу Гауденцию вверил святой Петр власть обращать и утверждать в вере всех, кто пользуется славянской речью, а разве чехи изъясняются иначе?
Папа отвечал с улыбкой, что Болеслав, кажется, не очень точно понял волю Петрова престола. Ведь папское послание, врученное польскому князю преподобным отцом Гауденцием, ясно говорит, что под власть новой метрополии, которую святому Петру угодно было основать в славянском городе Гнезно, подпадают земли, лежащие к востоку от земель, подвластных архиепископу магдебургскому и майнцскому. В послании наместника Петра отнюдь не было речи о том, что гнезненской метрополии должны подлежать все, кто говорит на славянском языке. Но святейший отец примет во внимание мнение Болеслава и, прибегнув к совету духа святого, даст польским послам ответ, о котором они молят. А митрополита Гизело, недостойного пастыря, так или иначе накажет справедливость божья. Тот, кто является Альфой и Омегой, началом и концом всего сущего, строго покарает его на том свете, а равно и на этом: ведь он уже поразил его тяжкой немощью.
После этих слов Сильвестр Второй переменил предмет разговора. «Не потому ли, что как раз вошел Астрик Анастазий», – подумал Аарон. Папа стал расспрашивать послов о дружине Болеслава, о числе воинов, об их умении и вооружении. Спросил даже, сколько боевых коней обычно снаряжает Болеслав на период военного похода. Горечь звучала в голосе папы, когда он сказал, что его ужасно удивляет медлительность патриция, который вопреки обещаниям все еще медлит с прибытием в Рим. Один из послов прямо и отрубил ему, пожалуй даже грубовато, как Аарону показалось, что ведь сейчас это дело невозможное, ибо Рим даже перед государем императором закрыл ворота. Сильвестр Второй с трудом сдержал волну презрительного гнева. И сухо ответил, что Рим находится там, где пребывает императорское величество, а коли уж на то пошло, то первым долгом патриция империи является именно помочь императорской вечности в праведном деле возвращения святотатственно возмутившегося города. Ранее убедительно звучали слова Болеслава, что он не может предпринять столь далекий поход, ибо ему трудно оторваться от благочестивого дела распространения и укрепления Христовой веры, но сейчас, когда подле него находятся архиепископы и целых четыре епископа вместо одного, как было до прошлого года, не следует ему подобным образом оправдывать свое отсутствие. Святейший отец решительно требует от аббата Астрика Анастазия и его товарищей, чтобы они искрение сказали, может ли императорская вечность рассчитывать на прибытие Болеслава со всей дружиной в течение ближайшего полугода. Он заклинает их святым мучеником Войцехом-Адальбертом, который с высоты небес простирает на польский край свое особое покровительство, чтобы они сказали правду, только правду.
Один из послов заговорил по-германски – тогда Астрик Анастазий, внимательно на него посмотрев, стал переводить на латынь. Аарону, который понимал некоторые германские слова, так как они напоминали речь британских саксов, показалось, что аббат переводит не совсем верно. По-германски было сказано, что прибытие Болеслава в течение полугода весьма возможно, по-латински же получалось, что это совершенно исключено.
– Почему же? – спросил папа раздраженно.
Астрик Анастазий объяснил, что Болеслав со всей дружиной пошел далеко на север, к устью реки Одера: он ожидает скорого нашествия бесчисленных ладей, везущих мощную дружину языческих норманнов, которых ведет грозный князь Свен.
– Успокойте Болеслава, – снисходительно сказал Сильвестр Второй. – У меня есть точные сведения, что Свен готовится к нападению на Англию, а может быть, даже уже напал.
Астрик Анастазий ответил на улыбку улыбкой. Но не снисходительной, а торжествующей.
– Прости мою дерзость, святейший отец, но у нас есть более точные сведения. Нашествия на Англию не будет. Король Этельред откупился от Свена: дал норманнам шестнадцать тысяч фунтов серебра.
Слова Астрика Анастазия явно озадачили и ошеломили папу.
– А это надежные сведения? – спросил он почти шепотом.
– Самые надежные. Славный государь Болеслав отправил в Англию послов, советуя Этельреду совместную борьбу против Свена. Теперь Болеславу придется воевать без союзника.
– В третий раз откупается Этельред, – вздохнул Сильвестр Второй. – Неужели у англичан уже нет на язычников мечей, одно только серебро? Но серебро – это опасное оружие, оно обращается против тех, кто его пускает в ход.
Аарон почувствовал, как у него сжалось сердце. Ведь Англия его вторая родина, там он познал сладость учения, там удостоили его особой чести – послали в Рим. Это верно, король Этельред не из отважных воинов, но Аарону причинило невыразимую боль то нескрываемое презрение, с которым и польский посол, и папа отзывались о владыке Аиглии. Да разве и сам он не испытывал страха от крика прибрежной стражи: «Вижу паруса язычников!» – разве не относились к самым жутким минутам его жизни эти бесчисленные часы ожидания в смертельном страхе: так как же, приближаются паруса или удаляются? Сколько раз он чуть не падал, а то и корчился от тошнотных спазм при мысли, что приближаются, что вот оно, вот… что ничто не спасет: ни молодость, ни ученость, ни молитва! С горечью говорил он себе, что легко издеваться, когда сам не переживал эту зловещую тишину, эту кладбищенскую пустоту замерших в ужасе ожидания прибрежных английских городов, обычно таких людных и шумных. Нет, он не мог осуждать ту безумную радость, которая охватывала мужчин и женщин, старцев и детей, мудрецов и неуков, монахов и воинов, когда с дозорной вышки доносился полный упоения крик: «Уплывают, уплывают, уходят!»
И еще припомнил, как могущественные сановники Бритнот и Этельмар неистово кричали королю после первой дани Свену: «Это же позор для англов и саксов! На вечные времена!» – «Это не я… не я… это он», – шептал побелевшими губами король Этельрод, указывая трясущейся рукой на архиепископа Сегериха. «Да, это я, – твердо сказал архиепископ. – Когда я предстану перед милосердным господом, я смело спрошу, что важнее: рыцарская честь или кровь христианских младенцев?» Бритнот смолк, яростно глядя исподлобья; Этельмар же проворчал то же самое, что только что произнес Сильвестр Второй: «Серебро обращается против тех, кто его пускает в ход… – и добавил: – Будь я милосердным господом, господин наш архиепископ, я бы так тебе ответил: «Ты поступил правильно, если только они никогда больше не вернутся». А вот не вернутся ли они еще раз»?
– А как там Олаф, король норвегов, союзник и Этельреда и Болеслава? – спросил Сильвестр Второй.
– Погиб, побежденный Свеном в морской битве, – ответил Астрик Анастазий, – впрочем, последнее время он был скорее врагом славного государя Болеслава, чем союзником. Разгневался, что сестра Болеслава досталась Свену, а не ему.
И вновь у Аарона сжалось сердце. Красивый, благородный, веселый король Олаф, любимец всей Англии, погиб! Не избежал даже такого унижения, как поражение и гибель от руки того, кто отобрал у него любимую женщину!








