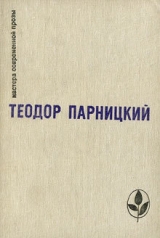
Текст книги "Серебряные орлы"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 34 страниц)
Теодор Парницкий
Серебряные орлы
Святослав Бэлза
Служитель музы Клио
Кратко эту книгу можно охарактеризовать так: самое популярное произведение крупнейшего современного польского исторического романиста. Вот уже свыше тридцати пяти лет продолжается победное парение «Серебряных орлов» в зените читательского интереса. Из двадцати с лишним романов, созданных Теодором Парницким (писатель родился в 1908 году), па долю именно этого выпал наибольший успех: он переиздавался добрый десяток раз.
Надо добавить, что это уже не первое знакомство советских читателей с творчеством выдающегося польского мастера исторической прозы – в 1969 году издательством «Прогресс» был выпущен на русском языке его ранний роман «Аэций – последний римлянин».
Пушкин завещал нам судить художника по законам, им самим над собой поставленным. В случае с Парницким выявление этих законов но представляет особой сложности благодаря многочисленным высказываниям писателя в печати и циклу лекций, читавшихся им в 1972–1973 годах студентам Варшавского университета. Лекции эти, где писатель подробно рассказал о своем творчестве, о теоретических взглядах и эстетических пристрастиях, были изданы отдельной книгой под названием «Литературная родословная».
Откуда же берет начало литературная родословная Теодора Парницкого? Истоки ее восходят, как и у любого автора исторических романов, к основоположнику этого жанра – Вальтеру Скотту – и его талантливейшим последователям – в частности, французским писателям-романтикам. Эта родословная вбирает в себя, разумеется, богатые традиции отечественной исторической прозы, представленной столь значительными именами, как Юзеф Крашевский, Генрик Сенкевич, Болеслав Прус, Стефан Жеромский. Приятно отметить, что в круг литературных привязанностей Парницкого входит также много русских и советских писателей – от Пушкина и Льва Толстого до Тынянова и Алексея Толстого; чрезвычайно близка ему наша поэзия. Для понимания писательской манеры Теодора Парницкого весьма существенно то, что он опирается в своем творчестве не только на достижения польских и зарубежных корифеев исторической романистики, но также на художественные открытия мировой литературы XX века, использует новейшие приемы письма и психологического анализа.
Парницкий, особенно в молодые годы, много выступал в качестве литературного критика, рецензента. Им опубликованы, в частности, статьи о творчестве Л. Толстого, Ф. Достоевского, И. Тургенева, М. Горького, М. Шолохова, Л. Леонова. Уроки этих мастеров были восприняты Парницким.
«В любой момент я способен открыть страницы «Войны и мира», и Толстой дает мне наибольшее ощущение действительности, – говорит Парницкий. – Если идеалом романа является создание иллюзии, что ты имеешь дело с реальностью, а не вымыслом, то ни один писатель не доставляет мне такого ощущения. Кроме Толстого. Помню, как когда-то, еще мальчишкой, я взял в руки эту книгу, оставленную родителями, и до сих пор она не перестает меня волновать…» Большое впечатление произвел в 30-е годы на начинающего польского прозаика леоновский «Вор», где как одно из действующих лиц выступает писатель Фирсов, воссозданные пером которого другие персонажи жаждут обрести «надежду на бессмертие». Вероятно, не без влияния этого произведения Л. Леонова начал позже Парницкий в романах вводить читателя в собственную творческую лабораторию, знакомить с обстоятельствами своей биографии и эволюцией мировосприятия.
В лекциях, прочитанных Парницким студентам Варшавского университета, есть любопытные рассуждения о роли эпиграфа в романе. Он рассматривает там эпиграфы, взятые Толстым к «Анне Карениной» и Пушкиным к «Евгению Онегину». Объясняет, как выбирались им самим эпиграфы (а от них нередко происходят и названия книг) к трилогии «Лунный лик» (1961–1967), романам «Аэций – последний римлянин» (1937), «И у сильных славный» (1965), «Грозящий перст» (1970). Вот только к «Серебряным орлам» нет никакого эпиграфа. Хотя, думается, им вполне могла бы стать (а возможно, и ко всему творчеству Парницкого) строка Циприана Норвида: «Прошедшее – оно сейчас, но чуть подале».
Весьма показательно, что дебютом двадцатипятилетнего Парницкого стал литературно-критический очерк «Генрик Сенкевич и Александр Дюма-отец». Сам писатель признавался впоследствии: «Говоря о моем отношении – а, я думаю, также и других исторических романистов – к наследию и традициям романа В. Скотта, Г. Сенкевича и других, я бы отметил: мы никогда не стали бы авторами исторических романов, если б некогда не были увлечены тем или иным произведением В. Скотта, А. Дюма или «Саламбо» Флобера, и конечно, Сенкевичем и «Фараоном» Пруса. Это была паша школа, она нас воспитала, сделала нас тем, чем мы являемся…»
Однако, пройдя «школу» классического исторического романа, Теодор Парницкий не стал на путь слепого подражания прославленным учителям. Касаясь, например, вопроса о связи своего творчества с наследием Сенкевича, он уподобляет себя Иакову из библейской притчи, боровшемуся с ангелом. Признавая создателя «Камо грядеши» своим «ангелом» и ощущая, что находится в его власти, Парницкий – Иаков тем не менее страстно желает освободиться от этой власти.
Такая «богоборческая» тенденция объясняется не просто честолюбивым стремлением обновить классические каноны жанра, по глубокой убежденностью в том, что «время неизбежно накладывает отпечаток на паше нравственное или эмоциональное отношение как к проблемам, так и к отдельным личностям, в какое бы время они ни жили», а это в свою очередь влечет за собой видоизменения художественной формы исторического романа. Порото, а особенно в последних книгах, она становится у Парницкого довольно изощренной, что требует изрядной подготовленности от читателя. Но эта усложненность отнюдь не дань преходящей литературной моде, а следование особенностям своего таланта. Писатель не раз заявлял интервьюерам, что был бы безмерно рад, если бы сумел содержание таких, скажем, произведений, как «Гибель «Согласия народов» (1955), «Слово и плоть» (1960), облечь в форму авантюрного романа в духе Дюма, однако это ему не удается. Сказанное вовсе не означает, что книги Парницкого начисто лишены увлекательности, – напротив, она им присуща в высокой степени, только вызвана, как правило, по остротой сюжета, а напряженностью приключений мысли, в которые вовлекает читателя своим мастерством автор.
Требуется много истории, чтобы получилось немного литературы, считал Генри Джеймс. Наблюдения над творчеством Теодора Парницкого полностью подтверждают это. Его романы буквально поражают беспредельностью эрудиции автора, какой обладает, вероятно, далеко не всякий профессиональный ученый-историк. Между тем Парницкий подчеркивает, что он именно писатель, а не историк, не историограф или историософ (и шутливо добавляет: уж скорее – «историоман»).
В упоминавшихся лекциях автор романа обрисовал свой метод как перековывание истории в литературу. Он хорошо помнит, что покровительница истории Клио, дочь всесильного Зевса и богини памяти Мнемосины, – тоже муза, и потому художник обладает не меньшим правом служить ей, чем ученый. Недаром наука эта – вспомним «отца истории» Геродота – начиналась с литературы. «Останься пеной, Афродита, и, слово, в музыку вернись!..» – призывал поэт. Теодор Парницкий возвращает историю в литературу.
Каждой его книге предшествовала большая подготовительная работа, доскональное изучение источников. По свидетельству самого автора, например, роман «Только Беатриче» (1962) он писал следующим образом: в течение пяти лет собирал материалы, две педели писал первые три страницы, а все остальное (то есть еще четыреста страниц) написал за двадцать четыре дня, работая подчас по шестнадцать часов в сутки. «Мне кажется, – полагает писатель, возражая на раздающиеся иногда упреки по поводу сложности восприятия его романов, – если автор вложил огромный труд в создание произведения – я имею в виду интеллектуальный труд, – то он вправе ожидать, что и читатель тоже пожелает принять на себя труд, хотя бы в степени десятикратно меньшей».
Движимый желанием облегчить этот читательский труд, Парницкий нередко даже перечисляет в преамбулах к своим романам те научные труды, на которые он опирался. В преамбуле к книге «И у сильных славный» дается знаменательное определение: «Историческим романом является такой роман, основная концепция которого родилась в результате оплодотворения интеллекта и фантазии автора подлинным историческим событием (или совокупностью этих событий), каковое стало известно автору в процессе знакомства с информацией, заключенной в научных трудах по истории».
Такая дефиниция заметно отличается от привычных нам формулировок, и выдвинута она Парницким в ответ на суждения, будто некоторые его романы нельзя уже считать историческими, так как они представляют собой по существу, некую разновидность «современного» романа – психологического, философского и т. д. Действительно, опыт «современного» романа в полной мере освоен автором «Серебряных орлов». Он смело экспериментирует в области формы, вводя элемент условности. В последних его книгах немало искрящихся иронией воображаемых диалогов, которые ведут порой персонажи из весьма отдаленных эпох, порой сам писатель с гипотетическими оппонентами. А шеститомный цикл «Новое предание» (1962–1970) завершается своего рода судом, который учиняют над автором его герои, причем «разбирательство» существенно способствует прояснению авторской позиции. Часто присутствует в его книгах и определенный момент литературной игры, но игра эта тоже несет смысловую нагрузку, рождая у читателя необходимые ассоциации. Для этого Парницкий виртуозно инкрустирует иногда свою прозу цитатами из поэтических произведений Словацкого и Конопницкой, латинскими сентенциями, прибегает к топким реминисценциям. Он дерзновенно вводит на страницы своих повествований почтенного пана Яна Онуфрия Заглобу из трилогии Сенкевича, шекспировского Гамлета, а также д’Артаньяна и графа Монте-Кристо из романов Дюма. Герои романа «Тождество» (1970) находятся на жюльверновском «Наутилусе». Не только литературные герои, но и творцы литературы попадают в орбиту образного мышления Парницкого: Данте и Гомер, Шекспир и Марло, Вальтер Скотт и Шиллер, Мицкевич и Словацкий, Жуковский и Ломоносов, Загоскин и многие другие. К тому же некоторые персонажи Парницкого переходят из одной книги в другую, повторяются мотивы, встречаются «отсылки» к предыдущим произведениям, что указывает на известную целостность создаваемого им художественного мира и словно бы подтверждает мысль автора «Улисса». «В чернильнице у человека есть только один-единственный роман… а когда их написано несколько, это все-таки тот же самый роман, более или менее измененный».
Романы Парницкого по своим внутренним параметрам складываются в определенное целое наподобие «Человеческой комедии», несмотря на их внешнее – тематическое и жанрово-стилевое – разнообразие. Хронологически его книги охватывают свыше двух тысячелетий, а их действие свободно перемещается из одной эпохи в другую, с одного континента на другой. Писателя особенно привлекает проблема взаимоотношений, взаимопроникновения различных культур, в чем он видит плодотворный путь к умножению духовных ценностей, развитию человеческой цивилизации.
Бальзак сказал о Вальтере Скотте, что он возвысил роман до степени философии истории. Из мозаики романов Парницкого вырисовывается грандиозный замысел попытаться осмыслить, репродуцировать через свое художественное сознание весь ход движения истории, включая историю искусства, историю философских и религиозных учений.
Такой замысел требует овладения огромным количеством фактов и знания того, как эти факты интерпретируются учеными. К тому же писатель последователен в том, что не ограничивается материалом европейской истории: мысленным взором он хочет соотнести его с событиями в других частях света – Азии, Африке, Америке. Парницкий придерживается принципа, что в целом художник обязан следовать исторической правде, то есть тому, что подтверждается документальными свидетельствами. Однако там, где существуют пробелы в исторических источниках, или в тех случаях, когда мнения специалистов по какому-либо вопросу расходятся, он считает себя вправо воспользоваться творческой фантазией.
С течением времени пропорции исторической достоверности и художественного вымысла менялись у Парницкого. Он все чаще начал вызывать «демона старины» ради наслаждения занимательной интеллектуальной игрой. И потому книгам его все в большей степени становится присущ герметизм.
С середины 60-х годов его увлекла идея писания историко-фантастических романов. На вопрос, как возникла у него потребность обращения к этому необычному жанру, Парницкий отвечает так: «Я нишу историко-фантастические романы. Извлекая из здания истории один кирпичик, снабженный печатью достоверности, я на его место кладу совсем другой, размышляя о всех последствиях такой операции… Мы привыкли к историческому роману, который является как бы сюжетным учебником популярной версии отечественной истории. Писатель выполняет лишь роль историка-популяризатора. Я вижу в своих фантастических «если бы» иной смысл.
…После многолетнего опыта работы в области исторического романа писатель в какой-то момент начинает испытывать то, что я некогда назвал бунтом наркомана против наркотиков или, другими словами, бунтом человека, занимающегося всю жизнь историей, против того, что с такой легкостью называют историческим документальным свидетельством. Чем больше имеешь дело с какими-либо историческими персонажами или проблемами, тем отчетливее возникает желание проделать с ними нечто похожее на эксперимент: как бы выглядели и вели себя люди в ситуациях, присущих данной эпохе, не анахроничпых ей, по тем не менее, если речь идет о фактах, отличающихся от существовавших в действительности».
Так, в романе «Муза дальних странствий» (1970) Парницкий исходит из предположения, что восстание 1830–1831 годов не потерпело поражения, и пытается домыслить, как сложились бы в этой ситуации судьбы величайших поэтов польского романтизма – Мицкевича, Словацкого и Красиньского.
«Если бы нос Клеопатры был покороче, мир был бы иным…» Анализируя нашу собственную жизнь или историю пашей страны, мы часто испытываем искушение привести эту фразу Паскаля. Крошечные факты, поразительные совпадения были причиной драм, которые мы наивно приписываем волшебству неотвратимого рока», – заметил Андре Моруа в «Письмах к Незнакомке» и сделал точный вывод: «Если бы нос Клеопатры был покороче, Рим все равно изведал бы сначала величие, а после – падение».
Благодаря Плутарху и Шекспиру всем известна история роковой любви знаменитого римского полководца Марка Антония и египетской царицы Клеопатры. Во время решающей морской битвы у мыса Акций в 31 году до н. э. Антоний бросил на произвол судьбы свой флот и войско, последовав за галерой обратившейся в бегство Клеопатры. Поэты вслед за Шекспиром окружили романтическим ореолом поступок Антония. В посвященном ему стихотворении Валерий Брюсов писал:
Победный лавр, и скиптр вселенной,
И ратей пролитую кровь
Ты бросил на весы, надменный, —
И перевесила любовь!
Когда вершились судьбы мира
Среди вспененных боем струй, —
Венец и пурпур триумвира
Ты променял на поцелуй…
А что, если бы Антоний и Клеопатра вышли победителями в этом сражении? Если бы они не должны были покончить жизнь самоубийством? Или если бы они стали врагами? Или один из них погиб бы, а другой продолжал жить? Какая участь ожидала бы их в каждом из подобных случаев и какой отпечаток наложило бы это на течение мировой истории? Такими и многими другими вопросами, представляющими собой «вариации на тему Паскаля», задается Теодор Парницкий в диптихе «Убей Клеопатру» (1968) и «Другая жизнь Клеопатры» (1969). Это своего рода «антироманы», где сознательно жертвуется фабулой: в них речь идет лишь как бы о возможности создания произведений под теми названиями, что вынесены на обложки книг, художественная ткань которых сложна и причудлива. Обе книги типичны для позднего Парницкого, когда он далеко отходит от классических образцов, отдавая явное предпочтение жанру историко-фантастического романа.
Что касается «Серебряных орлов», то это произведение писалось еще в русле вполне добротных традиций, требующих максимальной верности изображаемой эпохе, хотя, конечно, оно тоже не может быть причислено к романам вальтер-скоттовского или сенкевичевского типа. Собственно интриге здесь отводится весьма мало места. Роман захватывает не стремительностью сюжетного потока, а притягивает, словно манящая глубина колодца, на дно которого по волшебству возникают видения далекого прошлого, но вместе с тем отражается и встревоженное лицо автора на фоне грозового неба второй мировой войны.
Замысел «Серебряных орлов» возник и начал реализовываться Парницким в 1942–1943 годах в Куйбышеве, где он находился тогда в качестве культурного атташе польского посольства.
Нет сомнения, что время создания существенно отразилось на выборе темы романа и на его содержании. Не случайно уже на первой странице романа возникает грозное слово «война». Устами просвещенного Герберта война клеймится как страшное зло, как «проклятое Каиново наследие», порицаются германские князья и графы, которые громче других кичливо лязгают железом. И делается вывод: мудрость, а не сила должна править миром. Не случайно также в годы гитлеровской агрессии Парницкий обратился именно к эпохе первых Пястов, эпохе становления польской государственности, когда молодая славянская держава успешно противостояла германскому натиску на восток. Автор углубился в события тысячелетней давности, движимый патриотической идеей утверждения национальной независимости Польши.
Действие романа происходит на рубеже X–XI веков, в период правления Болеслава I Храброго (967–1025), польского князя с 992 года, современника Владимира Красное Солнышко и Ярослава Мудрого. Довершив дело своего отца Мешко I (принявшего в 966 году христианство по латинскому обряду), Болеслав Храбрый добился объединения польских земель, сильной централизации власти и незадолго перед смертью был увенчан королевской короной. Он прославился как мудрый политик и бесстрашный воитель, который вел упорную многолетнюю борьбу с немецкими феодалами. Успешности этой борьбы немало способствовала христианизация Польши, что было в ту пору несомненно прогрессивным явлением. С одной стороны, христианизация помогала упрочению феодального уклада в древнепольском государстве, а с другой – ощутимо укрепляла его позиции на международной арене, препятствуя, в частности, усилению германской экспансии под видом искоренения язычества. Помимо вооруженных столкновений, эта экспансия продолжала проявляться в попытках подчинить польскую церковь Магдебургскому архиепископству. В ответ Болеслав Храбрый пригласил в Польшу бывшего пражского епископа миссионера Войцеха-Адальберта, а после его убийства язычниками-пруссами и канонизации сумел добиться учреждения в месте захоронения «святого» – городе Гнезно – самостоятельной архиепископской кафедры. Таким образом Польша была избавлена от притязаний на германский диктат через церковные каналы.
То была блестящая победа польской дипломатии. На Гнезненский съезд по случаю образования архиепископства пожаловал сам император Священной Римской империи Оттон III (980–1002). Энергичный и умный Болеслав сумел настолько понравиться юному императору, мечтавшему стать во главе универсальной монархии (куда должна была войти и Польша), что тот вознамерился даже как будто сделать его своим преемником. Во всяком случае, польский князь был провозглашен римским патрицием (знак высокой милости императора), и ему был обещан королевский титул. Такие намерения и действия Оттона вызвали крайнее неудовольствие германской знати, и, видимо, ее стараниями предназначавшаяся Болеславу корона была отдана Стефану (Иштвану) Венгерскому (определенную роль тут сыграло и предательство посланца польского князя – Астрика Анастазия, о котором пишет Парницкий). Неожиданная смерть Оттона III нарушила все планы, заставила Болеслава еще почти четверть века дожидаться королевской короны, отстаивая тем временем независимость отчизны то в вооруженной, то в дипломатической борьбе с новым императором – Генрихом II.
Болеслав Храбрый, бесспорно, главный герой книги, хотя и не се центральный образ. Парницкий подает его в соответствии с летописными свидетельствами, которые он тщательно изучил. Составитель первой польской хроники Галл Аноним восторженно пишет о Болеславе, именуя его «великим» и «славным», подчеркивая его доблесть и справедливость: «Деяния Болеслава более велики и многочисленны, чем могли бы мы их описать или рассказать о них безыскусной речью…» «Великим» и «смышленым» благородно называет этого опасного и удачливого противника киевского князя также русский летописец. Только немецкий хронист Титмар (Дитмар) Мерзебургский (он, кстати, выведен как действующее лицо в «Серебряных орлах»), отражавший настроения германских феодалов, не удерживается от бранных эпитетов по отношению к Болеславу, упрекая его в коварстве и хитрости, а заодно осуждая и Оттона за благоволение к польскому правителю.
Польша Болеслава Храброго вписывается Парницким в широкий европейский контекст. В книге показала взаимосвязь событий, происходящих в отдаленных друг от друга странах, возрастающая роль славянства в мировой истории. «История – цельнотканый гобелен», – утверждает американский прозаик Торнтон Уайлдер. В «Серебряных орлах» Парницкий не довольствуется воспроизведением и без того достаточно сложного рисунка на лицевой стороне этого «гобелена» – он стремится взглянуть и на его изнанку, разобраться в сплетении нитей, узелков, связующих времена и пространства, судьбы всемирные и личные.
Бурная эпоха Средневековья воссоздается им в борении политических замыслов и страстей, в столкновении государственных интересов, власти светской и духовной, в соперничестве Рима и Константинополя, в прозрениях человеческого ума и его заблуждениях. Не прибегая к нарочитой архаизации слога, Парницкий реконструирует восприятие мира средневековым человеком. Это восприятие носило тогда религиозную окраску, однако писатель отнюдь не выступает в романе апологетом католицизма. Не раз выясняется, что побуждения, которые определяют действия духовных лиц, имеют весьма мало общего с религией. Парницкий объективно повествует об ожесточенной борьбе за папский престол, когда одновременно с Григорием V – саксонцем Бруно – объявился антипапа Иоанн XVI – итальянец Джованни (Иоанн) Филагат; рассказывает о восстании римского люда под предводительством консула Кресценция против германского папы и германского императора («война вина с пивом»); с очевидностью демонстрирует все более углублявшуюся зависимость «наместника святого Петра» от соотношения политических сил. Он затрагивает также проблемы, связанные с движением за церковную реформу, возникшим в Клюнийском монастыре во Франции. «Клюнийцы требовали воскрешения в церкви «апостольских» порядков, возврата к аскетическим идеалам и соответствующему образу жизни, исполненному труда, благочестивых упражнений и подвигов милосердия, – поясняет советский историк И. А. Крывелев в книге «История религии» (т. I. М., «Мысль», 1975, с. 212–213). – Призывы клюнийцев имели успех. Появилось много новых монастырей того же направления, которые во Франции объявили себя подчиненными Клюнийской обители. Аналогичное движение развернулось в Италии. В XI в. оно стало уже серьезной церковно-общественной силой».
Клюнийское движение приобрело такую популярность как реакция из недр самой католической церкви на разложение нравственных основ, охватившее высшие ступени ее иерархии. На фоне чехарды малодостойных пап и антипап в конце X – начале XI века светлым пятном выступает внушительная фигура Сильвестра II (его понтификат длился со 2 июня 999 года по 12 мая 1003 года). Это был образованнейший человек своего времени, которого молва за его казавшиеся сверхъестественными знания окрестила чернокнижником.
Помните, у Булгакова в «Мастере и Маргарите» при первой встрече с Берлиозом и Бездомным на Патриарших прудах Воланд заявляет: «Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века. Так вот требуется, чтобы я их разобрал. Я единственный в мире специалист».
Герберт Аврилакский – это и есть Сильвестр II. Француз родом из Оверни, он был еще ребенком отдан бедной семьей в монастырь в Аврилаке. После обучения во французских монастырских школах отправился в Испанию, где приобщился к восточной мудрости. Он старательно изучил также сочинения латинских классиков, велика была его тяга к искусству, особенно к литературе и музыке. Более всего преуспел Герберт в математике и астрономии. Известны его работы в этой области, где он кое-что заимствовал из арабских и древнеиндийских трактатов. На некоторое время Герберт обосновался в Реймсе, где преподавал в местной школе, а потом стал архиепископом, но принужден был вскоре оставить кафедру. Слава о его учености распространилась далеко за пределы Франции, и он был приглашен в качестве наставника к будущему императору Оттону III. Со времен германского короля Оттона I (912–973), завладевшего Северной Италией и основавшего Священную Римскую империю, возведение на папский престол стало прерогативой императора. Поэтому после смерти Григория V по воле Оттона III папская тиара оказалась на голове его учителя Герберта, принявшего имя Сильвестр II. Но даже после того, как он стал римским первосвященником, его не переставали подозревать в сношениях с «нечистой силой». Недаром у Парницкого, когда Оттон III находится при смерти, то, призывая спасти двадцатидвухлетнего императора, кёльнский архиепископ Гериберт обращается с такой, казалось бы, странной мольбой к папе: «Не бога проси. Проси силы, которые тебе служат».
Между тем секрет всеобъемлющих знаний и проницательности Герберта-Сильвестра не в знакомстве с черной магией, а в долголетних ученых занятиях, в штудировании ветхих манускриптов, из которых вынес он главное: «Что самое мудрое в наследии всей этой древней мудрости? Не паука возведения прекрасных зданий, и не наука управления царствами, и не наука ведения войн, не паука изучения звезд и чисел, не паука писать стихи, ни даже подлинная наука музыки. А кратчайшая наука: «Познай самого себя». Заставляя Герберта цитировать надпись, которая, согласно преданию, красовалась над входом в Дельфийский храм, Парницкий показывает его подлинным мыслителем, воспринявшим наследие античности и усвоившим достижения не только европейских культур.
Если конечный вывод земной мудрости, к которому приходит Герберт-Сильвестр, гласит: «Познай самого себя», то целью автора романа было познать тончайшие движения души своих героев, дабы дать читателю как можно более полное представление не только об исторических событиях, по также о суждениях и образе мышления людей Средневековья. Притом людей, чьи имена запечатлены в анналах европейской истории.
Книга Парницкого насыщена глубоким философским содержанием, и, пожалуй, больше всего его интересует жизнь идей. Разумеется, когда речь идет об идеях почти тысячелетней давности (а иной раз и о более древних), то паше сегодняшнее отношение к ним обусловливается исторической перспективой, и не всегда, кстати, подход автора совпадает с научным, хотя он и добросовестно вник в проблематику избранной эпохи.
Одной из основных исторических идей, затронутых на страницах «Серебряных орлов», мы вправе считать идею «мировой империи». Идею создания такой империи пытались в древности осуществить персидский царь Кир, Александр Македонский, Юлий Цезарь. Основанная Цезарем Римская империя спустя несколько столетий распалась в 395 году на Западную и Восточную – Византию, просуществовавшую еще тысячу лет и со времен рапного Средневековья связанную с Русью многими нитями в области культуры, экономики, политики и религии (упоминания об этом тоже имеются в романе).
Идея «мировой монархии» не раз возрождалась и в дальнейшем – например, в конце VIII – начале IX века при Карле Великом (чей овеянный легендами образ запечатлей в «Песни о Роланде»), Наконец, в 962 году в результате завоевательных походов Оттона I на Западе возникла новая империя, которая позже стала называться «Священной Римской империей германской нации». По площади она значительно уступала былым владениям Карла Великого, по согласно честолюбивым замыслам ее правителей должна была стать преемницей империи цезарей, чем и обосновывались непомерные германские территориальные притязания.
Выведенный в романе Парницкого внук основателя Священной Римской империи Оттон III был обуреваем мечтами о воссоединении Западной и Восточной империй, о создании подлинно мировой монархии. Хорошо известно, что ни в тот период, ни позже не было реальных предпосылок для воплощения этих утопических планов.
Но подобная идея по была чужда и Данте, создавшему в начале XIV века специальный трактат, где доказывалась необходимость всемирной монархии. Великий поэт видел в образовании единого мирового государства путь к преодолению княжеских и королевских раздоров, от которых так страдала, в частности, его истерзанная междоусобицами родина. Он считал, что всеобщий мир и благоденствие могут наступить в таком государстве, если во главе его будет стоять справедливый просвещенный монарх, независимый от папского престола. Именно этот последний постулат представлялся католической церкви величайшей ересью, поскольку она считала, что все владыки христианского мира должны повиноваться ей.
Поэтому не случайно в романе Парницкого столько места уделяется спорам о том, обладает ли духовная власть приоритетом над светской. В средние века католическая церковь склонна была рассматривать светскую власть как свою послушную вооруженную руку, действия которой должны быть направлены на упрочение и распространение «истинной веры».
Конечно, далеко но во всем ортодоксально следует догматам этой веры «чернокнижник» Герберт-Сильвестр, полагавший, что духовный пастырь должен прежде всего руководствоваться мудростью, добытой за века человечеством, но и он, как в детские годы Оттона III, продолжает ощущать себя наставником по отношению к юноше-императору, поддерживая его попытки создать всемирную монархию. Однако история убеждает нас в несостоятельности этой идеи, которая, как верно показывает Парницкий, столь увлекала пылкого Оттона III.








