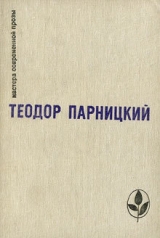
Текст книги "Серебряные орлы"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц)
Когда Тимофей жаловался Григорию Пятому, что император Оттон назначил Иоанна Феофилакта главой сената, вместо того чтобы плюнуть ему в лицо, папа ответил с горькой усмешкой: «А ты видал когда-нибудь человека, который плевал бы в воду, в которой видит свой облик чудесно, великолепно, выгодно отраженным?» Зеркало римских доблестей Оттона не могло разделить судьбу других побрякушек и драгоценностей неверного Рима: когда последние дни февраля и весь март уходили в вечность под лязг щипцов, вырывающих ноздри и языки, Иоанн Феофилакт спокойно проводил долгие ночные часы, усердно вникая в старые рукописи, поистине бездонные залежи бесценных сведений о старинных церемониях при императорском дворе. Густыми красными чернилами, словно собственной кровью сердца, выписывал он точные размеры сияющего ореола, который должен обрамлять чудесно выложенную из золотых камешков шевелюру Оттона на огромных мозаиках, долженствующих украшать стены дворца, только что воздвигнутого на Авентине. С особым удовольствием работал он над замыслом устройства столовой залы, точно скопированной с константинопольской залы Девятнадцати акувитов. И не хотел считаться с тем, что лотарингские, франкские, саксонские епископы, аббаты, графы и князья будут ерзать и перешептываться, когда на время пиршества вопреки стародавним обычаям дружины отделится от них Оттон, возвысясь на новый манер, вознесясь на возвышение, на котором встанет полукруглый стол на одну персону. За этим столом будут подавать императору Запада точно то же самое, что и на возвышении в зале Девятнадцати акувитов вкушает самодержец Востока. И только вино будет другое, куда лучше: не кипрское, а тускуланское.
Иоанн Феофилакт не знал, любит ли Оттон Третий вино. Но это его не интересовало. Он знал, что Оттон будет пить вино. Много вина. Наверняка больше, чем пили Август и Тит, Траян и Марк Аврелий. Те даже могли себе позволить вовсе его не пить. А Оттон не может.
Может быть, он даже предпочитает пиво. Иоанн Феофилакт сам его предпочитает, особенно в жару. Нередко он угощает брата Романа холодным, приятно горьковатым напитком, который ничуть не утратил своей пышной пены, несмотря на долгую дорогу чуть ли не от самого Гослара. Разумеется, только брата Романа – больше никого, никогда. Но Оттон не будет пить пива даже в одиночку. Он еще недостаточно римлянин, чтобы позволить себе что-нибудь такое, что выдаст, насколько он еще не римлянин.
Поэтому Тимофей и сказал папе, что неправильно предполагать, что вместе с наводнением Рима германскими войсками предстоит и затопление его пивом. Никакого затопления не будет. Пиво будут пить украдкой, покупая за бесценок, одни потомки коренного римского плебса, да и то лишь в закоулках предместий. На этих бедняков будут с завистью смотреть саксонские и франкские воины, поскольку им это будет запрещено, ведь они же войско римского цезаря – а римляне пьют вино. Бочки с пивом будут плесневеть в подвалах домов, где разместятся лотарингские аббаты, франкские аббаты, франкские князья, саксонские маркграфы – поелику они знатные вельможи Римской империи, а римляне пьют вино. Иностранные гости – послы и купцы – напрасно будут в жаркие дни играть перед глазами трактирщиков заморскими побрякушками; трактирщику дороже сохранить спину в целости, чем приобрести усладу для глаз: знает, что его ждет, если чужеземец с его попустительства, с наслаждением потягивая пиво, хоть на миг забудет, что Рим и римский дух переживают период величественного, нового расцвета – а ведь каждый чужой знает, что римляне пьют вино.
На Авентиие разобрали окружавшие дворец леса, величие бессмертной империи слепило глаза простых смертных блеском мозаик, пышностью церемоний, тяжестью и красочностью усыпанных драгоценностями одеяний, из которых еле виднелось почти мальчишеское бледное личико, надлежаще неподвижное, великолепно презрительное, приводящее в оцепенение, всегда с плотно стиснутыми, красивыми, узкими губами, только в гневе обнажающими длинные, хищные, ослепительно белые зубы. Иоанна Феофилакта, правда, огорчала излишняя живость больших черных глаз императора – живость, так часто переходящая в непонятную тревогу, так не ладящую с полубожественпым бесстрастием, которое всенепременно должно характеризовать олицетворение величия империи. Уж не болит ли у Оттона голова от чрезмерно выпитого вина? Конечно, в этом он никогда не признается – за это Иоанн Феофилакт спокоен. Так что он усиленно трудился с церемониймейстерами, устраняя всякие сучки и задоринки, самые мельчайшие промахи.
И как же приятно было после многотрудного дня засыпать в замке, что напротив колонны Марка Аврелия, вслушиваясь в приятную колыбельную, которую напевает ему тяжкая поступь волов и скрипящие колеса повозок, тянущих груды, полненьких винных бочек – куда? – на Север! Из Тускула в Регенсбург, в Майнц, в Гослар, в Магдебург! Потому что Регенсбург, Майнц. Гослар, Магдебург – это Римская империя, а римляне пьют вино.
В монастырях Кведлинбурга и Харденсгейма ученые женщины читают латинских поэтов. Из гекзаметров и напевных строф то и дело выплывает хвала вину. И хотя дергаются слабые женские головы, не могут женские уста не коснуться, хотя бы слегка, наполненных до краев чаш, ведь они хотят, как сестры, приобщиться духовно к римским поэтам – ведь римляне, которых они сейчас читают, пьют вино.
В далекой славянской Праге прогнивший мост ломается под тяжестью нагруженных возов, и тихие воды реки братаются с пахучим, золотистым напитком. Потому что чешская земля верно служит Римской империи, а римляне пьют вино.
Где-то на краю земного круга гибнет мученической смертью друг императора. Оттон покидает Рим, чтобы совершить далекое путешествие к могиле собрата по духу. И вскоре всколыхнет Рим весть, что в каком-то варварском поселении, названия которого и не выговорить, священная рука императора водрузила серебряных орлов: славянский княжич становится патрицием империи, император благословляет его поцелуем гордых узких губ, из худой, мягкой, почти женской руки перекладывает в сильную, тяжелую руку священный символ достоинства, копье святого Маврикия. Иоанн Феофилакт не разделяет огорчения Рима. Говорят, что у нового патриция крепкая голова. Не заболит от вина, которое он будет обильно пить, а пить он будет, ибо он теперь патриций Римской империи, а римляне пьют вино.
Это верно, дорога к лежащему на краю земли княжеству далекая и трудная – сколько возов разобьется, прежде чем доберутся туда… сколько волов сдохнет! Но именно туда можно предусмотрительно послать побольше возов с вином и быть уверенным, что ничего не потеряешь… Это верно, патриций, попивая вино, пьет так же, когда захочет, и пиво и даже может себе позволить сказать вслух: «Я пью пиво», но Иоанн Феофилакт неизменно видит в нем одного из лучших своих клиентов. Потому что вместе с серебряными орлами император вручил ему дар от своего любимого учителя, папы: архиепископский паллий для брата мученика. А архиепископский паллий в варварском княжестве – это будущие епископства, строительство церквей, основание монастырей, свершение богослужений. А для богослужений требуется вино. И rte только для богослужений. Из теплых, солнечных краев привозит патриций пресвитеров и монахов, а те с детства привыкли каждую трапезу запивать вином. Так что чем больше будет расти мощь патриция, чем больше завоеванных земель он передаст под посох своего архиепископа, тем больше будет епископов, церквей, монастырей. Больше священнослужителей и монахов. Так с чего же должен Иоанн Феофилакт разделять огорчение Рима, что серебряные орлы вдруг улетели из гнезда Кресценциев на далекий суровый Север!
И как же может Тимофей рассчитывать на новый бунт дяди против императора и папы?! Некогда в присутствии Иоанна Феофилакта Сильвестр Второй вздохнул о том, как было бы хорошо, если бы гроб Спасителя находился не в руках неверных… У Иоанна Феофилакта даже голова кругом пошла от волнения: ах, если бы оружие христианских правителей, вместо того чтобы то и дело обращаться друг против друга, изгнало неверных из святой земли и других стран Востока, исчез бы оттуда и Полумесяц, косой сатанинский глаз, грозно высматривающий, не пьют ли в странах Востока вина… О, если бы вздох папы пременился в вихрь, который мог бы оторвать от смехотворно малых пределов и смехотворно малых свар дружины христианских владык и двинуть их по бескрайней синеве моря на Восток… Правда, там иные, нежели в славянских краях, растут виноградники, и до чего же они там запущенные – по об этом Иоанн Феофилакт не грустит… Лишь бы только Крест воссиял вместо Полумесяца, а уж люди, которые станут возделывать эти виноградники, будут его люди… в его бочки будут лить вино, на его возы нагружать, да что там – на его корабли…
– Так что понимаешь, брат, на бунт я рассчитывать не могу, – сказал Тимофей Аарону, когда квадрига въезжала на мост, ведущий к башне Теодориха.
Однако бунт вспыхнул. Как-то ночью к Иоанну Феофилакту пришел двоюродный брат Тимофея Григорий. И стал говорить, что хватит с Рима позора, что Петровой церковью правит чернокнижник, которому демоны указывают, где закопаны сокровища, который в безлунные ночи вместе с приблудным монахом забирает эти сокровища и переносит в подземелья базилики святого Петра. Иоанн Феофилакт спокойно слушал и смеялся. Над двоюродным братом, над Римом, над чернокнижником. Насторожился он только тогда, когда Григорий сказал, что с Рима довольно и такого императора, который не желает помнить о том, что он прежде всего первый гражданин Вечного города и что первый долг его – отстаивать честь Рима. А то какая-то жалкая дыра, городишко Тибур, осмелился посягнуть на честь римских граждан, император же, который в соответствии со своей первейшей обязанностью двинулся против Тибура, неся грозный меч мщения, наложил на городок лишь легкое наказание и простил. Не смыл позорного пятна, не исполнил первейшего долга, не сохранил Риму верности, так что и Рим может не хранить верность ему. Город вычеркнет его из списка граждан, лишит огня и воды, вышвырнет за стены или спустит под землю. А Иоанна Феофилакта Рим спрашивает, исполнит ли он свой гражданский долг. А спрашивая, напоминает о святых словах: «Кто не со мной, тот против меня».
Иоанн Феофилакт слушал, моргая глазами и то и дело прикладывал ладонь к уху. Тибур, Рим! Его смешил напыщенный и одновременно страстный топ Григория. Значит, римское величие – это самые обыденные раздоры из-за межи? Римская гордость – это всего лишь перебранка через изгородь? Значит, не владыка мира, божественный Август, император Саксонский, Франкский, Славянский, водружающий серебряных орлов на краю земли, – а первый гражданин сельской общины, главный ночной страж, поставленный пинать через дыру в изгороди соседских брехливых собак?!
Григорий не мог его понять. Он морщил брови и стискивал кулаки. Смотрел на дядю тем же взглядом, как тогда, когда ждал сигнала, чтобы леопардом метнуться на Тимофея. Но на этот раз во взгляде его виднелось не послушание, а немое напоминание о неумолимом законе семейной общности – законе, которому он, Григории, подчинился тогда, не размышляя.
По сладковатое золотистое вино уже давно перелилось через край малой сплоченной бочки, имя которой: тускуланский род. Выливалось уже из другой, куда большей, вместительной, именующейся Римом… Долгие годы оно лилось потоком через Франконию, Саксонию, полусказочную Славянскую землю, уже виделось, как оно грозным потоком подмывает твердыню полумесяца. Потоки сливались в озера, а озера – в гулкое безбрежное море, и именно это море звалось Рим, а не бочка с изъеденными ржавчиной обручами.
Иоанн Феофилакт встал:
– Так ты говоришь, простил Тибуру? А меня разве не простил у Фламинских ворот? А не прости он меня, так и ты бы, Григорий, сегодня не имел ни огня, ни воды.
Он не пошел с Римом, но не пошел и против него. Стал ждать.
Ждал он не только великого испытания вина, не только крепости его, но и благородства. Давно уже он убедился, что оно вызывает у Оттона все более сильные головные боли. Выдержит ли он их, перетерпит ли, стиснув зубы, поймет ли, что благородный, хотя и слишком крепкий, напиток уже вошел ему в кровь и тем самым облагородил ее, хотя и отравил, или же, опасаясь за свое здоровье, трахнет чашей о колонну, втопчет разлитое вино в землю и с облегчением скажет: «Дайте мне пива!»
Перед носом возвращающегося из Тибура императора Рим захлопнул ворота. С глухой ненавистью и немой, безжалостной издевкой окружил черным муравейником башню, на которую взошел выставленный с позором главный ночной сторож. Иоанн Феофилакт, затерявшись в гуще людского муравейника, затаив дыхание, чувствуя, как кровь шумит в висках, вслушивался в слабый голос юнца, с которого вихрь ненависти и презрения сдирает тяжкие, пышные одеяния.
Оттон не осыпал проклятиями вино, которое вызвало у него самую тяжкую в жизни головную боль. Не угрожал ему. А ведь ему достаточно было протянуть руку, чтобы освежиться большой чашей густо пенящегося пива. И весь город знал, что за стенами окружили башню тяжеловооруженные саксонские дружины, вздымающиеся пеной ненависти и стыда за своего короля. Оттон тихо жаловался:
– Vosque estis mei Romani? Propter vos quidem meam patriam, propinquos quoque reliqui…[ «И вы – мои римляне? Ведь я ради вас покинул свою родину и своих близких…» (лат.)]
Иоанн Феофилакт не хуже цен на вино знал, чего стоит боль, которой платят за перековывание гордости в жалобу тяжким молотом неожиданного разочарования. Даже голова кружилась, когда он прикидывал, сколько боли должны стоить Оттону бросаемые с башни горькие и ведь такие не гневливые слова: «И вы – мои римляне? Ведь я ради вас покинул свою родину и своих близких… из любви к вам оттолкнул саксов, германцев тяжеловесных…»
А когда и вовсе сорвался у него голос на словах «… имя ваше и славу донес я до края земли», Иоанн Феофилакт понял, что вино победоносно прошло наивысшее испытание.
И он начал действовать. Употребил все свое влияние, утихомирил Рим, заставил открыть ворота, швырнул черный муравейник на колени. Собственноручно накинул роскошную тяжелую мантию на все еще дергающиеся худые плечи. И выдал Григория.
А когда все стихло, почувствовал, что вынужден спросить сам себя, неужели для него так уж важно само вино. Он углубился в себя и с ужасом обнаружил там какой-то неожиданный огонек, какие-то неведомые ему доселе нити. Огонек привязанности, нити искренней верности.
Это не значило, что ничего не осталось у него от холодной, трезвой заботы о виноградниках и вине. Наоборот, именно эта забота позволяла ему замечать и предвидеть, а многое замечая и предвидя, подбирать подходящие орудия – но он так никогда и не смог больше безошибочно разграничить в себе, где кончается вино, а где начинается Оттон.
А забота о вине заставила его заметить, что с возвышения в столовой зале давно уже не видно, что, собственно, подливают себе в чаши пирующие внизу за общим столом аббаты и епископы, князья и графы. А если, как он полагал, все чаще подливают себе пива в предназначенные для вина кубки, то как помешать из-за полукруглого стола, чтобы, отпивая густую пену из весело кружащей чаши, они не пили за возвращение давних пиров, за радостный миг, когда рухнет возвышение и вождь дружины вновь сядет за общий стол, вместе со всеми, отпивая из общей чаши.
Разумеется, раздумывая надо всем этим, заботился Иоанн Феофилакт о столь дорогом ему всемогуществе вина. Он отлично знал, что тот, кто сидит сейчас в одиночестве за полукруглым столом, жадно потягивая отравляющее его вино, никогда не сойдет с возвышения, никогда не сядет за общим столом, никогда не коснется спекшимися губами густой, белой пены. Так что если захотят снести возвышение, то только вместе с ним. А что тогда? Кто поручится, что между Рейном и Эльбой еще рождаются столь удивительные дети природы? А не придет ли скорее такой, что одной рукой с силой рванет диадему императоров и наденет ее себе на голову, а другой оттолкнет поднесенную к его губам чашу с вином, весело, но злорадно хохоча: «Нет, не хочу, чтобы голова кружилась, а то еще диадема с нее слетит… Лучше уж пиво…» И вновь заскрипят возы, нагруженные грудами бочек, влекомые волами, только не на Север – ас Севера!
А для кого же останется вино? Разве что для церкви. Она велит пить мало, умеренно, но пьет тысячами и тысячами уст.
И тогда начало валиться возвышение, когда закачался полукруглый стол, Иоанн Феофилакт прежде всего подумал о том, чтобы, валясь, они не погребли под собой одинокого участника пира. Ради быстрых прибылей он снизил цены, ухудшал сорта, отдавал в аренду на самых невыгодных для себя условиях лучшие участки тускуланских земель. Бесплатно раздавая лучшие вина, притом в огромном количестве, он заново разжигал в римском народе гаснущий огонь любви к полубожественному величию императора. У все большего числа арендаторов забирал всех сыновей, чтобы увеличить вооруженную дружину тускуланского графства. Начал потихоньку поддерживать и раздувать слухи о чернокнижии папы, так как не мог тому простить его решения относительно королевской короны для Востока. Корону эту император и папа первоначально предназначали для патриция империи, потом передумали и отдали жестокому повелителю страшных диких венгров. Иоанн Феофилакт догадывался, почему они так поступили – борясь за немедленную выгоду, за молниеносную опору для шатающегося полукруглого стола; он все больше дулся на папу, полагая, что тот во всем имеет на Оттона влияние. По мнению же Иоанна Феофилакта, единственно патриций империи со своей крепкой головой, появись он в Риме, действенно поддержал бы шатающийся престол. Но ведь не появится, и удивляться этому не приходится: обида им движет и гнев. А если он не идет с помощью, то кто поможет? Бедный Оттон!
– Бедный, говоришь, дядюшка? – Голос Тимофея больше, чем когда-либо, напоминал резкий, гневный свист. – Я его жалеть не буду.
Они сидели ночью друг против друга у сводчатого окна. Слышали доносящийся с площади возле колонны гул. Это тускуланская дружина готовилась покинуть город. Поведет ее Тимофей. Встав во главе ее, будет искать Оттона, пока не найдет. Может быть, он в Равенне, может быть, еще дальше, на острове Риальто, у венетов. Тускуланское графство сохранит верность до конца.
– Сохранишь ведь, Тимофей, а?
Тимофей скрестил руки на груди, украшенной златотканым двуглавым орлом и пониже его – колонной. Растянул рот, обнажил щербину в зубах, крепко свел брови. Молчал, но и растянутый рот, и стиснутые зубы, и сморщенные брови, казалось, говорили об одном: верность сохраню. Но не требуй от меня, чтобы я его жалел.
Иоанн Феофилакт взглянул на племянника измученными глазами.
– Ошибаешься. Ты всегда ошибался. Это не он забрал у тебя Феодору Стефанию.
Тимофей пожал плечами. В движении этом было столько снисхождения к чужой слепоте, сколько и раздражения. Раздражения, что вот начинается ненужный разговор о давно минувших делах, давно уже обдуманных и давно оставленных позади.
– Будь здоров, дядюшка.
Он поднялся с места. Иоанн Феофилакт тоже.
– Вернешься?
– Вернусь. Было бы к чему. – Он отпил вина. – Хорошее. – Потом добавил: – Наше.
Когда он уже был в дверях, Иоанн Феофилакт остановил его возгласом:
– И помни, что это не император отобрал у тебя Феодору Стефанию.
Тимофей разозлился и резко повернулся.
– А кто? Может быть, его святейшество папа? – рассмеялся он сердито.
– Кое-кто посильнее их обоих, – сказал Иоанн Феофилакт и зевнул. Потом добавил сонным голосом: – Стука колес что-то не слышно. Неужели ничего не ввозят и не вывозят?
5

Феодора Стефания исчезла в день возвращения Григория Пятого в Рим. Сначала Тимофей подумал было, что укрылась вместе с мужем за мощными степами башни Теодориха. Но воины, которые перед тем, как захлопнуться тяжелым, железным воротам, обмозговав все, успели перебежать мост и отдаться в руки Оттоновых людей, уверяли, что ее там нет. Тимофей лихорадочно обшарил весь Капитолий, где Кресценций жил с женой и сыном, с тех пор как стал патрицием Рима. Между передними лапами каменной волчицы нашел прозрачный зеленый платок, точно такой же, как тот, который получил от Феодоры Стефании за час до того, как его должны были избить дядья и двоюродные братья. Но это был единственный след, который не указывал дальше никакой дороги. Тимофей обыскал и тихую, окруженную розовыми колоннами виллу у Номентанской дороги, и огромный, прилегающий к ней сад. Никаких следов, никого из слуг. Он бегал по всему Риму, рассылал своих и папских людей по дальним окраинам, приказал прощупать шестами дно Тибра. Напрасно. Даже папу спросил, что тот думает об исчезновении Феодоры Стефании. Он ответил, что Тимофей ее уже не найдет. И не объяснил, почему так сказал. Оборвал разговор. Беспокойство Тимофея возросло. Он поделился с Аароном, попросил помощи в поисках, пусть тот порасспрашивает монахов и приходящих к монастырю нищих. Похудел. Подурнел.
Как-то в последние дни марта он шел по запущенным уличкам вокруг подножия Палатина, вновь направляясь к Капитолию, полон новой, хотя и страшной надежды. Император Оттон, приказав вернуть самому прославленному из семи холмов Рима как можно более блистательный вид, приказал незамедлительно снести все лачуги, будто грибы, наросшие за века на склонах и даже у самой вершины. Тимофей ожидал, что при этом обнаружатся какие-нибудь подземелья или убежища, никому доселе не доступные. Давно он уже внушил себе, что Иоанн Кресценций убил свою жену, проведав о ее встрече с Тимофеем в день бунта или просто разъяренный ее отказом отправиться с ним в башню Теодориха в день возвращения папы. Она же наверняка могла отказаться в предвидении, что вот-вот на Капитолии появится Тимофей. Мысль о том, что она мертва и труп ее гниет где-то в подземельях, вызывал в нем тошнотную слабость, приступы почти безумия, но лучше уж это, чем неуверенность! Оставалось еще несколько добрых стадий до Капитолия, но мысли его бежали далеко вперед, уже раскапывали развалины, он уже чувствовал трупный запах – не удивительно, что не заметил, как всем своим мчащимся телом обрушился на высокую, черную фигуру, которая как раз пересекала дорогу, направляясь к круглой красной церковке у подножия Палатина. Черная фигура покачнулась и, чтобы удержаться, крепко схватила Тимофея за плечо, резко осадив его на месте. Тимофей столь же резко выдернул плечо, но вместо того, чтобы бежать дальше, замер от удивления и волнения. Высокий монах в черном одеянии держал в руке женский башмак. Сомнений у Тимофея не было: это был башмак Феодоры Стефании!
– Откуда он у тебя? – крикнул он не своим голосом.
Дикий этот крик мгновенно притушил в глазах монаха гнев, вызванный столкновением.
И он кивком головы указал на красную круглую церковку.
– Иду принести в дар святому Феодору эти камешки, – сказал он спокойно и даже дружелюбно.
Те камешки! Ну конечно же, те самые!
Когда толпа швыряла огромные камни в стены Леополиса, когда тысячи плеч высаживали ворота, а тысячи глоток вопили: «Республика!» – Феодора Стефания смеялась. Смеялась, разрешив Тимофею поцеловать подъем своей ноги, несколько пухлый подъем. Этого ому вполне достаточно: она хорошо помнит, как он пожирал глазами щиколотку соседки в хороводе танцующих в день святого Лаврентия! Тимофей хорошо запомнил форму и фасон башмака, чересчур узкого и остроносого, тесноватого, конечно, для ее ноги, и уж в особенности хорошо запомнил камни, три зеленых камня, зеленых, как платье Феодоры Стефании и как смеющиеся ее глаза…
Сколько усилий понадобилось ему, чтобы спокойно выслушать рассказ монаха. Так вот, у ворот святого Себастьяна вешали шестерых саксонских воинов. Монах не знает за что: кто-то в толпе зевак сказал, что за насилие или за попытку насилия над какой-то знатной римлянкой. Трое из приговоренных пронзительно кричали, их били, чтобы они шли к виселице; один то и дело терял сознание; другой был совершенно спокоен и даже посвистывал; шестой же, отыскав в толпе глазами монаха, кивнул ему и вручил этот башмак со словами: «Поднеси эти камни святому Феодору, может, смилуется над моей бедной душой!»
«Святому Феодору!» – для Тимофея все было ясно. Воины напали на Феодору Стефанию, совершили или пытались совершить насилие, их за это повесили! Убегая от них, она потеряла башмак, возможно, его сорвали с ноги, когда возились. Воины знали, на кого напали, наверное, им сказали, когда приводили приговор в исполнение. Гот, кто сорвал башмак, старался умилостивить святого, которого страшно разгневал, напав на особу, находящуюся под его покровительством… и, чтобы получить прощение, отдал эти камни…
«Но где же Феодора Стефания? Кто пришел ей на помощь? Кто вырвал ее у насильников?» Тимофей поспешно простился с монахом, забрав у него башмак, но позволив вырвать камни, которые гот и понес в церковь.
У ворот святого Себастьяна давно уже не было никаких следов виселицы, не то что повешенных. И никто ничего не знал о шести воинах. Только безногий нищий, который знал Тимофея издавна, так как долгие годы поглядывал устало, как тот въезжает и выезжает с нагруженными вином ослами, объяснил, что шестерых этих воинов казнили спустя четыре дня после возвращения папы в Рим, и добавил, что у центуриона, который во главе вооруженного отряда привел осужденных, на груди был вышит серебром медведь.
Тимофей принялся искать отряд, где у центурионов имеются такие отличия. Искал десять дней и наконец нашел, нашел того самого центуриона, который приводил висельников. Но он не мог ничего сказать, кроме того, что повесил их по приказу маркграфа Укгардта.
Стало быть, надо идти к Экгардту. Тимофей знал, что это один из приближенных императора, военачальник, которому поручено взять приступом башню Теодориха сразу же после пасхальной заутрени. Он постоянно находится подле священной особы императора на Авентине, где как раз начали строительство нового дворца. В ожидании, когда дворец построят, император живет в монастыре святых Алексия и Бонифация. Говорят, он неохотно покидает Авентинский холм, видимо, не очень уверенно чувствует себя в Риме после недавно подавленного бунта. Наверное, боится покушения. Не навещает даже папу, которого в отличие от императора то и дело видят на улицах города и который даже поселился не за степами Леополиса, а в Латеране.
Доступ на Авентин был весьма затруднен. Тимофей отправился в Латеран просить папу, чтобы тот помог ему отыскать Экгардта. Но не застал его, Григорий Пятый два часа назад как раз отправился на Авентин.
Тимофей был в ярости из-за того, что опоздал. Охваченный одной мыслью, терзаясь бессильным отчаянием, он почувствовал потребность незамедлительно поделиться с кем-нибудь тем, что его терзает. А с кем еще ему делиться, как не с Аароном? Спустя миг он уже мчался в квадриге, украшенной золотыми ключами, к монастырю святого Павла. Возле пирамиды Цестия смял двух саксонских воинов. И понять не мог, почему это доставило ему удовольствие.
И какова же была его радость, когда он услышал от Аарона, что тот через час отправляется на Авентин. Его вызвал учитель Герберт. Весь монастырь в волнении от этого. Правда, клюнийская конгрегация считает Герберта нарушителем святых канонов, поелику он взошел на архиепископство в Реймсе по воле короля западных франков и вопреки воле столицы апостола Петра, по тем не менее он появился теперь в Риме как любимый учитель, друг и советник императора – ас этим, хочешь не хочешь, вынуждена была считаться даже клюнийская конгрегация. Так что вызов к Герберту был большим событием. Аарон сиял, по чувствовал, что и терзается неведением. Боялся за себя, боялся, какое он произведет впечатление. Правда, когда-то он почти полгода учился в знаменитой школе Герберта в Реймсе, но сомневался, чтобы учитель запомнил его. Посланец Герберта не имел ничего против того, чтобы прихватить еще одну особу. Разумеется, саксонская стража может и не впустить Тимофея на Авентин – на этот случай уговорились, что Аарон попросит Герберта, чтобы тот нашел папу и сказал ему о прибытии его любимца.
В закатный час въехали они на Авентинский холм. Саксонская стража неожиданно без всяких трудностей пропустила и Тимофея.
С них достаточно было, что оба юноши находятся при посланце от Герберта. У того, правда, были сомнения, не взгреют ли его, а то и накажут за то, что привел постороннего, но ручательство Аарона, что его товарищ любимец папы, как будто успокоило посланца, который относился к молоденькому монашку, вызванному самим учителем, с явным уважением.
Аарон тут же оказался под очарованием Авентина. Очаровало все. Во-первых, крутая скала, у самого подножия которой медленно, лениво струился желтый Тибр, как будто двумя руками охватывая остров, где некогда стоял храм Эскулапа, а теперь поспешно возводили церковь в честь одного из друзей императора, замученного за веру Христову в какой-то варварской стране на краю христианского мира, на берегах таинственного скифского моря. Со скалы простирался чудесный вид на весь Леополис, купающийся в лучах заходящего солнца. Пламенеющий свет уже падал на базилику святого Петра, волшебно преображая ее башенки в огненные столпы, окруженные светящимся заревом, словно магической, хрустальной сферой.
И чуть только край диска зашел за базилику, высекая из нее пуки золотых лучей, сразу же весь Авентин заперешептывался каскадом вечерних молебствий. Из приоткрытых дверей многочисленных, тесно сгрудившихся церквей била в неутомимом ритме спокойная, гладкая, твердая, прозрачно-звучная латынь и зыбился гортанными долготами текучий, часто обрываемый, напевный, дергающийся, то ликующий, то рыдающий греческий.
В шепоте тысячи уст слышал Аарон и уверенное стояние в верности, и тихий плач покаяния, и жалкую, страстную просьбу о даровании совершенства, а не о возвращении потерянных вещей.
Герберта они не застали у себя – им сказали, что его призвал святейший отец в церковь святой Сабины. Решили подождать. Тимофей увлек за собой Аарона к монастырю святых Алексия и Бонифация. Хотел вызвать Болеслава Ламберта. Аарон уже как-то познакомился, да еще при довольно необычных обстоятельствах, с этим коренастым светловолосым подростком, имя которого приводило его в отчаяние, так как оказалось, что вроде бы отличная память Аарона совсем уж не такая и отличная, если становилась беспомощной при одном звучании «Болеслав». Подросток этот мог выходить из монастыря в любую минуту, когда хотел, с такой же свободой, как Тимофей, когда хотел, мог входить в покои папы. Потому что это был второй, кроме Тимофея, любимец Григория Пятого. Второй товарищ его изгнания.








