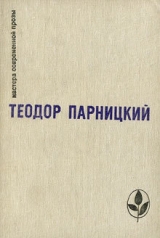
Текст книги "Серебряные орлы"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 34 страниц)
Больше всего удивляло Аарона то, что все больше попиралась память о Сильвестре-Герберте, в то время как с каждым днем с большим почитанием относились к памяти об Оттоне Третьем. В Кёльне при дворе архиепископа Гериберта, бывшего канцлера империи, кружили слухи, что Сильвестр Второй, тайно поддерживая клюнийцев, лукаво втерся в дружбу наместника Христова, Оттона Чудесного, только для того, чтобы подорвать святое императорское величество, подчинить его епископу римской столицы. Правда, сам Гериберт никогда дурным словом не поминал Сильвестра Второго – но именно он был главным зачинщиком с каждым днем все крепнущей веры, что человека и владыки, равного Оттону, провидение уже никогда не пошлет человеческому роду. Окружение Гериберта корило Сильвестра Второго за то, что тот мог уберечь, но не уберег Оттона Третьего, Чудо Мира, от измены, не спас от болезни.
– Да как же он мог, если даже врач не смог? – страстно восклицал Аарон в приступе отчаяния и почти ярости. – Зараза скосила императора, а никакая не измена. Перст божий поразил Оттона, а не человеческий.
– Мог, мог! Не мог не мочь, будучи самым мудрым из всех Мудрецов в мире, уж он-то лучше всех разбирался во врачевании, чем все врачи в мире. И вовсе не зараза скосила Оттона Третьего, а измена – кощунственная измена тех, кто не мог вынести великолепного сияния Оттонова величия! – столь же страстно, со слезами на глазах отвечала Рихеза, юная племянница Оттона, любимица Гериберта, почти ежедневная гостья в архиепископском замке.
Никто в обеих Лотарингиях не чтил память покойного императора с таким рвением, как Рихеза. Часами просиживала она на скамеечке у ног Гериберта, затаив дыхание, с пятнами на лице слушая рассказы о великолепии и могуществе Оттона – не уставая, не насыщаясь. Узнав, что Аарон находился подле священной особы императора почти весь период его скитаний до последней минуты, она и его донимала страстными расспросами, по многу раз заставляя передавать, как происходило бегство из Рима, пребывание в Равенне, заставляла рассказывать об изменах, заговорах, о перебежчиках, а прежде всего о разговоре Сильвестра Второго с Генрихом Баварским в Орвието.
– Лгал Генрих, лгал, клятвопреступничал, – восклицала она гневно, – это он, наверняка он ускорил кончину августейшего императора римлян! Он или те, что стояли за ним. А теперь он носит королевскую корону Оттона, клятвопреступник, отступник, изменник, убийца! Но мы его королем не считаем…
Аарон не разделял мнения Рихезы, что Генрих послужил причиной смерти Оттона: набожность тогдашнего баварского герцога, а ныне короля Германии и Италии – набожность неподдельная, пылкая, со строгим умерщвлением плоти – должна была, по мнению Аарона, рассеять все подозрения в участии в каком-либо преступлении, а уж тем более в святотатстве – в коварном цареубийстве и клятвопреступлении! Но несомненно, правду говорила она, когда восклицала: «Мы его королем не считаем!» Действительно, обе Лотарингии с первых же недель после смерти Оттона являлись очагом неустанных бунтов, теплицей неутомимых заговоров против Генриха Второго. Гериберт наотрез отказался короновать короля, и могущественные сторонники архиепископа закрыли перед Генрихом ворота Ахена, древней коронационной столицы. Впервые с незапамятных времен король германцев был вынужден совершить торжественную коронацию в Майнце. Правда, сила оружия, поддержка клюнийской конгрегации и привилегии в наследовании герцогских и графских званий через какое-то время подчинили Генриху сначала Нижнюю Лотарингию, а потом и Верхнюю, но смуты и заговоры не прекращались ни на миг. Каждый враг нового короля в Баварии, в Швабии, даже в Славянских землях был уверен в помощи из Кёльна, из Трира, из Ахена – вооруженной или денежной помощи или хотя бы поддержке мыслью и молитвой.
Аарона поражала радость, с которой и в замке родителей Рихезы, и при дворах архиепископов Кёльна и Трира встречали любую весть о неудачах Генриха в борьбе с Болеславом, князем польским. Ему трудно было поверить в правдивость рассказов о скорби, почти траурной, которая воцарилась в обеих Лотарннгиях при вести, что сторонники Генриха вытеснили Болеслава из чешских земель; просто горькими слезами гнева и отчаяния оплакивали в Трире и Кёльне весть об унижении польского князя, вынужденного заключить невыгодный для него мир с Генрихом, когда тот остановился с саксами в двух милях от столицы познаньского епископства. За годы пребывания в Риме Аарон привык считать всех германцев – саксов, баваров, тюрингов, франков, швабов и лотарингцев – единением, крепко связанным братством крови, гордости, языка и обычаев; единением, ненавистным римлянам и всем италийцам и ненавидящим славян: то и дело звучали у него в ушах отголоски гневных воплей Дадо о благородной германской крови, о позорной обиде, которую нанесли Оттон и Сильвестр Второй германской племенной чести, нарекая патрицием империи славянского варвара, отпрыска жалкого племени рабов! Тогда как Гериберт, Рихеза и многие лотарингские князья как будто ничего и знать не желали о германской племенной общности. Славянин Болеслав казался им ближе саксов, баваров и франков. Когда до Кёльна дошла весть о новом королевском походе против Болеслава – походе, который пока что приносил Генриху одни неудачи и унижения, – радость лотарингцев как будто не имела границ. Правда, аббаты монастырей, принадлежащих или тяготеющих к клюнийской конгрегации, призывали благословение божье на Генриха – поносили в проповедях Болеслава как тайного язычника или отступника, предающегося греческим обрядам и верованиям; архиепископ Гериберт вовсе не скрывал, что для всех духовных наследников Оттона дело Болеслава – это дело Оттона Чудесного! Дело Рима! Дело всемирной империи! Словам архиепископа вторили родичи Рихезы.
– Пока рука Петрова наместника, – восклицал ее отец Герренфрид, – не надела на действительно достойное чело диадему, символ священного владычного Рима, до тех нор заместителем императорского достоинства и первым воином империи остается патриций! Пе как польский князь борется он с Генрихом, а как носитель серебряных орлов, верный и бдительный страж блистательного наследия осиротевшего Рима…
Аарон не сразу смог понять, в чем состоит отступничество Генриха от Оттонова наследия. С гневным и презрительным огнем в синих глазах Рихеза объяснила ему, что, как все франки и саксы, новый король, говоря «Римская империя», имеет в виду владычество германцев. Оттон же Чудесный, как истинный римлянин, стремился собрать всех под сенью золотых орлиных крыл, все разноязыкие земные племена, чтобы ни одно не возносилось над другим, поскольку все они равно прах пред величием священного Рима, правящего миром.
– Известно ли тебе, отче Аарон, что Генрих пользуется не латинской печатью, а только германской? Не лучшее ли это доказательство отступничества от Оттонова наследия, что на печати этой стоят не великолепные слова «Renovatio Imperii»[Возрожденная империя (лат.).], а только «Возрожденное королевство франков»?!
Аарон ответил, что это вовсе его не удивляет. Пока Генрих не император, а всего лишь король, он не может ставить на своей печати слово «Империя». Но когда он отправится в Рим, когда наденет на себя священную диадему…
Тут гневно прервали Аарона и Гериберт, и Герренфрид, и Рихеза. Генрих – император?! Никогда! Диадема должна украсить лишь такое чело, под которым бьется кровь Оттонов, сочетающаяся с кровью греческих базилевсов.
– Но кто же тогда может стать императором? – удивленно воскликнул Аарон. – Разве что кто-нибудь из твоих братьев, Рихеза? Но ведь они еще совсем младенцы?..
Рихеза ничего не ответила. Промолчали и Гериберт с Герренфридом. Но как-то вечером племянница Оттона призвала Аарона в покои своей матери. Матильда сидела на высоком стуле, вышивая серебряных орлов на переливающейся синей ткани.
«Подарок Болеславу», – промелькнуло у Аарона.
И он не ошибся. Но не догадался, что сестра и племянница покойного императора обратятся к нему с просьбой, а скорее с поручением, чтобы он отвез этот подарок патрицию империи, именно он, Аарон.
– Но ведь там же война! – воскликнул он с удивлением и с тревогой. – Как же я проеду в Польшу?
Ему высокомерно ответили, что хорошо знают, какие далекие, трудные и опасные путешествия он уже совершил, и не сомневаются, что столь ученый, столь опытный, столь умудренный муж отлично справится с этим делом. Не скрывали, что если он откажется, то и они не будут больше оказывать ему гостеприимство – и не только они, но и архиепископ Гериберт, и монастыри, верные памяти Оттона Третьего. И добавили с ехидной усмешкой, что, разумеется, не станут изгонять его из Лотарингии, если он сумеет укрыться у клюнийцев, только сомневаются, что любимец Сильвестра Второго будет радушно принят в каком-либо монастыре, относящемся к клюнийской конгрегации.
– Скажешь Болеславу, могущественному патрицию, – сказала Рихеза таким тоном, как будто и речи нет о каком-то возражении со стороны Аарона, – что первородная племянница Оттона Третьего с тоскою ожидает минуты, когда в базилике святого Петра сочтется браком с Беспримом, первородным сыном Болеслава. Так что пусть не мешкает патриций с походом на Рим. Владычащий над миром город давно уже высматривает прилет серебряных орлов.
Аарон ответил, что не понимает, как может Болеслав отправиться в Рим, ведя тяжелую оборонительную войну с королем Генрихом на рубежах своих владений.
– Пусть победит Генриха, пусть подошлет к нему убийц, как Генрих подослал их к Оттону! Пусть пройдет триумфальным походом от Польши через Саксонию, Франконию и королевство Италии, попирая гордыню германских князей. Если не сможет этого сделать, скажи ему, что тогда недостойна его кровь соединиться с кровью Оттонов и базилевсов!
Аарон долго вглядывался в пылающее лицо Рихезы. Наконец перевел глаза на склонившуюся над вышивкой Матильду. Глядя на ее лицо, еще более вытянутое, еще более греческое, чем лицо Оттона – на гордые дуги бровей и красивые узкие губы, так живо напоминающие покойного брата, – он вспомнил сокрушение императора на исповеди, как он ошибся, не отдав Матильду Болеславу. Оттон мертв, но остается вечно живым стремление его родовой крови соединиться с кровью Болеславовой! Не Матильда, так ее первородная – не с Болеславом, то хотя бы с его первородным!
– Благороднейшая госпожа! – обратился он к сестре Оттона. – Просвети посланца, что же он должен сказать, если Болеслав спросит: кто приказывает мне идти на Рим? Ведь патриций выслушивает приказы единственно августейшего императора римлян, а сейчас императора нет. Велите мне сказать, что императорская диадема должна украсить чело одного из твоих несовершеннолетних сынов, благороднейшая госпожа? Неужели для того лишь должен пойти Болеслав на Рим, чтобы своим победным мечом проложить дорогу твоему сыну – дорогу, которую преградили ему враги От-тонова наследия? Но которому из твоих сынов, княгиня? Герману?
Матильда подняла от шитья большие черные глаза. Они смотрели на Аарона с удивлением и признанием.
– Именно так и скажи, – начала она, но не успела произнести ничего больше, так как Рихеза бурно прервала ее.
– Нет, вовсе не так должен ты сказать, отче Аарон, – воскликнула она властно, – вовсе не так! Ведь Германа его родители давно поклялись посвятить служению отцу небесному; если он и будет когда-нибудь владеть Римом, то как наместник Петра, а не как наместник Христа, не как Цезарь Август! Остальные же мои братья еще совсем младенцы! Так почему же их детская головка должна быть увенчана диадемой, а не головка младенца, который должен появиться на свет через год?! Младенца, который по праву, как ни один другой, будет достоин владеть разноязычной империей! Ведь в нем будет кровь целых трех народов: греческая, германская и славянская. Тройственность этой крови сплотит воедино великолепное величие римское!
– О каком младенце ты говоришь, благородная госпожа Рихеза?
– О моем сыне.
– Но ведь он еще не родился!
– Но я же тебе сказала, что он может родиться через год, а может, и раньше! Пусть только поторопится Болеслав со своим первородным в Рим. Каждую ночь, босиком, на битом камне стоя на коленях, я горячо молюсь Оттону Чудесному, который занял в небесах место подле Христа, чтобы он ниспослал благословение господне на лоно племянницы своей… И пусть отверзнет это лоно сын Болеслава, и ты увидишь, отче Аарон, как быстро родится наследник Оттонова величия…
– Кощунствуешь, благородная госпожа Рихеза, моля душу императора, столь же несовершенную, как и все людские души, – строго сказал Аарон.
– Это ты кощунствуешь, монах! Не было и не будет души, озаренной большей святостью, нежели душа Оттона Чудесного! Кому же мне еще молиться? Чья поддержка у Христа сильнее, нежели просьба самого великолепного из Христовых наместников? Это ты грешишь, ты! И Болеслав тоже грешит: кощунственным промедлением! Давно должен быть в Риме, давно я должна взойти на ложе с его сыном! Патриций еще молод, еще сорока пяти ему нет, может еще лет двадцать твердо править империей, пока не подрастет новый Цезарь Август, его внук!
Аарон с трудом верил своим ушам. Вновь отвел он удивленный взгляд от Рихезы, вновь обратил его к Матильде. Вновь пристал к ней с немым вопросом – нет, не с вопросом, а с требованием, чтобы сейчас же, немедленно ответила, порождены ли слова ее дочери ее мыслями?! Неужели сестра Оттона действительно предназначает диадему только внуку, младенцу славянской крови, а не одному из сыновей?!
Но Матильда молчала. Не подняла глаз от вышивки.
Нелегкой была ночь у Аарона после этого разговора. И впрямь, Гихеза исполнена не меньшим чувством причастности к Риму, чем ее покойный дядя; как и он, она стыдилась и отказывалась от своего германского духа. С тех пор как в восемь лет увидела она мощные, возведенные римлянами Черные ворота в Трире, не переставала говорить о себе: «Я наследница могущественных мужей, которые умели возводить такие сооружения». Познакомившись с Аароном, она сразу сказала ему, что если чародей Сильвестр не очутился среди демонов в адском пламени, то потому лишь, что грехи чернокнижия пересилила добродетель любви к Оттону: правда, любви несовершенной, поскольку учитель тайных наук не сумел или не захотел вырвать Оттона из когтей демонов болезни и смерти.
Рихеза играла на арфе и цитре, бегло говорила по латыни, легко цитировала Вергилия и даже Марциала, чем удивляла и огорчала Аарона, и тем не менее заявила, что ни один из поэтов древности не достоин мыть ноги тому великому творцу, который заслужил себе бессмертную славу скорбным стихом, воспевающим кончину Оттона Чудесного. С чувством декламировала она: «Quis dabit aquam capiti? quis sucurret pauperi? quis dabit fontes oculis?».[Кто подаст воду главе? Кто поможет бедняку? Кто принесет слезы глазам? (лат.)] И плакала, восклицая словами поэта: «Vivo Ottone Tertio salus fuit populo. Plangat ignitus Oriens, crudus ploret Occidens».[При жизни Оттона Третьего благо было народу. Да скорбит огненный Восток, да восплачется грубый Запад (лат.).] Аарону стих этот казался примитивным, бедным, хотя он и признавал, что бьет из него сила искреннего отчаяния и боли, особенно в дистихе: «Plangat mundus, plangat Roma – lugeat Ecclesia»[Да скорбит мир, да скорбит Рим, да печалуется церковь (лат.).], но какой дурной ритм, какое убожество слов, какая варварская невежественность в оборотах! И почти никакой напевности! Смеялся над неумелым автором, но в душе с грустью признавал, что его и на такой стих не хватило, чтобы почтить память Сильвестра Второго…
Более того, именно воспоминание о Сильвестре Втором приводило его в состояние печали, когда он, ворочаясь с боку на бок, целую ночь размышлял над разговором с Матильдой и Рихезой. Эти женщины как будто не понимают, что они насильно нахлобучивают императорскую диадему на голову славянскому варвару! Ведь Болеслав не дурак, чтобы двадцать лет править империей от имени внука и ни на минуту не подумать, что, пока тот подрастет, он и сам сможет сменить своих серебряных орлов на золотых! А именно этого не хотел Сильвестр Второй, – явно не хотел – в этом он, Аарон, уверен. Разумеется, обе женщины правы: Аарон, который пробрался во время войны в Кордову, проберется и в Польшу! Но неприятно туда ехать. Правда, он увидит там Тимофея, от которого вот уже столько лет нет никаких известий. Неожиданное воспоминание о Тимофее только еще больше испортило настроение. Ведь тускуланец тоже отправился в Польшу, чтобы привести Болеслава в Рим. Не привел. Так что и Аарон наверняка не приведет. И при этом он вовсе не хочет его приводить, тогда как Тимофей этого хотел. Правда, Сильвестр Второй не открыл любимцу тайну своей мысли о судьбах империи после смерти Оттона, но вовсе не хотел видеть диадему на голове Болеслава – наверняка не хотел. Варвар, кажется даже не умеющий читать, неспособный двух слов связать по-латыни, должен стать августейшим императором римлян, соправителем Петра, мудрость которого вытекает единственно из учености?! И он, Аарон, должен способствовать этому унижению двойной – императорской и Петровой – столицы? Нет, никогда! А тут сестра и племянница Оттона принуждают его, чтобы способствовал…
Рано утром его призвали к архиепископу Гериберту. Он уже не ломал голову зачем: Гериберт не только был единодушен с принцессами, но более того – о чем Аарон давно догадывался, – ряд лет руководил воспитанием Рихезы, внушая ей любовь ко всему римскому и почитанию Оттона. Следуя к покоям архиепископа, Аарон подумал, что, может быть, сам замысел послать его к Болеславу возник не в головке юной Рихезы, а в голове бывшего архилоготета, канцлера объединенной империи, ведь Гериберт отлично знал патриция: он же сопровождал Оттона в его походе в Гнезно, принимал участие в самых тайных переговорах между императором и Болеславом.
Так что отнюдь не удивился бездомный, осиротевший любимец Герберта-Сильвестра, когда кёльнский митрополит приветствовал его словами:
– Временно я не могу больше оказывать тебе гостеприимства, придется тебе поехать…
И удивился лишь тогда – и какое же это было радостное удивление, – когда Гериберт закончил словами:
– …в Кордову, откуда ты недавно прибыл.
Все расходы по далекому путешествию архиепископ брал на себя. Оказалось, что он уже снесся с тремя богатыми евреями: одному из них уступил мельницу на Рейне, другому – лесок и виноградник, третьему – большой выпас вместе со скотом и еще семь семей, приписанных к церкви святого Гереона.
– Я хотел бы, отче Аарон, чтобы ты привел мне из Испании таких же умельцев управлять виноградниками и ведать разными ремеслами, как Лиутериху в Сене. С тех пор как они у него появились, архиепископство стало впятеро богаче. Восемьдесят колонов переселил он с земли за городские стены; под управлением тех, которых ты выкупил, они творят истинные чудеса: столы, стулья, кровати, лампы, бокалы, блюда…
В заключение разговора Гериберт добавил:
– И скажи там, в Испании, отец Аарон, что, когда они прибудут сюда, ко мне, им будет лучше, чем у Лиутериха: ни голода не узнают, ни унижения…
Во время третьего пребывания в Кордове Аарон не старался возобновлять старые знакомства и дружеские связи. Уже не думал учиться у арабских мудрецов – избегал разговоров, которые вызывали у него сомнения и огорчения. Даже Ибн аль-Фаради посетил лишь дважды, да и эти два раза всего лишь на час. Но и такие короткие посещения не остались без последствий, особенно после второго визита к ученому арабу Аарон покидал его дом с сокрушенным сердцем, со смятенной головой.
– Помнишь, – обратился к нему Абдаллах Ибн аль-Фаради, – мы говорили с тобой о безграничности вселенной и о том, что наша земля – это всего лишь пылинка, находящаяся, как утверждают некоторые, на спине огромной рыбы, наткнутой на рог быка…
– Помню, – с тревогой прошептал Аарон.
– Так слушай, – таким же возбужденным шепотом сказал Ибн аль Фаради, – есть такое новое тайное учение, которое утверждает, что наша земля вовсе не плоская, как тарелка, а шар…
– Шар? – воскликнул Аарон и засмеялся. – Как же она держится на спине рыбы? Ведь она скатилась бы, стоит рыбьей спине дрогнуть, и все мы давно бы упали с земли…
– А ей вовсе не надо катиться, она может лишь слегка покачиваться…
Аарон долго не мог сдержать смех. Смеялся весело, издевательски. Земля – шар?! И ученые люди верят в такую чушь?!
– Я ведь не говорю, что и я верю, – шептал Ибн аль-Фаради, – я только говорю, что есть такие, которые верят… Да ведь за такую веру сажают в темницу и бьют. В прошлом месяце насмерть забили купца-морехода, который во дворе мечети вслух утверждал, что земля круглая. А хочешь знать, как он хотел доказать правоту своих слов? Он говорил, что хотя море совершенно гладкое, но когда с одного корабля видят вдалеке другой корабль, то сначала видны лишь верхушки мачт… А когда он подплывает к берегу, то сначала видны лишь макушки деревьев на берегу…
Аарон насторожился. Он припомнил, что, когда плыл из Англии с архиепископом Эльфриком и Этельнотом, его взор и мысль поразило то же самое: от берегов Нормандии плыл им навстречу другой парусный корабль, действительно, сначала вынырнула только верхушка мачты – удивленный Аарон спросил архиепископа Эльфрика, почему это так, если на воде нет никаких впадин и холмов. Архиепископ ответил, что демон морей, Нептун, непристойно играет с христианами, злобно обманывая взор различными чародействами.
Ночью после посещения Ибн аль-Фаради приснилась Аарону Феодора Стефания. Далеко перед собой выбросила она полные, белые руки, держа что-то в обоих кулаках. «Угадай, что у меня там?» – спросила она, улыбаясь Аарону приязненно, даже ласкательно. «Апельсины, – ответил он, указывая на ее правую руку. – А по кожице муравьи бегают. Я вижу, как они выползают у тебя между пальцами». Она рассмеялась: «Это не муравьи, это люди, целые толпы их, целые войска, спешащие в бой». – «Люди на апельсине?» – «Это не апельсин, это земной шар». – «А что в другой руке? Я помогу тебе: это что-то дороже всего шара и всех продвижений вооруженных полчищ по ее кожуре». Аарон улыбнулся. Ну конечно же, угадает: не зря он научился всему от папы Сильвестра. «Душа», – сказал он. Она взглянула на него с восхищением: «Угадал. А скажи: чья душа?» – «Оттона». Она вновь рассмеялась. «Тимофея?» Она засмеялась еще громче, еще веселее. «Моя?» – крикнул он в страхе и пробудился, весь обливаясь потом.
Он решил, что не пойдет больше к Ибн аль-Фаради. Как и в прошлый раз, бросился в водоворот хлопот, связанных с выкупом невольников. На сей раз дело шло не так-то легко. Мухтасиб, связанный с ним дружбой, исчез; новый не хотел даже разговаривать с неверным. Через евреев он передал Аарону, что постарается добиться указа выслать непрошеного пришельца за границы халифата. Уловил Аарон много и других перемен: проходя мимо мечетей, красота и великолепие которых часто привлекали к себе его взор, он иногда встречал кое-кого из своих былых знакомых, некогда любивших подтрунивать над своей верой и ее обрядами, теперь спешащих в торжественном облачении, с набожными лицами, чтобы принять участие в ежедневной или торжественной вечерней молитве. Аарон не мог ошибиться: они спешили в мечеть не для чтения лекций: до него дошли уже известия, что учителям даже грамматики, а не только логики и математики чуть ли не с каждой неделей все более строго запрещают публично учить чему-либо.
Одиночество давало Аарону все больше свободного времени, которое он посвящал не столько размышлениям, сколько знакомству с красотами страны и города. С помощью проводников он осмотрел все кварталы, все закоулки Кордовы, поражаясь великолепию и размерам столицы халифов. Не хотел верить, когда ему сказали, что пятьдесят тысяч человек размещены здесь в тринадцати тысячах домов, но не мог молча не признать, что Рим со всем его великолепием, если бы его какими-то чарами перенести сюда, рассматривался бы в лучшем случае не более как двадцать девятое предместье Кордовы, и при этом далеко не самое блистательное, не самое большое, а куда грязнее и беднее, чем все иные предместья. Он припомнил, что саксонская монахиня Гротсвита, ученая поэтесса и верная служанка Христова, как-то писала о Кордове и назвала ее «алмазом мира». Взор Аарона поражали формы и краски храмов и дворцов, буйство садов, богатство людных рынков, зеркальная вода в реках и жемчужная – в бесчисленных фонтанах… Портики ошеломляли красотой мрамора – бледно-розового, бледно-зеленого, голубого или черного. Вспомнились Аарону слова одного из живописцев, который к празднику Ромула разрисовывал ткань одеяний Оттона по описаниям в греческой книге, а живописец сказал: «Цвета – они как люди: бывают сильные и нежные». Пробегая но улицам Кордовы или по ее окрестностям, Аарон не раз думал, что предвечная мудрость в Испании изволила нарисовать ту же картину, что и в Италии, только здесь прибегла к более сильным краскам, а там взяла понежнее. Действительно, небо над Испанией более голубое, чем над Римом, Арецией или Равенной; здесь более сильная зелень оливковых рощ, виноградников и лугов; ярче желтизна и оранжевость благородных плодов; резче розоватость и белизна цветка; сильнее блеск воды, чернота глаз и волос, матовость лиц, серость теней, зеленоватая золотистость луны, серебристость звезд, рыжая огненность солнца. Но не только краски и блики здесь сильнее, чем в Италии: звуки и запахи тоже. Аарон даже страдал оттого, что столько великолепия и красоты дано в удел неверным богохульникам, но успокаивала мысль, что, поскольку, по словам Сильвестра Второго, за все надо платить, христиане должны взамен за дар истинной веры и милость крещения и спасения платить отказом от всех этих дивных сокровищ природы и искусства. И чувствовал, что после третьего пребывания здесь будет куда с более стесненным сердцем покидать этот край, чем в прошлые разы. Появилось желание остаться здесь навсегда: сначала он гнал от себя эти мысли с возмущением и ужасом, потом все с большим трудом, все слабее. «Что меня там ждет? – думал он грустно. – Бесконечные скитания от монастыря к монастырю, от одного герцога к другому, хлеб из милости, какой же порой горький хлеб герцогов, епископов, аббатов, все неприязненней косящихся на приблудного монаха, который был некогда любимцем Сильвестра-Герберта, учителя, постигшего тайные науки».
Желание перешло в решение, и случилось это после того, как однажды он принял двух посетителей. Утром он беседовал с евнухом, некогда бывшим управляющим владельца сорока двух кораблей, а с недавнего времени обедневшим, ставшим почти нищим. Аарон горячо уговаривал его покинуть халифат, обещал в соответствии с поручением Гериберта дать в управление большую речную пристань на Рейне.
– Евреи привезли мне известие от брата, которого ты выкупил, – презрительно усмехнулся евнух, – он умоляет меня, чтобы я не давал себя уговорить, потому что попаду в такую же страшную неволю, как и он.
– Волю я тебе несу, а не неволю! – крикнул возмущенный Аарон.
Евнух долго и внимательно всматривался в него.
– Я ведь разбираюсь не только в кораблях, но и в душах людских, – ответил он медленно, отчеканивая каждое слово. – Мне рассказывали много и о тебе. Не ошибусь, если скажу, что ни тебе, ни тому, кто тебя послал сюда, а ныне уже покойному, не дано было знать, что вы нам несете.
Вечером навестил Аарона старый пресвитер, доверенное лицо христианского епископа Кордовы. Долго рассказывал об унижениях, которые испытывают слуги Христовы под властью Полумесяца, об огромных налогах, которые они платят, отрывая от рта почти каждую ложку, о тяжкой, почти тюремной жизни за степами церквей, истинных домов для прокаженных. Весь его рассказ можно было свести к одной фразе: «Край этот полон чудес природы, искусств и мудрости – но чудеса эти не для нас: у нас здесь одна обязанность нести нужду, а право мы имеем лишь на слезы». Закончил он свой рассказ неожиданными словами, сквозь которые действительно пробились слезы:
– Останься с нами, брат. Тот, кто прислал меня, много знает о тебе и о том, кто тебя прислал и кого уже нет в живых. Ты будешь светильником, озаряющим сумрак дома прокаженных, который всегда был также домом правды и спасения.
И Аарон почувствовал слезы в глазах и в горле. И решил: «Останусь».
Но на другой день у него был другой гость. И разговор с ним не мог не поколебать его решения.
Необычный был этот гость. На нем был короткий, обтягивающий костюм воина, на плечи накинута переливающаяся ткань, спадающая в виде узкой епанчи с наплечников серебристой кольчуги до самых серебряных шпор, украшающих узконосые башмаки. Рубины и аметисты вспыхивали на золотой рукояти кривого короткого меча, заткнутого за цветной пояс. Лицом он показался Аарону похожим на Болеслава Ламберта – светло-серые глаза и золотистые брови странно выделялись на коричневом от загара лице. Из-под украшенного аметистовым полумесяцем тюрбана ярко-пурпурного цвета виднелись золотистые волосы. В такой же ярко-пурпурный цвет была выкрашена широкая, длинная, до самой груди борода.
– Меня зовут Кхайран, – сказал пришелец.
Аарон вздрогнул.
Ему хорошо было известно имя предводителя наемных дружин, который вот уже десятилетия сеял ужас среди христианских врагов халифата, последние несколько лет был пугалом для самих же арабов, которым служил. Ведь как раз накануне христианский пресвитер рассказал Аарону, что воины Кхайрана совсем недавно убили знатного вельможу Вадхиба. А как-то Аарон слышал жуткий рассказ о жестоком убийстве, имевшем место два года назад, об убийстве халифа Мохаммеда аль-Махди, того самого, который приказал в свое время распять обезглавленное тело Абд ар-Рахма-на Санчола. И вот именно Кхайран, тот самый Кхайран вот этой самой рукой, которая касается теперь приветственно лба и рта, может быть, вот этим самым кривым мечом, заткнутым за цветной пояс, лично убивал халифа Махди вместе с другим предводителем наемников, Анбаром. «Что же нужно от меня этому кровавому, жестокому убийце?» – с замиранием сердца спрашивал себя Аарон, не в силах оторвать тревожный взгляд от необычного пурпура бороды, над которой толстые, вовсе не арабские губы складывались в мягкую, почти дружелюбную улыбку.
Кхайран продолжал:
– Меня не всегда так звали. Но я забыл, как звала меня мать, когда мне торжественно подстригли в детстве волосы. Может, звала Мстивой, может, Собебор, может быть, Болеслав, а может, Владимир.
Говорил он по-гречески медленно, с явным усилием, то и дело вставляя арабские слова. Рассказал, что спустя несколько лет после того, как подстригли, его продали кому-то в Перемышль, потом кому-то еще в Киеве и еще кому-то в Херсоне. Много лет он греб веслом, прикованный к греческой галере, потом к египетской, потом на одном из кораблей какого-то купца из Мурсии. Был он сильный, проявил во время морского сражения отвагу и ловкость – и его продали как воина. Долго он воевал, преимущественно против христианских князей Кастилии; бывал бит палками десятников; потом сам стал бить – как десятник; потом стал сотником; потом командовал целым конным отрядом; потом пятью, десятью отрядами; а ныне предводительствует огромным, многотысячным войском.








