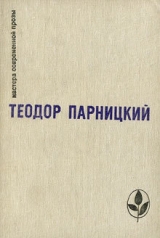
Текст книги "Серебряные орлы"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц)
Но спокойствие Тимофея было недолгим. Опять как-то ночью его стала донимать мысль, что коли она так могущественна, она, источник чудесной силы, то чем же он заслужил, что она сочла его достойным, чтобы отдать ему себя? Чем он отблагодарит ее за силу, которую черпает из нее и благодаря ей? И хотя до утра он не сомкнул глаз, не нашел более драгоценного дара, чем кинуть к ее ногам всех демонов таинственных славянских пределов. И заснул осчастливленный тем, что хорошо придумал, хорошо нашел, но, когда проснулся, вновь заскорбил: вспомнил вдруг, что читал в библиотеке монастыря святого Павла, что без помазания борьба с демонами неимоверно трудна, почти безнадежна. Это верно, в нем есть сила, исходящая от Феодоры Стефании, по раз уж он хочет принести ей дар, то не пристало просить ее о помощи – остается стать помазанником, королем или священником! И стал даже раздумывать, как бы добиться помазания: королевства добиться трудно; разумеется, мощи, которая притекает к нему от Феодоры Стефании, хватило бы наверняка, чтобы разжиться королевством – но ведь еще подумает, что он вновь делит свои мечты между нею и богатством и почестями, не поймет, что это ради нее, – и вновь отымет свою силу, и вновь его постигнет то же, что с виноградниками. Священство? Что же, учености он уже поднабрался изрядно, поученее иного епископа. Как-то он даже спросил Болеслава Ламберта: «Если бы я приехал в твое королевство с Феодорой Стефанией, поставил бы ты меня епископом?» Но Болеслав Ламберт уже давно пребывал в монастыре святых Алексия и Бонифация и не своими глазами, а глазами настоятеля Льва смотрел на законы церкви. «Нет, – сказал он с улыбкой, – люблю тебя, брат, но женатых епископов в своем краю иметь не хочу».
«Видал, какой падкий на новшества сделался», – жаловался Тимофей Аарону. Жаловался по привычке и невольно, так как должен был знать, что в монастыре святого Павла на браки священников смотрят еще строже, чем на Авентине: там утверждают, что не только на епископство, но и на простое священство не достойно помазать Женатого. А ведь, казалось бы, именно на понимание Аарона он мог рассчитывать больше всего: ведь его друг с детства привык в своей Британии видеть епископов и женатых, и наделенных многочисленным потомством.
Аарон припомнил это в роще Трех источников на другой день после ночного судилища над Иоанном Филагатом. Он сказал другу, что Герберт самый умный и самый ученый человек, так что он спросит Герберта, действительно ли прав Болеслав Ламберт, заявляя, что не потерпит в своем княжестве женатых епископов.
Но Тимофей махнул рукой. Он уже не думает о помазании, лишь бы Болеслав Ламберт вернул себе княжество – он поедет туда к нему, тут же поедет, пусть даже там делать нечего, разве что надзирать за княжескими пастухами! И стал живописать, как он убежит: Аарон вновь видел перед собой былого Тимофея – смелого, с легкостью кидающегося в самые, казалось бы, опасные предприятия, но вместе с тем рассудительного, спокойно и трезво взвешивающего каждый шаг, заранее прикидывающего чего он добьется, если поступит так, а чего – если этак… Тимофей в мельчайших подробностях знал дорогу к владениям Болеслава Ламберта – владениям, которые зовутся польскими землями: знал, сколько дней нужно ехать конно, а сколько – тащиться на волах; знал, какие земли придется пересекать, какие реки и какие города миновать; какие по дороге могут быть опасности. Рассказывал он долго и обстоятельно. Чем подробнее рассказывал, тем яснее становилось Аарону, что его друг замышляет дерзкое похищение Феодоры Стефании у Оттона. Это было ясно, хотя имя ее в рассказе о путешествии ни разу не сорвалось с губ Тимофея. Аарон был просто восхищен другом, но где-то подкрадывался страх за него. Столкнуться с самим императором! Аарон даже глаза закрыл и представил себе красивое, милое ему лицо Тимофея в тот момент, когда над ним нависнут императорские палачи; раскаленными прутьями будут выжигать глаза, клещами выдирать язык и нос, разбивать челюсть тяжелыми молотами! Дрожащим голосом признался он, о чем подумал. И, не видя в глазах друга ни испуга, ни тревоги, даже разозлился: да, он, Аарон, все знает, обо всем догадывается, ведь Тимофей рискует здоровьем, а может, даже и жизнью. Хорошо, пусть будет так, если он хочет… Хочет, безумец, попытаться похитить Феодору Стефанию. Хорошо, пусть попробует, если хочет. Но откуда известно, что она захочет его сопровождать? Захочет подвергнуть себя угрозе ужасной мести императора… да что там, откуда известно, что она вообще хочет, чтобы ее похитили у Оттона? А может быть, ей как раз хорошо при императоре? Об этом Тимофей задумался хоть на минуту?
Тимофей остолбенел. Он никогда не видел Аарона в такой ярости. Его даже ошеломил последний вопрос. Хочет ли она? Долгое время он молчал словно громом пораженный, но быстро оправился и взорвался в свою очередь. Хочет ли она? Аарон законченный глупец, если думает, что он первый задался таким вопросом. Ведь Тимофей рассказывал ему, что об этом же самом, буквально об этом самом спросил он маркграфа Экгардта: хочет ли Феодора Стефания быть с Оттоном? Ведь он же повторил, в точности повторил Аарону ответ Экгардта: да он ей голову открутит, если она посмеет не захотеть! Стало быть, ясно, что она не хочет быть с Оттоном – только боится за свою голову… за голову, которую вместе со всем остальным хочет сохранить для него, для Тимофея… А он, Аарон, такой умный, такой ученый, а этого не поймет! Аарон повесил голову. «Смутился», – подумал со внезапной растроганностью Тимофей. И не мог понять, что Аарон поник, чтобы скрыть от друга тяжкий вздох, который вырвался у него из груди. Не осмелился он поделиться с другом словами, которые услышал от Герберта в ответ на свой неожиданный, дерзкий, как ему самому показалось, вопрос: что учитель императора думает о несправедливости, которую совершил император, отобрав у Тимофея женщину, которую папа торжественно обещал верному слуге, получив вдобавок от императора подтверждение этого обещания?
Вопрос этот он задал Герберту, уже прощаясь. Он провел у него весь остаток ночи. И уходил от него очарованный и счастливый. Прежде всего оказалось вопреки ожиданиям, что Герберт отлично помнит Аарона по школе в Реймсе. Сразу же сказал, на какой скамье он сидел и с кем рядом. Похвалил его тогдашние отличные успехи в грамматике, риторике и диалектике; напомнил о пробелах в логике, о неладах с геометрией; посокрушался над его неспособностью к астрономии. Восхищался вынесенной из гластонберийской школы манерой чтения гекзаметров, но при этом упрекнул присущую всем британским монастырским школам недооценку римских комедиографов и сатириков; предостерег против опасности увлечения английской прозой короля Альфреда: что уже весьма пагубно отразилось на чистоте письменных сочинений Аарона по-латыни.
В какой-то момент Герберт извлек из-под груды манускриптов три таблички и две из них протянул Аарону – одну чистую, другую с греческим письмом. Попросил его сесть и перевести на латынь. Сам тем временем погрузился в чтение одного из многочисленных манускриптов, которые, хотя их было множество, сложены были в чрезвычайном порядке.
Греческий текст не показался Аарону трудным. Только в одной фразе он не сразу смог справиться с синтаксисом, пришлось сосредоточиться. Он уже был близок к цели, по тут Герберт вдруг прервал его неожиданным вопросом:
– Тебя призывали к Иоанну Филагату, так ведь?
Казалось, карие глаза, оттененные красивыми бровями, насквозь видят Аарона, проникают в душу его.
Аарон покраснел. II понял: Герберт хорошо видит, что он краснеет, – и покраснел еще пуще.
Поэтому встревожился. Поди знай, что там недоброжелатели и завистники наговорили о его пребывании у незаконного папы?
Как-то пришли за ним двое в монастырь святого Павла и грозно потребовали прибывшего из Британии Аарона. Потребовали у приора, чтобы тот вызвал его из библиотеки. Он вышел, бледный и встревоженный, и они велели ему идти с ними. На вопрос приора, когда ему ожидать возвращения молодого послушника, те ответили со зловещей ухмылкой: «Может, и никогда». Аарон вернулся часа через два. И после имел долгий разговор с приором. На расспросы отцов и братьев не отвечал. Те долгие недели не оставляли его в покое. То и дело перешептывались за его спиной. Некоторые стали его избегать, большинство, однако, дарило его куда большей приязнью, чем раньше, угождали ему. Но когда Григорий Пятый вернулся в Рим, в их отношении появилась враждебность, особенно старались те, что больше всех угождали. А один из монахов, тот самый, который в день бунта вытряхивал капюшон с припасами, припрятанными Аароном для скрывающегося Григория Пятого, громко крикнул как-то за вечерей: «Среди нас есть предатель, наймит симонита».
– Напрасно краснеешь, – сказал с сердечностью в голосе Герберт. – Я все знаю. Знаю, что ты сказал Филагату, что не умеешь читать и писать по-гречески.
У Аарона на глазах выступили слезы. То ли слезы облегчения, то ли растроганности и благодарности? Сбылось то, что сказал, целуя его, приор: «Церковь оценит твою верность, сын мой».
– Ты, наверное, думаешь, что я узнал от твоего приора? Нет, не от него.
Аарон вздрогнул. И опасливо посмотрел на Герберта.
– Я знаю от самого Филагата. Знаю, что он соблазнял тебя приятными поездками и Константинополь. Обещал тебе славу и почести. Льстил тебе. Когда же ты упирался, что ни на что не способен, что не знаешь греческого, он стал грозить тебе божьей карой, крича, что лишь он одни – он, Иоанн Шестнадцатый, – есть законный папа. Я знаю, что у двери стояли двое с палками…
Он умолк. Пытливо поглядел на Аарона. Старался проникнуть взглядом, почему именно он, Аарон, такой слабый, такой пугливый, сохранил верность в годину испытаний? Но и сам Аарон не знал хорошенько почему. Неужели им руководила глубокая, жаркая, способная на жертвы вера, что вот перед ним сидит симонит, купивший свой сан, а истинный папа – это тот босой изгнанник из рощи Трех источников? Неужели мечтал о том, что того изгнанника, когда он вернется во всей мощи и славе, поразит и растрогает рассказ о верности юнца, с которым он столь презрительно обошелся, слушая, как тот читает наизусть Овидия? Возможно, он хотел только одного – быть достойным дружбы с Тимофеем? И еще один вопрос терзал его: понимал ли он, столь твердо отвергая соблазны Филагата, что означают эти две недвижные фигуры у двери?
– Приор тоже рассказывал о тебе. Не мне, а святейшему отцу. Ты отличился, сохранил верность. Но я не для того тебя вызвал, чтобы осыпать похвалами. Припомни, прошу тебя, не заметил ли ты, входя к Филагату или выходя от него, какие-ни-будь знакомые лица?
Аарон заколебался. Мягкие, благожелательные карие глаза тут же преобразились – стали холодными, чужими, строгими, почти безжалостными.
– Видел… или вроде бы видел… так мне показалось…
– Что тебе показалось? Кого ты видел?
– Показалось, что я видел, будто к нему ввели славянского княжича Болеслава Ламберта, – с трудом выдавил Аарон.
– Какая же это новость! – весело воскликнул Герберт. – Я уже четыре раза с ним разговаривал… Лучше, чем он сам, знаю, чего Филагат от него хотел… Только послушай, ты не должен говорить «славянский княжич». Разве, говоря об Экгардте, Куно или Германе, ты каждого из них называешь германским князем? Нет же. Об одном говоришь: саксонский князь, о другом – франкский, о третьем – швабский… А славяне, как и германцы, делятся на множество племен и княжеств. О Болеславе Ламберте ты должен говорить «польский княжич». Слышишь, польский! Запомни это. А кроме него, больше ты никого из знакомых тебе людей там не видел?
– Нет, никого.
– А почему ты побледнел?
Аарон действительно побледнел. Не успели губы его произнести слово «никого», а из памяти ужо всплыл новый образ. Образ забытый, задвинутый куда-то в закоулки памяти, несущественный, незначительный – образ, который до той самой ночи ничего ему не говорил: образ молодой женщины, которая ждала за дверью, когда Аарона выведут. Ждала она с явным нетерпением – топала ногой, и даже еще в ту минуту, когда дверь открылась и двое с палками выталкивали Аарона за порог. Он не знал ее – но присмотрелся к ней внимательно, пусть и поспешно, поскольку в нем не было места ни для чего больше, кроме радости, что разговор с Филагатом уже позади. Но теперь-то знает, хорошо знает, кто она была, хотя еще не осознал это в тот миг, когда говорил Герберту: «Нет, никого!» Неужели именно это неожиданное открытие, что он знает, наверняка знает, хорошо знает, заставило его побледнеть?
– Видал Феодору Стефанию, – сказал он отчетливо, спокойно, твердо.
Герберт удивился. Аарон знает Феодору Стефанию? Откуда он ее знает? Аарон вновь зарделся. Неужели придется сказать, что знает ее с той минуты, когда Тимофей в церкви святой Сабины указал полным изумления и отчаяния возгласом на сидящую у ног Оттона женщину? Нет, не скажет. Он боялся признаться, что был свидетелем суда над Иоанном Филагатом. Солгал. Объяснил, что она бывала на богослужениях в соборе святого Павла и кто-то из братьев указал на нее.
На сей раз Герберт не обратил внимания, что Аарон краснеет, – настолько поразило его то, что сказал Аарон.
– Ты уверен, что это была она? – спросил он несколько раз со все нарастающим возбуждением. – Тебе не привиделось?
Аарон упорно стоял на своем. Это наверняка была она. Уверенность его возрастала с каждой минутой. Нет, он не ошибается, не мог ошибиться.
– Завтра ты придешь ко мне снова, и я покажу тебе вблизи, при дневном свете, Феодору Стефанию. Советую хорошенько приглядеться и взвесить свой ответ. Ибо то, что ты говоришь, опровергает ее слова или слова кого-то гораздо… – Он осекся. – Ты знаешь Кресценция? – спросил он.
– Да. – Аарон видел его несколько раз. И узнал бы всегда и везде.
– Его не было где-нибудь поблизости от Феодоры Стефании?
– Нет, наверняка не было. Она была одна, когда, топая ногой, нетерпеливо ожидала возможности войти к Филагату. Наверняка одна. И наверняка это была она.
– Хорошо, заканчивай свой перевод.
Но не успел Аарон написать и трех слов, как голос Герберта вновь оторвал его от греческого текста.
– А ты присмотрелся тогда к ее лицу? Говоришь, она нетерпеливо топала ногой. А можешь сказать, радостное было ее нетерпение? Или тревожное?
Аарон не смог ответить на этот вопрос. Нет, он не помнит. Похоже, что так топать можно, лишь ожидая какой-то неприятности.
– Ты неправ, – задумчиво покачал головой Герберт. – В ожидании неприятности мечтают, как бы ее отвратить. Гневно топают ногой, только сожалея, что теряется столько времени, когда приходят с важными и срочными новостями.
Впервые Аарон в душе не согласился с Гербертом: сколько раз в его жизни должно было произойти что-нибудь неприятное, по пи-когда он не мечтал отвратить это. Наоборот, призывал – пусть произойдет поскорее, лишь бы миновало, чтобы больше об этом не думать…
Герберт больше не расспрашивал его о Феодоре Стефании. Но это не значило, что Аарон мог полностью сосредоточиться на греческом тексте. То и дело отрывали его, задавая вопросы, и все время разные. Аарон уже было подумал, что Герберт просто забавляется, чтобы прогнать сонливость, которая явно одолевала его. Он расспрашивал о разных мелочах, об отдаленных вещах, не имеющих никакой связи с Филагатом, или Григорием Пятым, или самим Аароном. Попросил дважды повторить вопрос Филагата, касающийся пребывания в Англии норвежского короля Олафа. И даже записал его.
– Слушай внимательно, – сказал он, – так ли я записал, как ты сказал. «Иоанн Филагат спросил меня, был ли я в Лондоне, когда там находился король Олаф. Я сказал, что да. Тогда он спросил, слышал ли я, как король Олаф похвалялся, будто его связывает с князем земель, называемых Русь, такая дружба, что если он начнет с кем войну, то князь тот его всегда поддержит. Я сказал, что такого не слышал ни прямо, ни в передаче других. Воистину не слышал».
– Да, записано так, как я сказал, – подтвердил Аарон.
Поразительно, зачем Герберт это записывает? Какое ему дело до дружбы короля столь далекой Норвегии с владыкой столь же далекой Руси? Правда, он так же удивлялся, когда Иоанн Филагат задал ему этот вопрос, не имеющий связи ни с чем.
Наконец Герберт оставил его в покое, и Аарон смог закончить перевод. Когда дрожащей рукой он передал Герберту обе таблички, то увидел, что тот тянется за третьей, отложенной в сторону. Карие глаза сосредоточенно вглядывались в переведенный Аароном текст, то и дело перебегая на третью, отдельно лежащую табличку.
У Аарона сердце замерло, когда Герберт перевел взгляд с табличек на его лицо, на монашеское одеяние, на его маленькие руки. В висках шумело, лоб пылал. Но недолго. Слова Герберта опали блаженно холодящим, успокаивающим венцом на лоб и на виски.
– Хорошо перевел, точно и красиво. Даже лучше, чем тот, с чьим переводом я сравнивал твой…
Герберт встал. Подошел к Аарону. Положил на его дрожащее плечо дружескую руку. И сказал, что рад, ибо нашел среди своих бывших учеников человека, знающего греческий. Правда, он недолго учил Аарона, не успел его как следует узнать, как, например, Рихера, Ингона или Фульбера. Но считает, что не совершит ошибки, не пожалеет о своем шаге, не обманется в Аароне. И хочет отныне пользоваться его постоянной помощью, он будет поручать Аарону нужные переводы с греческого, будет брать с собой всюду, где при переговорах необходим переводчик с греческого. Даже при самых доверительных переговорах. Он доверяет ему, поскольку получил доказательства, что верить ему можно.
Аарон позволил себе робко спросить, почему Герберт, величайший мудрец среди живущих, несравненный знаток стольких наук, не овладел великолепным языком греков. Неужели не захотел? В последнем вопросе содержалась, конечно же, сознательная лесть, и Аарон искренне удивился, когда Герберт утвердительно кивнул головой и сказал:
– Да, не хотел.
Вот оно как, хоть он и весьма ценит мудрость и ученость греческого Востока, но не может он, дитя Аквитании, не любить превыше всего, всем сердцем своим, всеми силами души своей латинского, римского Запада и всего того, что этот Запад высек из римской мысли, из латинской речи. Всю жизнь неутомимо трудился он, чтобы доказать кичливым грекам, что нет такой науки и искусства, в которые бы не проникла римская мысль, нет таких истин, которые не выразил бы латинский язык. И вот на пороге старости убедился, что совершил ошибку, ему необходим греческий язык: правда, не столько для того, чтобы глубже вникать в науки и искусства, сколько для иных, довольно далеких от пауки дел. Каких дел – об этом Аарон скоро узнает. Слишком стар уже Герберт, чтобы изучить новый и трудный язык, и слишком мало свободного времени. Так пусть же Аарон будет его ухом, оком и языком.
В страстной четверг в ознаменование тайной вечери он представит Аарона императору, попросит быть благосклонным к его помощнику и поверенному.
– А ты знаешь, Аарон, с чьим переводом я сравнивал твой? С переводом государя нашего, Оттона. Только пусть не вскружат тебе голову, сынок, мои слова, что твой перевод лучше. Пусть не вводят в гордыню. Наш государь даже если бы не только по-гречески, но и по-латыни не смог написать ни слова – все равно был бы императором. Ты же, хоть овладей всеми языками мира, императором никогда не будешь. Даже тенью тени императорского величества. Для него это еще одно украшение, маленький камешек в диадеме – для тебя же воздух, без которого ты не смог бы жить. А почему ты опять так побледнел?
И действительно Аарон вновь побледнел. Неспокойно, бурно, болезненно переживал он заново весь суд на Иоанном Филагатом. Нет, у него бы язык навеки прилип к гортани, если бы пришлось обрекать на смерть или мучения кого-нибудь из этих седобородых старцев, которые в пустынных обителях над реками и озерами Ирландии приобщали его к тайнам греческого письма и речи. А его ровесник – который благодаря кому? именно благодаря Филагату обрел познание, недоступное мудрецу из мудрецов, Герберту, – зевая, выносит приговор тому, кому обязан этим дивным познанием! Зевая и торопясь закончить судилище, потому что женщина, припавшая к его ноге, дерзко, бездумно сказала: «Я спать хочу».
И его охватила волна неподдельной ненависти к Оттону. Охватила бурная жалость и обида за Тимофея, за себя, за покойную Феофано. Бледность его – это бледность редкого прилива смелости, даже дерзости. Вот так же он бледнел, когда в ответ на все соблазны и угрозы Филагата упрямо твердил: «Я не знаю греческого».
– А справедливо ли поступил твой ученик, владыка всего мира, вечный император, забрав женщину, предназначенную другому? – выпалил он одним духом, до боли сжимая зубы, чтобы не залязгали от страха.
Ему было страшно. Страшно, что вот по своей воле лишится милости Герберта, которая так неожиданно и чудесно снизошла к нему. И действительно чуть не лишился. Не узнал и спустя годы, как близок был к немилости. Правда, по совсем другим причинам, нежели полагал. Герберта удивил его пылкий возглас, по не разгневал. Разве что быстрее, чем перед этим, застучал он кончиками пальцев по столу, спокойно расспрашивая Аарона, что ему известно о Феодоре Стефании. Больше всего его, кажется, затронули слова о дружбе Аарона и Тимофея. О Тимофее он расспрашивал очень подробно и долго. И наконец сказал Аарону, что он может идти, повторив при этом, чтобы явился завтра. Повторил свое обещание представить его императору в страстной четверг.
Когда Аарон был уже у двери, Герберт неожиданно вновь остановил его.
– Святой дух одарил тебя познаниями и умудренностью больше, чем многих других, – сказал он спокойно, тихо, но вместе с тем отчетливо и почти сурово. – А кому много дано, с того много и спросится. Вот ты столько рассказал о Тимофее и Феодоре Стефании, но ни на миг в твоей голове не возник вопрос: я знаю, что Тимофей хочет Феодору Стефанию, но кого хочет она? Тимофея или Оттона? Может быть, как раз она не хочет Тимофея…
Аарон остолбенел. Даже рот раскрыл. Прирос к полу. И молчал. Наконец с трудом выдавил, что папа и император пообещали Тимофею отдать Феодору Стефанию в законные жены, как только она овдовеет. Он не понимает, о чем говорит Герберт. Решает здесь сам император.
– Как ты это понимаешь?
– Понимаю я так, что если он отдает кому-то женщину в жены, то никогда ее и не спрашивает, хочет она того или не хочет. Разве же это не стародавний, скрепленный благословением духа святого обычай?
– Стародавний обычай? Так ты говоришь, ученый юноша? И еще говоришь о господнем благословении?! Значит, выбирать всегда должен только мужчина, а не женщина?! Глупец ты со всем твоим греческим, вот что я тебе скажу. Басни о Елене и Александре по ночам читал, а в святого Иоанна Златоуста не заглядывал, так ведь? Даже не знаешь, что этот святой мудрец писал о едином праве для мужей и жен, для возлюбленного и возлюбленной? Тебя послушать, так господь бог не дал женщине бессмертной души, искры огня своего? И только мужчин одних спасла мука Христова? Глупец, стократ глупец. Ступай давай, ступай. Видеть тебя не хочу. Такой же темный, как все.
Но когда Аарон, ошеломленный, потрясенный, несчастный, был уже за порогом, до него долетели слова:
– А завтра приходи!
Нет, Аарон не повторит Тимофею слов Герберта. И вот еще не высохли слезы на щеках друга, которому придали бодрости слова Экгардта: «А не будет хотеть, так голову ей свернет!» Но Тимофей уже заметил его задумчивость, замешательство, его вздох. Как он смотрит на него с тревогой. Неужто Аарон не разделяет его веры в то, что все кончится хорошо? Неужто думает, что Феодора Стефания не захочет бежать с ним от Оттона далеко, в наследное княжество Болеслава Ламберта? Наверняка захочет, наверняка убегут… Одно только тревожит Тимофея: ведь Экгардт говорил, будто славяне считают, что сами у себя правят, а, по сути, правят там саксы… Так что, если Оттон прикажет Экгардту, чтобы славяне выдали Феодору Стефанию и Тимофея… тогда… Ах, какие дурни неотесанные эти славяне! Почему никто их не вразумит, что они на палочке скачут, думая, будто это конь? И почему никто им не поможет пересесть с палочки на коня? Но ведь Болеслав Ламберт, преданный друг, найдет в своем обширном лесном княжестве такой угол, где беглецов не сыщут даже саксы…
Упоминание о Болеславе Ламберте как преданном друге рассердило Аарона. Его подхватила волна ревности. И он оказал раздраженным, даже злым голосом:
– Да, по сперва пусть Болеслав Ламберт вернет себе свое польское княжество. Легко это не удастся.
Тимофей вздохнул, но тут же улыбнулся. Конечно, не легко, но куда легче, чем думает Аарон.
– Почему это? Все говорят, что Болеслав Первородный, который изгнал братьев и мачеху, сильный воин и полководец. А раз уж его поддерживает Экгардт…
– Есть люди и посильнее Болеслава и Экгардта, хоть они и не воины, и не полководцы.
– Кто же это?
– Твой учитель Герберт.
Аарон пожал плечами. Что может связывать Герберта с далеким славянским княжеством, где, кажется, нет ни одной школы? Его уже стало раздражать, что Тимофей не может ни на что и ни на кого смотреть, все у него связано только с Феодорой Стефанией и Болеславом Ламбертом.
Резко, почти недоброжелательно зазвучал его голос, когда он спросил, почему же это, по мнению Тимофея, Герберт должен поддерживать Болеслава Ламберта против Болеслава Первородного? Скорее наоборот, Аарону не раз доводилось слышать о восхищении, которое и государь, и его любимый учитель питают к этому Болеславу. Еще приор как-то рассказывал, что слышал в соборе Петра прекрасную и поучительную проповедь Герберта, полную восхвалений славянского князя, благодаря помощи и поддержке которого смог отправиться к язычникам на брега Скифского моря друг императора епископ Адальберт. А когда встретил там мученическую смерть, то славянский князь не пожалел казны, чтобы выкупить священные останки и возвести в одном из своих городов гробницу. Со слов приора выходило, что этот восхваляемый Гербертом славянский князь и есть Болеслав Первородный.
Тимофей засмеялся:
– Умно говоришь, но на этот раз я умнее тебя. Знаю то, чего не знаешь ты. Чего, может быть, даже ученейший Герберт не знает. Смейся, смейся сколько хочешь… А я тебе скажу, что, может быть и сам того не зная, Герберт поддерживает Болеслава Ламберта против первородного брата. Придвинься, и я тебе расскажу.
Слушая его, Аарон вновь почувствовал, как его охватывает волна негодования. Что с этим Тимофеем творится?! Неотвязные мысли о Феодоре Стефании, наверное, отняли у него рассудок – и уж наверняка – память. Ведь он уже ему рассказывал, как в Павии Григорий Пятый потребовал у Оттона, чтобы тот вернул Болеславу Ламберту отцовские владения, и как император решительно ответил «нет».
Однако боязнь слишком явно обидеть друга велит ему найти в себе терпение, много терпения, чтобы выслушать еще раз этот рассказ.
Но по мере того, как текли слова Тимофея, волна негодования и раздражения начала опадать, заострялось внимание, появилась заинтересованность, даже озарение. Нет, Тимофей не повторялся! После уже знакомого вступления в ходе рассказа появилось столько новых вещей, неизвестных, непредугадываемых. Оказалось, что эти полтора года, пока папы не было в Риме и Аарону показалось, что прошли долгие годы, для Кресценция и его сторонников пролетели мгновенно, до того удивило их и застало врасплох неожиданное, быстрое возвращение Григория Пятого с войсками Оттона! Они же были уверены, что он не сможет вернуться раньше четвертой весны, ведь без Оттона он бы не вернулся, а Кресценций располагал совершенно убедительными сведениями, что императорское войско по меньшей мере на три года приковано к землям по Эльбе, где славяне подняли грозное всеобщее восстание против саксов. И надо же, подвели безупречные лазутчики: уже на вторую зиму император стоял со своим войском в Павии, а ранней весной под Римом. Как же это могло получиться? Неужели лазутчики Кресценция переоценили мощь и угрозу славянского восстания? Нет, не переоценили. Но император смог спокойно уйти с Эльбы, так как на восстание обрушился грозный меч сзади, поистине смертельный удар в спину! Удар рукой побратима – рукой сильной и страшной. Первородный брат Болеслава Ламберта сделал за саксов их дело: понес огонь и железо взбунтовавшимся славянам, поддержал дружиной своей гарнизоны саксонских крепостей, плечом к плечу с епископом Рамвардом окрасил славянской кровью воды Эльбы. Водрузил императорских орлов в священных языческих рощах. «Как же ты, отец и брат, можешь требовать, – взывал в Павии Оттон к папе, – чтобы я обратил свой меч против этого благородного и преданного воина, который один совершил все, чтобы я мог уже не заботиться о взбунтовавшихся славянах, а первым делом поспешить на помощь к тебе…»
Тщетны были доводы папы, что император напрасно умиляется преданностью Болеслава Первородного, ведь это обычный долг ленника: поспешить на помощь императору даже против родного брата; он свершил бы смертный грех, если заколебался бы, стоит ли ему поднимать меч против язычников, владыка погрязшей в язычестве страны, сын новокрещенца; поистине он являл бы плохой пример, не показав своей ревностности в вере, поколебавшись хоть минуту. На все эти резоны император отвечал: нет и нет. И отвечал с таким жаром, что сразу чувствовалось, как в нем говорит не только простая удовлетворенность тем, что соблюдена лепная верность, по и восхищение и благожелательность к этому Болеславу Первородному. Папа тем не менее не уступал: Аарон же хорошо знает его твердость и неуступчивость. Он заявил, что в судьбах польского края решающий голос должен иметь святой Петр, а не императорское величество. Ибо отец обоих Болеславов, граф и маркграф Мешко, выделив своему первородному часть княжества с городами Познань и Краков, остальную землю, которой он владел, принес в дар святому Петру, прося небесного ключаря, чтобы он заботливо опекал его детей от второго брака. И святой Петр устами наместника своего папы Иоанна Пятнадцатого принял дар, поблагодарил и поклялся опекать младших детей, о чем просил его новокрещенный князь. А лишая братьев отцовских владений, оный Болеслав Первородный изгонял из этих земель самого святого Петра! Анафему он заслужил, а не дружбу императора! И он, Григорий, преемник Иоанна Пятнадцатого на Петровом престоле, не допустит, чтобы исполнение ленного и христианского долга явилось оправданием обиды, нанесенной самому святому Петру!
– Ты уже допустил это, отец мой и брат, – засмеялся Оттон, – допустил, позволив прийти тебе на помощь. Напрасно ты волнуешься. Ты должен понять, что не прав: дарение польской земли святому Петру маркграфом Мешко незаконно и неправо, поскольку единственным держателем и дарователем земель во всем мире является по милости божьей императорское величество и больше никто. Польским княжеством будет владеть тот, кто угоден императору; у святого Петра есть данные ему непосредственно богом ключи от небес и наказ заботиться о чистоте веры, никаких земель от господа он не получал.








