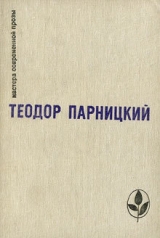
Текст книги "Серебряные орлы"
Автор книги: Теодор Парницкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
12

В Познань из Кракова ехал Аарон силезскими землями. Пришлось сделать большой крюк: такие в ту зиму были метели с заносами, что иначе, чем по льду Одера и Варты, и трех миль не проехал бы на санях; от Кракова до Одера его несли в лектике, хорошо ему знакомой еще по давним временам – в той самой, в которой Феодора Стефания некогда прибывала каждый вторник в Латеран, чтобы слушать музыку Сильвестра Второго. После смерти Оттона и отбытия Феодоры Стефании в Рим архиепископ Гериберт забрал эту лектику из Патерна в Верону, а оттуда в Кёльн – и спустя несколько лет в виде свадебного подарка преподнес в дар Рихезе.
Украшающие лектику золотые орлы радовали взор и мысли аббата Аарона. Они как бы говорили: пусть тебя не пугают метели и мороз – ты все еще в Риме. Разве не везде Римская империя, где простираются наши владычные крыла? Он почувствовал себя странно одиноким, просто несчастным, когда пересел из лектики в укрытые медвежьей шкурой сани.
Вот уже год, как он в Польше, а чувствует себя куда более чужим, одиноким среди придворных Болеслава, набожных, ревностных христиан, чем среди чтущих Магомета и Полумесяц арабов. Слишком мало знал он славянских слов – целые недели проводил в изнурительной скуке, словно был глух и нем. Приезд во Вроцлав страшно его обрадовал: епископ Иоанн бегло говорил по-латыни, хотя порой ненароком вставлял варварские обороты.
В гостеприимном доме епископа Иоанна Аарон ни на минуту не отходил от печи: не дал уговорить себя ни поохотиться, ни произнести проповедь в неотапливаемом деревянном соборе.
– Почему же это так, – спросил он, держа закоченевшие пальцы над весело потрескивающим огнем, – Англия и Ирландия куда севернее Рима, чем Польша, а там куда теплее, чем у вас?
Епископ Иоанн не мог этого объяснить, сказал только, что сам дивится. Он всегда был убежден, что в Англии еще холоднее, чем в Польше: ведь его же учили, что начиная с севера тепло распространяется к югу равномерно до самой Ливии, где весь год царит невыносимая жара, потому что из пустыни, окружающей Ливию с юга полукругом, недалеко до ямы, пышущей огнем, откуда тысяча ступеней ведет прямо в ад. «Интересно, смог бы Ибн аль-Фаради это объяснить», – подумал Аарон и вздрогнул. И внутренним своим взором увидел ученого араба, увидел, как он сходит тысячью ступенями в преисподнюю.
– Оставшийся путь уже не будет для тебя так скучен, господин мой, – сказал ему Иоанн. – Я велел приготовить самые большие сани, какие у меня есть во Вроцлаве: с тобой поедет ученый грек, который через Венгрию из Константинополя к самому нашему князю едет с какими-то тайными посланиями.
Новый спутник Аарона действительно оказался многоученым мужем – его ничуть не ошеломил вопрос, почему в Англии и Ирландии теплее, чем в Польше. Он сказал, что близость моря смягчает зиму на островах севера. Объяснение это хотя и не удовлетворило полностью Аарона, но он не смог найти никакого доказательства, что это не так.
Оказалось также, что грек свободно и прекрасно говорит по-латыни. «Почти как сам святейший отец Сильвестр», – с восхищением подумал Аарон. Он несколько оживился, повеселел: с огромным удовольствием выслушивал похвалы, на которые грек не скупился, восхищаясь столь необычно, столь неожиданно образованным латинским монахом. С любопытством, почти с восторгом расспрашивал Аарона об Ирландии, где все еще сохраняется – что тоже было для него неожиданностью – греческая наука.
– Ведь даже Герберт-Сильвестр, – сказал он со снисходительной улыбкой, – этот величайший мудрец среди латинян, который, правда, у нас вовсе не считался бы таким уж большим мудрецом, ни писать, ни читать по-гречески не умел.
Аарон, страшно уязвленный, открыл было рот, чтобы резко ответить, не позволить затрагивать честь Сильвестра, мудреца из мудрецов, но его остановили и ошеломили дальнейшие слова грека:
– Но я думаю, что, если бы Герберт-Сильвестр захотел, он без труда научился бы по-гречески. Он же умышленно не хотел. Всю жизнь за душой вынашивал, лелеял, словно великолепный цветок – а на самом деле ядовитый цветок, – безрассудную ненависть ко всему, что является творением греческой мысли и искусства.
По Аарону даже трепет прошел. Откуда он, грек, может знать о самых потаенных мыслях Сильвестра Второго? О мыслях, которые ученый папа поверял любимцу своему, испытывая его, действительно ли Аарон достоин такого великого доверия?!
Грек же, не переставая снисходительно улыбаться, продолжал:
– Давние это дела, давно минувшие, навсегда минувшие, а весьма любопытные, поучительные. Родные братья Восток и Запад; Запад – младший брат, слабее, глупее, невежественнее, всегда строптивый, всегда смутьян… Все ему независимость мечтается, равноправие, может быть, даже покорение мудрого, сильного старшего брата… Веками брыкается, как копь, хочет сбросить наездника с седла, породистое, красивое, сильное, но неразумное животное… Пусть его брыкается, не скинет! Один только раз вместо ржания львиным голосом рыкнул – голосом Герберта-Сильвестра, – по этим рыком все и кончилось. Начал лев рычать грозно, вызывающе, торжествующе, а кончил рыком от боли, метко пораженный копьем…
– Что же это было за копье? – с трудом сдерживая волнение, спросил Аарон.
Грек долго, молчаливо растирал закоченевшие руки, потом нос и щеки, дотронулся даже копчиками пальцев до уха, прикрытого меховой шапкой.
– Вы там в Англии и Ирландии, – заговорил он наконец, вновь снисходительно улыбаясь, – сидите на краю света, не знаете, даже не думаете о том, что в мире творится. Дания да Норвегия, откуда вы со страхом ожидаете нашествия, – вот весь ваш широкий мир… Вот ты в Краков, наверное, через германские земли ехал, возможно, даже слышал об императоре Оттоне Третьем?
Десять лет назад, перед первым путешествием в Кордову, Аарон наверняка бы возмущенно взвился от такого вопроса, вовсе он не безграмотный неуч, за которого его принимают, – он не только слышал об Оттоне, но состоял при нем – а это мало кому из живущих было дано, – исповедовал императора, свободно входил к нему в спальню, был свидетелем его последней болезни и мучительной смерти…
Но сейчас, в ползущих с унылым скрипом санях, он ответил лишь двумя словами:
– Слышал немного.
– Стоит того, чтобы узнать о нем больше, – сказал грек, потянувшись к бутылке с прозрачным, как вода, согревающим напитком.
И он рассказал Аарону деяния Оттона Третьего. Живо, интересно, точно. Несколько дней рассказывал. Радовался, что его слушают внимательно, с волнением и напряжением. Аарону не надо было изображать внимания, волнения, напряжения. Он исповедовал Оттона, свободно входил в его спальню, был свидетелем последней болезни и мучительной кончины Оттона, он столько слышал об Оттоне от Сильвестра Второго и вот теперь, полулежа в уныло скрипящих санях, слушал рассказ о деяниях Оттона, как будто действительно приехал в Польшу прямо из Англии.
Ведь это был рассказ о делах действительно новых, неизвестных, почти не угадываемых ранее. Ему показалось, что он получил в руки новое, полное издание запретной книги, а из старого издания успел прочитать лишь несколько выдранных страниц: две, три, самое большее четыре. Крутил их в руках, вчитывался, ничего не понимая или понимая мало; и как же по-иному воспринимаются они, когда увидел их уже в ином, полном тексте! Иначе понимается и окровавленный свиток, перехваченный в Цезене, и встреча с Болеславом Ламбертом в дверях комнаты Иоанна Филагата, и изгнание Григория Пятого Кресценцием – даже интерес Сильвестра Второго к фигуре греческого арбалетчика во сне Феодоры Стефании! И понятнее всего гнев и почти отчаяние папы, когда он узнал, что Оттон решил жениться на базилиссе!
Оказалось, прав был приор монастыря святого Павла, сказав как-то молоденькому Аарону: «За Кресценциями стоит кто-то очень сильный». Этот кто-то была Восточная Римская империя – единственная подлинная Римская империя, подчеркнул спутник Аарона по дороге из Вроцлава в Познань.
– Рим – это не Рим, Рим – это Константинополь. Величие империи – это величие не города, а особы. С тех пор как Константин равноапостольный перенес резиденцию величия из мерзостной столицы язычества на Босфор, в новый Рим, посвященный Христу, императорское достоинство непрерывно переходит от Константина Первого через Львов, Михаилов, Юстинианов к Василию и Константину Восьмому, ныне здравствующим августейшим императорам. Сказал ведь сын божий: «Одна паства и один пастырь». Так как же осмеливаются варварские германские короли кощунствовать, надевая на себя диадему и тем самым создавая вторую, самозваную империю? Что является источником соблазна для святотатственного разделения Христова стада? Ничего, кроме глупого учения, что величие Рима – это величие города, а не особы! Когда прекратится раз и навсегда доступ германским королям к Риму, навсегда исчезнет и разделение империи! А как преградить германцам дорогу на Рим? Есть два средства, одно из них я тебе открою, ученый латинист. Нужно навсегда вырвать из рук франков и саксов железную корону Королевства Италии!
– Значит, вы поддерживали Ардуина против Оттона Третьего и Генриха? – спросил Аарон.
От презрительного движения съежились под медвежьей полостью плечи грека. Даже не соизволил удивиться тому, что ирландец, который что-то слышал об Оттоне, может знать, кто такой Ардуин.
– Когда неожиданно буря перед самым пиршеством сорвет и сомнет в твоем саду самые прекрасные розы, ты увенчаешь голову чем придется, но при этом знаешь, что роз ничто не заменит. Действительно, мы поддерживали Ардуина, но только тогда, когда буря божьего гнева скосила роскошный цветок: Оттона.
– Не понимаю тебя. Из того, что я знаю об Оттоне, следовало, что именно он как можно теснее сплотил королевства Германии и Италии.
Аарон чуть не добавил: так тесно сплотил, что после смерти Хильдибалда уже не было канцлеров в каждом королевстве, а только один архилоготет объединенной империи: Гериберт. Но прикусил язык, вовремя сообразив, что тот, кто приезжает в Польшу прямо из Ирландии, не может ничего знать об этих делах.
Грек вновь снисходительно улыбнулся:
– Поживи Оттон дольше, он бы владел уже только одной Италией. Ты слышал что-нибудь о майнцском архиепископе Виллигисе? Перед самой смертью Оттона он намеревался поднять восстание всех германских племен против правителя, который отрекся от своего германского духа. И выбрали бы себе франки и саксы нового короля, наверняка того же Генриха, который сейчас ими правит, а Оттона больше бы уже из Италии за Альпы не выпустили…
– Но Италия тоже, насколько мне известно, взбунтовалась против Оттона.
– Верно сказано, но с бунтами италийцев быстро бы управились военачальники любезных господу самодержцев базилевсов…
с помощью послушной дочери империи – Венецианской республики. Впрочем, открою тебе еще одну тайну.
Аарон не без удовлетворения заметил, что прозрачный, с виду похожий на воду согревающий напиток обладает удивительной особенностью словно волшебным ключом открывать сокровищницу тайн Восточной империи.
– Слушаю тебя со вниманием, государь мой, – сказал он подчеркнуто торжественным, почти молитвенным тоном. «Чем большим будет считать меня простаком, тем больше я узнаю», – весело подумал он.
– То, что я сейчас тебе скажу, было тайной для многих, даже для самого Оттона, по не для Герберта-Сильвестра. Тот много знал, слишком много. Да, это был по-пастоящему опасный враг.
– А тайна? Какая же тайна? – воскликнул Аарон, с трудом сдерживая возмущение, которое вызвали в нем слова грека о Герберте-Сильвестре.
– А такая тайна, что большинство бунтов в Италии против Оттона были задуманы в зале Девятнадцати акувитов в Большом дворце Константина на Босфоре.
– Не понимаю, – совершенно искренне удивился Аарон. – Ты же сам сказал, что эти бунты должны были подавить именно военачальники базилевсов. Только что назвал Оттона роскошной розой, как будто он мил был тебе и твоим повелителям. Зачем же поднимать бунты против того, кто мил тебе и в довершение ко всему – как ты говоришь – тут же подавлять их?
– А затем, чтобы этому милому преподнести большой свадебный подарок в виде подавленных бунтов. Затем, чтобы Оттон понял, что без поддержки базилевсов он лишится железной короны Италии, так же как и германской короны.
– А разве базилевсы помогли бы Оттону подавить бунты и в германских землях?
Грек взглянул на Аарона с безграничным презрением.
– Я ошибался, считая тебя необычайным чудом в море латинской темноты. Неужели ты так туп? Ведь я же сказал тебе, что в том-то все и дело, чтобы король Италии не был одновременно германским королем. Пусть бы германцы свободно выбирали себе королей, пусть бы грызлись между собой лотаринги, франки и саксы, пусть бы истекали кровью в походах против славян или венгров, лишь бы за Альпы ни ногой. За Альпами уже правил бы Оттон, женившийся на сестре базилевсов, правил бы как король Италии с титулом младшего императора, и достаточно сильный, чтобы с помощью наших военачальников и Венеции не пустить германцев за Альпы, и в нужной мере слабый, чтобы выступать против нашего оружия.
– С титулом императора, говоришь? Но ведь ты только что возмущался разделением императорской власти.
– Я говорил о раздвоении империи. Она была бы едина, монолитна, неделима, пусть императоров было бы и трое, как ныне двое: угодный господу самодержец базилевс Василий и угодный господу самодержец базилевс Константин. Величие священной императорской особы покоится на сущности и мощи власти, а не на названии власти. Что из того, что короля Италии называли бы угодным господу самодержцем базилевсом Оттоном? Власть его но сути и мощи своей была бы властью варварского крохотного короля: повелевал бы из Павии или Вероны лангобардским графам, а может быть, и тосканским…
– Не из Рима?!
Грек вновь глотнул прозрачной жидкости.
– Холодно, – сказал он, передернувшись, видно, напиток был неприятен на вкус.
– Разумеется, не из Рима! – воскликнул он, пряча бутылку под медвежью шкуру. – В Рим бы ему разрешалось приезжать на праздник Ромула или в день святого Петра. Впрочем, я думаю, если бы базилисса родила Оттону наследника, если бы сын этот рос истинным греком, если бы оказалось, что Королевство Италии преданно и мудро служит константинопольским базилевсам – то… то, может быть, и позволили бы Оттону перенести свою столицу из Павии в Рим: чем бы это вредило, если бы он устраивал торжественные шествия с Авентина на Капитолий… если бы воображал, что он Август, Траян или Константин?! Лишь бы германцы не пришли из-за Альп…
Аарон даже по грудь высунулся из медвежьей полости. Приблизил лицо к самой лоснящейся, черной, курчавой бороде грека. Пристально взглянул ему в глаза.
– Ты столько мне рассказал, разреши, сейчас я кое-что тебе скажу, – прошипел он сквозь зубы. – Предвечная мудрость смилостивилась над Оттоном и, забирая его к себе, избавила от унижений, которые вы ему готовили. Но если бы он не умер, вы бы все равно немногого добились: примирился бы Оттон с германцами, саксонская кровь его воззвала бы к племени отца и деда, и он сам бы вновь привел против вас германцев из-за Альп… А может быть, не только германцев, привел бы и патриция Болеслава, верного друга, с могучей дружиной…
Громким смехом прервал его слова грек.
– Вот уже пятнадцать лет ждут друзья Оттона, чтобы Болеслав наконец пришел в Рим с могучей дружиной. Не пришел. И не придет, поверь мне, не придет. Будь он дурачком или юнцом, полным книжных мечтаний, тогда пришел бы. Но он не дурак и не юнец. A германцы? Эти пришли бы, тут ты верно говоришь.
Только думаю, что Оттон уже не дождался бы их прибытия, не дождался бы… Да и не верю я, чтобы даже в этом унижении – как ты кощунственно назвал благословенную его судьбу, уготованную ему самодержцами базилевсами, – захотел Оттон призвать германцев, нет, не примирился бы он с ними, не соединился, не вернулся бы к своей германской природе… Скорей погиб бы, но не сказал бы о себе: «Я германец». Достойная супруга, умелая сестра базилевсов, еще заботливее бы взращивала в душе Оттона ненависть и презрение к племенной крови отца и деда, чем Феодора Стефания…
– Феодора Стефания?
– Что ты так кричишь? Да, Феодора Стефания. Была подле Оттона несколько лет красивая женщина с таким именем. Верно и ревностно служила она базилевсам. Что ты прячешь лицо в мех? Тебе холодно? Испей!
Долго длилось молчание. Все более уныло скрипели сани.
– Ты заболел? Дрожь бьет? Я же чувствую, как ты трясешься, – говорил дружелюбно грек и, поскольку Аарон не отвечал, вернулся к прерванному рассказу: – Молод ты еще, не понимаешь, какой обладаешь силой, когда посылаешь верную, преданную женщину спать с тем, чьи мысли ты хочешь подчинить своей воле… Много, много сделала Феодора Стефания. Поистине дивно сотворила София, предвечная мудрость, женскую душу. Скажи только женщине: «Вот ты спала с любимым, но пришел враг, лишил твоего любимого власти, могущества, чести, а потом и жизни – хочешь отомстить за любимого? Иди, спи с его покорителем и убийцей» – и пойдет. Самого Иуду, кажется, от ужаса передернуло, когда он, предавая, целовал. А женщину ужас не охватит, нет. Но не только Феодора Стефания верно базилевсам служила. Герберт-Сильвестр тоже.
– Что ты сказал?!
Так страшно Аарон крикнул, что грек даже рванулся. Побледнело на миг раскрасневшееся от мороза и напитка прозрачное лицо.
Долго вглядывался в Аарона удивленный грек.
– Догадываюсь, – сказал он, – что в Англии и Ирландии не меньше чтили Герберта, чем во Франции и Риме. Что я сказал, спрашиваешь? А то, что Герберт также во многом служил делу базилевсов. Но иначе, нежели та женщина, ибо невольно. Этот был наш непреклонный противник, все время ему виделась могущественная Западная империя, мечтал, ученый глупец, что его мысль, управляющая Оттоновой рукой, будет когда-нибудь из Рима править Константинополем. Западная империя! Давно уже погребенный и смердящий труп! Сын божий воскресил Лазаря, но Герберт никогда бы не воскресил труп Западной империи! Напрасно совершал он заклинания и магические обряды вокруг позлащенного гроба! А ведь как старался, как трудился! Сколь усердно возводил из заплесневелых развалин мощную твердыню! Но возводя, только разрушал. Стоило ему в одном месте скрепить кусок стены, как в другом месте она рушилась. Тревожило Герберта, что много греческих монахов среди венгерских дикарей толчется, боялся, что следом за монахами помчатся друнги императорской конницы, когорты пехоты, – и давай венгерского князя на нас натравливать! И не одними словами – бесценным даром: королевской короной. Той самой, которую Оттон Болеславу обещал. Ненадежного нового друга приобрел, а прежнего, верного, обидел… А уж больше всего Герберт нам помог, с утра до ночи внушая Оттону музыкой и красивыми словами: «Помни, что ты не германец, а римлянин!» Конечно, он добился цели, своей и нашей: возненавидел Оттон свое германское происхождение. А вот стал ли он римлянином? Если бы не умер, если бы женился на базилиссе, если бы имел от нее сына, истинного грека, если бы в Королевстве Павии верно служил базилевсам – был бы римлянином! Но не думаю, что это его римское состояние – единственно подлинно римское – порадовало бы Герберта, мечтавшего о воскрешении трупов.
– Хорошо ты все это рассказал. Умно. Но Оттона призвал к себе бог, Генрих же, истинный германец, именно за Альпы двинулся и вот-вот наденет императорскую диадему на германскую голову рукой папы, святейшего отца. Вот ты издеваешься над мечтаниями Герберта, а во что ваши искусные мечтания превратились? Снова у вас германцы не только на италийской стороне Альп, а в самом Риме! Попробуйте выгоните!
Грек усмехнулся:
– Выгоним! Я же сказал тебе, что есть два средства против святотатственного раздвоения империи. Из-за смерти Оттона одно уже не годится, это верно. Но второе осталось.
– Какое же это средство?
– Смотри, уже огни впереди мигают. Сейчас ночлег будет.
Удобный, теплый, истинно княжеский ночлег в крестьянской хате. Но Аарон ни на миг не сомкнул глаз. Блуждал памятью по прошедшим годам, воскрешал бесчисленные разговоры: свои с Гербертом-Сильвестром и Тимофеем, Тимофея с Экгардтом, Феодорой Стефанией и Иоанном Феофилактом, папы с польскими послами, вспоминал звучание арабской песни, переложенной на орган, под которую Сильвестр Второй сказал: «Поистине чудесный бывает мир сноп». А потом: «Император должен удалить от себя эту женщину. Должен».
Многое понял из того, что долгие годы казалось ему странным, непонятным. Много обнаружил следов стертых, запутанных. Но следы ног Феодоры Стефании – следы, ведущие через руки шестерых воинов с ложа Кресценция к ложу Оттона, – не мог проследить так точно, как остальные: то и дело терял их или вовсе не различал.
Утром он узнал от силезцев, что дальше поедут на конях, а не на волах. «Побогаче пошла местность», – с облегчением и радостью подумал Аарон. Хоть бы уж поскорей очутиться в Познани: чувствовал, что начинает недомогать. Все время знобило.
Когда стали впрягать в сани коней, Аарон не мог не заметить, с какой неприязнью, враждебностью, почти ненавистью смотрят исподлобья глаза силезцев на него и его спутника. Ведь сколько труда, сколько достатка вложено в такое богатство, как кони. А разве можно быть уверенным, что получишь их обратно? Они же могут ноги на льду поломать, волки могут их задрать, какой-нибудь княжеский дружинник может на них в Познани польститься, а то и сам князь, отправляясь в поход, прикажет их оседлать: саксонский или датский меч скорее повалит бесценное животное, чем волки, чем лед… Но не смели отказать силезцы: княжеский закон карал железом, а то и колом, если откажешься дать коней для путешествующих гостей, вельмож, придворных или княжеских дружинников.
Как только тронулись, Аарон спросил грека, почему он вчера столько говорил о Герберте как воскресителе Римской империи и даже словом не упомянул о том, чему больше всего посвятил рвения Герберт: о церкви Петровой.
И вновь снисходительно улыбнулся грек. Сказал, что наилучшим доказательством того, что латинский Запад не дорос, чтобы править сам по себе, без опеки старшего брата, греческого Востока, является именно раздвоение власти между церковью и мечом – раздвоение все более заметное, с тех пор как клюнийцы начали набирать силу. Аарон заметил, что грек рассуждает об этом точно так же, как рассуждал Оттон Третий, только с большей решительностью.
– Наместником Христа, – сказал он, – является августейший император. Как апостолы верно служили спасителю, так же верно должны их наместники, патриархи и епископы, служить наместнику Христа.
Но иначе, нежели Оттон, грек утверждал, что первым среди христианских епископов подлинным наместником Петра является патриарх Константинопольский, а не епископ старого Рима.
– Я же тебе вчера сказал, что величие Рима не там, где город, а где священная особа императора, наследника Константина равноапостольного. Петр своей столицей сделал Рим, а место наместника Петра там, где находится величие Рима. По не спорю, что и епископ старого Рима должен занимать в церкви видное место. Потому-то базилевсам так важно, чтобы епископами старого Рима – папами, как вы их называете, – были неизменно добродетельные люди, так же верные величию империи, как апостол Петр был верен Христу. К сожалению, в последнее время папами всегда бывали недостойные пастыри, преданные германским королям, а не базилевсам-самодержцам. Один только Иоанн Шестнадцатый…
– Иоанн Шестнадцатый? – прервал его Аарон возмущенно. – Ты говоришь об Иоанне Филагате, узурпаторе, симоните? Называешь его единственным достойным пастырем? Да это же самый недостойный из недостойных. Как Симон-волхв хотел за деньги приобрести священное могущество, так он за золото купил у Кресценция папское звание при живом Григории, подлинном святейшем отце.
– Поистине далеко от Рима до Англии и Ирландии! Это у вас там, на островах, так говорили о достопочтенном Иоанне Шестнадцатом? Уверяю тебя, что все было наоборот. Это Кресценций склонил Иоанна Филагата взойти на римский епископский престол…
Пред взором Аарона замаячил голый череп и огромная белая борода. Значит, правду говорил Нил, моля о пощаде для Филагата: единственно малодушием он прегрешил, а не симонией! Дрогнул пред угрозами Кресценция и малодушно – верно, весь трепеща от ужаса – потянулся к Петровым ключам…
– Кресценций – это такой же верный слуга самодержцев базилевсов, как отец его, и дед, и сын, хотя не раз им казалось, что они себе служат, своим мечтаниям о могуществе, о воскрешении Республики, столь же вздорным, как и попытки Герберта воскресить самостоятельную Западную империю… Если бы Владимир Русский получил базилиссу Анну и дал себя уговорить креститься на семь лет раньше, он бы ревностнее исполнял волю базилевсов, сражаясь против Болеслава Польского, защищая его единокровных братьев. А ты знаешь, что бы тогда было? Польшей правил бы не могущественный Болеслав, а тройка мальцов с матерью; разумеется, они не могли бы быть столь полезными Оттону в борьбе против славян на Эльбе, как их могучий первородный брат, и тогда бы не смог Оттон поспешить в Рим, чтобы вновь возвести на папский престол Григория Пятого. Понимаешь? Ошибка, совершенная на пути между Херсонесом и Киевом, обратилась в Риме против Кресценция и Иоанна Шестнадцатого. Получи Владимир Анну раньше, наверняка никогда бы не вернулся Григорий в Рим, а самого Оттона впустили бы – но только без Герберта – лишь как союзника, а то и как слугу базилевсов: не Сильвестр бы тогда, а Иоанн Шестнадцатый утверждал его в любви ко всему римскому и в презрении к германской крови… Оттон с папой Филагатом и патрицием Кресценцием – ах, сколь отрадное было бы зрелище для священных очей базилевсов!
– А разве Григорий Пятый знал, что Иоанн Филагат служит базилевсам?
– Нет, не знал. Но Герберт знал.
Аарон почувствовал – как и в прежние годы, – как сильно стучит в висках, как шумит в ушах, как холодно ногам, которые мгновенно занемели. Значит, Герберт знал! Так вот почему он не защищал Иоанна Филагата, брата своего по мудрости, от гнева и мести Григория, не знавшего…
– Но откуда вы знаете, что Герберт знал? – Голос его был сплошное удивление, наполненное ужасом и почти отчаянием.
– Мы знаем все.
– Велика ваша мощь, – прошептал Аарон побелевшими вдруг губами.
– Ты читал когда-нибудь похождения хитроумного Одиссея, ирландец? Известно ли тебе это волшебное сказание о деяниях мужа, который иначе, нежели Ахилл и Диомед, могучей силой хитроумной мысли силе плеча, столь часто ненадежной, надежно помогал?
Аарон оживился. Даже обиделся, даже оскорбился. Ну конечно, читал!
– Но ты читал настоящую «Одиссею»? Не переделку, не сокращенный пересказ, а именно несравненные песни слепца Гомера? Ты знаешь эти стихи?
И он прочитал несколько гекзаметров.
Аарон слушал, восхищенный, очарованный, умиленный.
– Нет, не знаю, – прошептал он. – Какие они прекрасные!
– Так слушай.
Потоком, великолепнее вод Гвадалквивира в волшебную лунную ночь, полились напевные строки, удивительные картины, сладкозвучные слова. Вот Одиссей сын Лаэрта проплывает мимо скалы сирен, вот побеждает ужасного Полифема, вот раздобывает лук, несущий отмщение, – и все силой своего острого ума – силой, вытекающей из мудрости.
– Понравилось? – спросил грек, прервав на половине гекзаметры. Видно было, что он и сам взволнован и упоен.
Аарон кивнул. Он не мог говорить. Только затуманившимся взглядом смог высказать, что никогда ничего подобного не слышал.
– Есть люди, – произнес некоторое время спустя грек, – которые сомневаются, есть ли в человеке что-то сверх животной его натуры. Не верят, что мы созданы по образу и подобию божьему, думают, что человеческая душа такая же смертная, как и тело. Лукреций, латинский поэт, даже в стихах это воспел. Читал его?
– Нет. И благодарю мудрость всевышнего, что не попустила читать подобные мерзостные кощунства.
– А жаль, что не читал. Потому что именно Лукреций стихом своим противоречит своему кощунственному заблуждению. Когда слушаешь его чудесные гекзаметры, просто не веришь, что в человеке, который создал такое великолепие, нет ничего, кроме звериной натуры. А ул? когда Гомера слушаешь!.. Мысль, которая сотворила эти непревзойденные сказания, искусство, которое в такой стих их воплотило, – не может не быть бессмертной… не может не быть отблеском мысли и мастерства, которые замыслили и сотворили вселенную… Я был как-то в Италип, в Равенне… Видел в церкви святого Виталия мозаику, изображающую императора Юстиниана и его двор… Кто раз взглянул на это лицо, уже никогда не усомнится: существо, которое сумело из цветных камешков создать такие образы, не может не быть образом бога.
Аарон вздрогнул. Не первый раз уже он слышит эти слова. Без труда вспомнил, где слышал их раньше. Именно в Равенне, именно в церкви святого Виталия, именно под этой самой мозаикой, о которой говорил сейчас грек. Он сидел у ног Герберта, тогда еще архиепископа Равенны. Напротив Герберта поместился Ромуальд – пустынник, схимник, строгий к себе и к другим. Поодаль стоял Одилон, аббат аббатов, глава могущественной клюнийской конгрегации.
Спрятал прекрасное лицо в ладони Одилон. Еще крепче вцепился в поручни кресла Ромуальд, опустил к полу полные слез глаза Аарон; Герберт же все более радостным голосом, все более звучным – напевным и мягким, словно нежное звучание органа, – доказывал тогда, что ни в чем с такой силой не проявляется подобие человека с творческой мудростью бога, как именно в творении. А что может сотворить человеческая мысль? Может сотворить прекрасный храм из мертвого мрамора, чудную музыку из беспорядочных звуков, изумительный стих из обычных слов. И из цветных камешков может создавать людские образы, столь похоже на живых людей, что даже дух захватывает от одной мысли, что такие чудеса способна создавать изощрившаяся человеческая мудрость. «Взгляните только на лица, которые перед вами на мозаике», – закончил Герберт свое слово с тихим вздохом, исполненным глубокой растроганности и восхищения.
– Ты не был в Константинополе, так ведь, ирландец? – спросил грек, выслушав рассказ Аарона.
– Не был.
– Герберт-Сильвестр тоже не был. А если бы был, то понял бы, что грешит против мудрости божьей, не желая признавать, что греческой мысли неизменно принадлежит первое место. Ведь и эти великолепные мозаики в равеннской церкви святого Виталия дело рук греческих мастеров. И если бы вошел Герберт в храм, именно во имя мудрости божьей, Софии, возведенный базилевсом Юстинианом, то понял бы, что ничто во всех земных пределах не передает так великолепно столь прекрасные и глубокие мысли Герберта, как именно этот храм. Тут и золото, и лазурь, и розовый цвет, и зеленоватый – мозаики, представляющие удивительные изображения; тут опоры, я бы сказал, водруженные рукой исполинов; вот галерея стройных колонн; вот купол, равного которому нет: один лишь звездный небосвод превосходит его размером и величием. В этом соборе невозможно не ощутить творческой мощи человека: вся неохватная и страшная природа – жалкий прах перед мыслью, которая сумела сперва представить себе этот собор, а потом воплотить мечтаемый образ в камне. И могло бы казаться, что именно там, взирая на это великолепие, должен сказать себе человек: «Вот, я как бог». Но нет, не скажет. Под этим куполом, подле этих колонн, перед этими мозаиками один только вырывается из груди вздох: что я есть пред тобой, София, божия мудрость? Воистину прах один.








