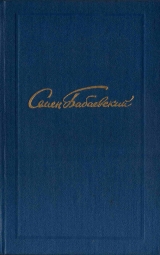
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 3"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
Человек, поджидавший Холмова, был известный на Прикубанье поэт-песенник Николай Природный. Фамилия у него – Мандрыкин, а Природный – псевдоним, как бы говоривший, что поэт – дитя полей и лесов, что лейтмотив его стихов – воспевание природы.
Еще лет тридцать назад Николай Мандрыкин, тогда молодой чубатый тракторист, написал стихотворение о кубанских казаках. Оно начиналось словами: «Выходили молодые казаченьки в степь привольную» и имело рефрен: «Наш комсомол – смотри вперед!» Стихотворение было напечатано в «Прикубанской правде», и его строки как-то сами собой удачно легли на мелодию популярной кубанской песни.
Новая песня пошла гулять сперва по Прикубанъю, а потом и по всей стране. Ее исполняли по радио, ее пели народные и самодеятельные хоры. Николай Мандрыкин, ставший Николаем Природным, оставил в свежей борозде трактор и переехал на жительство в Южный. Вышла книжечка его стихов, и открывала ее знаменитая песня о молодых казаченьках. Обком комсомола, желая обессмертить имя поэта, произвел Николая Природного в почетные комсомольцы. К лацкану его нового модного пиджака был приколот блестевший эмалью комсомольский значок. Неожиданно к казачьему парню пришла слава, а вместе с нею и деньги, и еще не крепко стоящий на ногах поэт как-то быстро, без особых усилий научился пить коньяк и стал весельчаком и забулдыгой.
Прошумели годы. Песню с рефреном «Наш комсомол – смотри вперед!» постепенно забыли. Сам же поэт-песенник состарился, осунулся. Лицо сделалось рыхлым, живот – одутловатым. В копне вьющихся когда-то волос широкой бороздой пролегла плешь. Появились материальные затруднения. Песня о молодых казаченьках не давала уже ни гроша, новые стихи, которые писал Николай Природный, никто не хотел печатать. Хроническое безденежье, отсутствие внимания к его персоне удручающе действовали на самочувствие поэта. Он сделался мрачным, нелюдимым, стал сочинять желчные эпиграммы на своих собратьев по перу. Небритый, с опухшими веками, все еще со значком на лацкане поношенного пиджака, он приходил в Прикубанское издательство, в редакции газет, просил аванс, упрашивал напечатать стихи.
Добивался приема у Холмова, хотел пожаловаться. Ему говорили в бюро пропусков, что Алексей Фомич занят то уборкой зерновых, то силосованием кормов. Как-то принял инструктор отдела пропаганды. Со скучным лицом, нехотя, по обязанности выслушал горькие слова бывшего комсомольского поэта и сказал:
– И рад бы помочь, но сие, как говорится, от меня не зависит.
Теперь Холмов жил в Береговом, силосом уже не занимался, пройти к нему можно было без пропуска, и Николай Природный решил побывать у него. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. В Береговой он приехал вчера, и не с пустыми руками. В папке, которую держал на коленях, лежала новая поэма «Казачья дума». Он был уверен, что достаточно Холмову отсюда, из Берегового, позвонить в Прикубанское издательство, как поэма будет принята к печати.
– Николай Природный! – сказал он, здороваясь с Холмовым. – Алексей Фомич, вы меня знаете?
– А кто на Прикубанье не знает Николая Природного?
– Лестно слышать! Благодарю вас, Алексей Фомич.
– Вот только отчества не знаю.
– Максимович.
– Садитесь, Николай Максимович. – В голосе Холмова появилась та же вежливая нотка, какая, бывало, звучала всегда, когда он принимал посетителей. – Какими судьбами оказались в Береговом?
– К вам приехал. Специально! Остановился в гостинице «Берег». Не правда ли, поэтическое название? – Природный сел, не зная, держать ли папку в руках или положить ее на стол. – Вы живете уединенно, в тиши, под теплым, так сказать, небом юга. Простите меня великодушно за самовольное вторжение.
– Чем могу быть полезным?
– Всем, Алексей Фомич! – радостно отозвался поэт. – И тем, что вижу вас, что говорю с вами.
– Ну к чему же это? Совершенно ни к чему.
– Волнуюсь, извините. И говорю не то… Вы, наверное, заметили, я упомянул о поэтическом названии здешней гостиницы. Вот и у меня дело к вам тоже поэтическое. – Слова эти понравились Природному, и улыбка тронула его бледное лицо – В литературу, как вы знаете, я пришел от земли. Выражаясь образно, своими поэтическими корнями ухожу в ту борозду, которую когда-то сам проложил по колхозной целине. Но цель моего прихода не в этом. Не знаю, с чего бы начать…
– Начните с конца, – посоветовал Холмов. – Быстрее и яснее.
– С конца? А что? Пожалуй, верно. – Природный оправил полы своего поношенного пиджака, желая, чтобы Холмов заметил на лацкане уже постаревший, с тусклой эмалью, комсомольский значок. – С конца? Быстрее и яснее? Но вот беда, Алексей Фомич, моим унижениям, всяким травлям меня конца-то еще не видно… А если начать с просьбы? Я написал поэму «Казачья дума». Лирический герой проходит, как говорится, через годы и через расстоянья. Коллективизация, первая пятилетка, война, наши дни. Алексей Фомич, прочтите «Казачью думу» и оцените. Только вам доверяю, только ваш приму приговор!
– Почему же – только мой?
– Ваш опыт большого руководителя!
– Руководитель-то я уже бывший.
– Ваш авторитет, ваше имя!
– В вопросах поэзии авторитет мой невелик, – с грустью в голосе сказал Холмов. – Я не поэт и судить о работе поэта, а тем более, как вы сказали, выносить приговор вряд ли имею право.
– Вы, Холмов, и не можете? – искренне удивился Природный. – Ваше мнение, ваша оценка – высшая для меня награда!
– Напрасно… Николай Максимович, вам, наверное, приходилось бывать на футбольных играх. И вы, надо полагать, видели, какие на трибунах стадиона разгораются страсти. Какой-либо «сердечник», страдающий одышкой, что есть силы кричит молодому, полному сил спортсмену: «Мазила! Да разве так бьют по воротам?!» Умеет ли он сам бить по воротам? Знает ли вообще, как это делается? Сомневаюсь. Но говорит так убежденно и так смело, что, кажется, пусти его на поле стадиона, и он покажет изумленным мастерам спорта, как именно нужно бить. Но это спорт, где мнения и суждения болельщиков чаще всего определяются эмоциями, а не здравым смыслом. Мне не хочется, подобно футбольному болельщику, оценивать вашу работу и поучать вас, как надо писать стихи. К тому же вы хотите услышать мнение не просто читателя.
– Понимаю, скромность украшает. – Природный вынул из папки поэму. – Вот она, моя «Казачья дума»! Я сам прочту. Вы наберитесь терпения и послушайте.
Природный читал стоя, глухим, утомительным голосом. С тоской в глазах Холмов смотрел на немолодого мужчину со значком на лацкане пиджака и старался вникнуть в смысл поэтических строк. В голову же почему-то лезли мысли о том, как же, наверно, трудно сочинять стихи, потому что нужно было так рубить строки, чтобы по размеру они были одинаковые и слова на конце созвучны. Мысленно говорил себе и поэту, что заблуждаются те, кто полагает, что всякому, кто становится руководителем, уже дается право поучать и утверждать: эти роман или повесть бездарные, а эти талантливые.
«Своими корнями ухожу в борозду, – с горечью думал Холмов, слушая Природного. – Поэт. А почему на него жалко смотреть? И кто повинен в том, что из пахаря получился этот неудачник, живущий в материальной нужде? Кто первый сказал, чтобы он бросил трактор и занялся поэзией? Кто уверил тракториста Мандрыкина, что у него талант не механизатора, а литератора? Ведь жизнь его могла бы сложиться совсем не так, как сложилась. Он приехал ко мне за помощью, я – последняя надежда. Но как ему помочь? Что я могу изменить в его судьбе? Видно, в том, что этот уже немолодой мужчина носит комсомольский значок и выглядит таким униженным и жалким, есть и моя вина. Но в чем? Да хотя бы в том, что жизнь Мандрыкина прошла мимо моего внимания. Я не пригласил его к себе и вовремя не поговорил с ним, не сказал о том, что одной удачной песни мало для того, чтобы стать поэтом. И другие, близкие ему люди этого не сказали. Бывает у нас, когда новатора или поэта всем миром поднимаем высоко над своими головами, подержим на своих крепких руках, а потом вдруг все разом разойдемся, не подумав о том, что человек упадет и разобьется. Вот и Природный упал. И страдает-то не столько от ушиба, сколько от душевного надлома. Читает старательно, с выражением, а поэма-то никудышная, и герой ее – человек не то что пустой, а душевно опустошенный».
– Ну как, Алексей Фомич? – кончив читать и просяще глядя на Холмова, спросил Природный. – Что скажете? Нравится вам «Казачья дума»?
– Даже не знаю, как… Мне трудно.
– Вы только скажите: нравится или не нравится вам «Казачья дума»?
– Это сказать могу, – ответил Холмов. – К сожалению, не нравится.
– Почему же, Алексей Фомич?
– Потому, что в поэме нет жизни, а есть одни слова и слова, – ответил Холмов. – Поэма напоминает ветряную мельницу, работающую на холостом ходу. Ветер дует, крылья кружатся, а жернова стоят. Не сердитесь на меня за то, что говорю вам такие горькие слова. Ваша поэма ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем. Она ни о чем. Вы рассуждаете без причины и без повода. А ваш лирический герой – юноша идиллический, без плоти и без крови. Где вы видели такое слабовольное создание, такого хлюпика? А ведь он не просто ходит по земле. Он берется поучать, пытается давать советы и наставления, как надо жить. Душонка-то у него мелкая, взгляд на жизнь обывательский, и уж очень умилительно он поглядывает на буржуазный Запад… Вижу, вижу, мои слова вас не обрадовали. Но покривить душой я не мог.
– И вы, как все, отворачиваетесь от меня? – Природный бросил на Холмова гневный взгляд. – Жестокий вы человек! Футбольного болельщика придумали? Ветряная мельница на холостом ходу? А сердце у вас есть? Вы не подумали о том, что поэзии я отдал годы? – И опять ласковые, просящие глаза смотрели на Холмова. – Как мне жить? Алексей Фомич, если в вашем сердце есть хоть капля жалости ко мне, напишите директору областного издательства. Всего несколько слов… Что был у вас, читал вам «Казачью думу».
– Моя записка не поможет. Иная нужна помощь.
– Понимаю… Сытый голодного не разумеет. – Прижимая папку к груди, Природный злобно посмотрел на Холмова и направился к выходу. – Зря ехал, зря надеялся! Не было правды и нет! Ну, прощайте.
Набок, к левому плечу, склонил большую голову и быстро ушел.
«Вот и обидел человека, – думал Холмов, глядя вслед уходившему Природному. – Не хотел, а обидел. Да, нелегко ему и, может быть, потому нелегко, что ничего из того, что нужно было бы понять, он уже понять не может. Утрачено самое важное – критическое чувство к себе, а без него, без этого чувства, жить трудно не только поэту».
Холмов позвал Чижова. Тот появился, на ходу вынимая из нагрудного кармана записную книжку.
– Вот что, Виктор. Обиделся на меня поэт. Так ты сходи к нему в «Берег» и извинись за меня. Скажи, что я не хотел причинить ему боль. – Холмов из ящика стола достал деньги. – Возьми вот это. Если не станет брать, скажи, что взаймы… У него материальные затруднения.
– Сам виноват.
– Может, сам, а может, и не сам. – Холмов помолчал, а Чижов что-то записывал в книжечке. – Насчет соседской радиолы не говорил? А то и сегодня Мошкарев не даст уснуть.
– Вечерком схожу. Баян прихватить?
Холмов утвердительно кивнул.
Глава 18Имея многолетний опыт подготовки чужих речей, Чижов понимал, что лекция, да еще о Ленине, это не доклад на тему о текущей хозяйственной кампании и написать ее быстро и хорошо – дело нелегкое.
Он обложился книгами, взятыми в парткабинете. Просматривал, делал выписки. Ему хотелось, чтобы Холмов и теперь остался доволен его работой, как бывал доволен всегда, и чтобы лекция была готова не через десять дней, а значительно раньше. Но как ни спешил Чижов собрать воедино разрозненное, записанное на клочках бумаги, как ни стремился расширить текст цитатами, применяя свой проверенный на деле метод составления докладов, как ни старался, сам часами печатая на машинке, управиться к сроку, – десяти дней ему не хватило.
Мешали, как на беду, другие дела. То помогал Ольге по дому, то ходил на рынок или в магазин – женщина уже немолодая, с больным сердцем, нужно было уважить. То часа два убил на разговорах с Николаем Природным. Успокоил, как мог, поэта, и тот, беря деньги, сам сказал: «Только, чур, условие! Это взаймы. Так и скажи Алексею Фомичу, что сразу же, как только „Казачья дума“ появится в свет, долг будет возвращен…» То писал письма в станицу Весленеевскую братьям Холмова – Игнату и Кузьме. Сперва карандашом бегло записывал то, что, сидя в шезлонге, не спеша, рассудительно диктовал Холмов. Записанное затем правил, прибавлял от себя то, чего, как казалось Чижову, в письме недоставало, или что было упущено Холмовым, и только после этого уже переписывал на машинке. Письма получились длинные, сердечные. В них Холмов приглашал братьев приехать к нему в гости, обещал с Ольгой навестить родную станицу.
Вчера ходил к Мошкареву. Это было вечером, и как раз в тот момент, когда голосистая певица что есть мочи прославляла сидевшую за рулем Ивановну. Чижов подошел к дому Мошкарева и заглянул в раскрытое окно. В комнате полумрак. Настольная лампа укрыта матерчатым, с яркими цветами, абажуром, как девушка нарядным полушалком. Свет падал на край стола и лишь краем своим касался радиолы. Пластинка, вращаясь и издавая оглушающие звуки, отсвечивала антрацитовым блеском. Верочка спала, сиротливо свернувшись на диване. Свет падал на ее курчавую голову. Сам же Мошкарев сидел у стола, подперев волосатую щеку ладонью. Перед ним лежал исписанный лист бумаги. Нельзя было понять, читал ли Мошкарев написанное, слушал ли радиолу, думал ли о чем.
– Сосед! – крикнул Чижов, силясь перекричать радиолу. – Пожалейте человека! Ему спать нужно! А уснуть не может!
Мошкареву почудилось, будто этот звучный бас вдруг появился в песне. Поднял голову, удивленно посмотрел на Чижова и выключил радиолу. Воцарилась приятная тишина. Было слышно робкое посапывание Верочки. Сонными глазами с неприязнью смотрел Мошкарев на нежданного гостя. Не мог понять, что Чижову нужно. Зевая, сказал, что под радиолу как раз хорошо спится. Кивнул на посапывавшую Верочку.
– Женушка без песни не ложится. Убаюкивает.
– Не всех же убаюкивает, – возразил Чижов. – Есть люди…
– Есть, есть, – согласился Мошкарев. – Которые из тех, из слабонервных. Они и в тиши не могут глаз сомкнуть. Нервы!
– Теория, папаша! – сказал Чижов. – У меня же к вам разговор сугубо практический.
– Жалоба?
– Если хотите – да!
– В чем ее суть?
– Отдайте мне пластинку про эту, про Ивановну.
– Как это – отдайте?
– Очень просто. Берете в руки пластинку и передаете ее мне. И после этого развеселая песенка о рулевой Ивановне, могу поручиться, исчезнет навсегда. – Чижов улыбался, точно готов был обнять Мошкарева. – Прошу вас не я. Просит Алексей Фомич, – которую ночь, бедняга, не может уснуть.
– Чего же это он, был у меня и не обмолвился?
– Или постеснялся, или позабыл… Подарите ему пластинку!
– Зачем дарить такое добро?
– Если не в силах подарить, тогда продайте.
– А сколько дашь, купец?
– Ее стоимость.
– Смеешься?
– Сколько же хотите?
– Трешку дашь?
Пришлось Чижову вынуть из кармана три рубля и пробудить в себе презрение к деньгам. Он схватил пластинку, бросил на стол деньги и ушел. В ту ночь Холмов, не зная, какой ценой добыта тишина, спал спокойно.
Утром Чижов показал Холмову пластинку, умолчав о ее выкупе. Тут же с видом победителя ударил хрупкую вещичку о свое колено: черные антрацитовые кусочки полетели во все стороны.
– Ну, зачем же? Пластинка-то ни в чем не повинна. – Холмов подождал, пока Чижов собрал осколки. – Виктор! А как дела с лекцией? Сегодня-то уже день двенадцатый?
– Готова!
Чижов принес папку.
– Тридцать четыре страницы. Ровно на час десять. Но можно, если пожелаете, поджать.
– Хорошо, Виктор, оставь папку, я посмотрю, – сказал Холмов. – Пойди к Ольге Андреевне. Она заметила в крыше какой-то недочет. Посмотри, а то дождь собирается. Да, вот возьми деньги.
– Что вы, Алексей Фомич? Вы же мне давали.
– То еще в Южном.
– У меня есть.
– А ты следуй известному правилу: дают – бери, бьют – беги. – Довольный своей шуткой, Холмов рассмеялся. – Бери, бери!
В тот день над Береговым гуляла гроза. Пришла она с юго-востока. Широкий ее фронт захватил горы и часть моря. Страшные, какие бывают только в ущельях, раскаты грома зарождались в горах, и сухой, оглушающий треск катился и катился к морю. Неожиданно на Береговой навалилась черная стена, и все вокруг залила вода, и залила с такой силой, что по улицам зашумели, забурлили реки. И хотя через час грозы не стало и реки на улицах обмелели, а черная стена, побагровев сверху, удалилась далеко в море, но небо от туч не избавилось, и дотемна моросило и моросило, как сквозь сито. Хорошо, что Чижов все же успел починить крышу.
В такую непогоду приятно сидеть на веранде и читать книгу или заниматься каким-либо делом. У Холмова было дело – лекция. Нужно было прочитать то, что сочинил Чижов. Холмов зажег настольную лампу, поудобнее уселся и раскрыл папку. Надел очки и начал читать. Тридцать четыре страницы – немало! Но что на этих страницах написал Чижов? Холмов читал страницу за страницей. Чем дольше читал, тем чаще на полях делал карандашные пометки, ставил вопросительные знаки или писал: «Плохо», «Не годится», «Как же это можно?»
Каждая прочитанная страница все больше и больше убеждала Холмова, что лекции, собственно, не было, а были наспех записанные общеизвестные истины о Ленине и пространные цитаты. «Не узнаю Чижова, – думал Холмов. – Это же совсем не то, что нужно. Эх, подвел Чижов, подвел».
Закрыл папку и задумался. В самом деле, что же произошло с Чижовым? Произошло что-то странное и непонятное, необъяснимое. Как он, бывало, хорошо писал статьи для газет, доклады или короткие речи! Заслушаешься! А вот лекцию или не сумел написать, или поленился. Не хотелось Холмову думать плохо о своем бывшем помощнике, а приходилось. Плохая лекция, вот что обидно. Ничего, кроме набора пустых слов, в ней не было, и это злило, раздражало. «Как же такое читать на людях? Кому нужна эта пустопорожняя трескотня? – думал Холмов, положив на колени папку и прислушиваясь к шуму дождя. – Осмеют, скажут: ну и Холмов, ну и старый коммунист, ну и пустомеля. Как неурожайная, с пустым колосом пшеница: соломы и половы много, а зерна нету. Ни живой мысли, ни теплого слова, ни сердечности. А слова-то какие обкатанные! Не слова – горох! Шумно ударяются, как о стенку, и отскакивают… Нет, нет, не узнаю Чижова. И не могу понять, что с ним случилось».
Шумел дождь. Вода, падая с крыши, издавала хлюпающие звуки. Холмов смотрел на низкое, затянутое тучами небо над морем, оно совсем близко припадало к воде, и думал о том, что зря он обиделся на Чижова. «Он меня не подвел, нет, – думал он. – Он сделал то, что умел, и сделал точно так, как делал раньше. Видно, что-то случилось не с Чижовым, а со мной. Ведь Чижов, бывало, и раньше угощал меня словесным горохом, и я не возмущался и ничего плохого о Чижове не думал. Брал папку и выходил на трибуну. Читал то, что для меня было написано, а люди, слушая, думали, что это и есть мои, мною выстраданные слова. Так что надо радоваться тому, что мне не понравилось то, что написал Чижов, что я подумал и о живой мысли, и о сердечности, и о каких-то особых словах. Умел же я писать и речи и статьи. Так зачем же передоверил Чижову? Увидел, что передоверил зря, обозлился и спрашиваю: кому нужна эта трескотня? Да, точно, кому? Никому. Я волнуюсь, краснею. Ничего, иногда полезно и позлиться и покраснеть. Только теперь мне нужна еще и решимость. Надо брать карандаш, бумагу и начинать писать. А Чижов пусть едет домой и занимается своими делами. Да, мне больно и горько. Может, попробовать исправить? Чижов выслушает мои замечания. Еще поработает, что-то убавит, что-то прибавит, что-то перепишет заново, и лекция получится. Нет, этого делать я не буду».
Глава 19Сидя за столом и предаваясь раздумью, Холмов стал убеждать себя не только в том, что Чижов ни в чем перед ним не виноват, старался, но не сумел, – а и в том, что читать с трибуны чужое, не тобой написанное, для многих ораторов давно стало узаконенным правилом. Шли годы, и к этим очевидным ненормальностям постепенно привыкли, с ними смирились и те, кто читал чужое, и те, кто писал для других. И разве Чижов первым начал писать статьи или речи для других, а от него потом уже и пошло? Ведь не так же все это? И до Чижова писали для других статьи, речи и доклады, и после Чижова их будут писать. Так в чем же вина Чижова? И почему его нужно отправлять домой?
Холмов закрыл глаза. Так легче было думать. Он невольно вспомнил, как когда-то, давным-давно, весленеевский Алеша сам писал для себя речи. И статьи и газеты писал сам. И какие это были хорошие статьи! А речи получались ершистые, задиристые. Тогда и на ум молодому Холмову не могло прийти, что кто-то должен написать для него речь. Сам писал, сам говорил, где по писаному, а где и без писаного. Бывало, несколько ночей не поспит – и речь готова, выходи на трибуну.
Мысленно он видел белоголового Алешу на станичной площади. Обыкновенная бричка в бычьей упряжке служила трибуной. Она приподнимала юношу над людьми. Море голов в шапках и в платках, острые плечи бурок, возгласы, аплодисменты. Соскакивал с брички, вытирал ладонью взмокшую чуприну. Друзья пожимали ему руки, говорили: «Алеша, черт! Ведь это же здорово! И откуда у тебя такие колючие словечки? На всю станицу слышно! А как ядовито сказал о кулаках! А поговорки и пословицы! Специально подобрал для этого митинга? Молодец, Алеша!..»
Значительно позже, когда он был выдвинут на большую и ответственную работу, Холмов перестал писать для себя речи. Это случилось как-то незаметно, и когда и как – он не помнил. Но случилось. Или вдруг разленился? Или вдруг разучился писать? Нет, не разленился и не разучился. Просто стал передоверять это другим, в частности Чижову. И привык к тому, что с Чижовым жилось легче и спокойнее. Не надо было напрягать мысль, вникать в какие-то мелочи, что-то записывать и что-то запоминать. Чижов и вникнет, и запишет, и запомнит.
К примеру, нужна статья для газеты. Выскажи тезисы в общих чертах, и Чижов через день-два положит на стол статью. Или требуется речь на областном совещании животноводов. Скажи Чижову – и выступление уже готово. Текст отпечатан на машинке, снабжен примерами, фактами, нужными цитатами, особо важные мысли подчеркнуты, – бери и читай. Если же нужен отчетный доклад, то он пишется во всех отделах по заранее намеченному на бюро плану. Но затем из отделов написанное поступает к Чижову, и он, по его словам, «стилизует, суммирует, подгоняет». За несколько дней до открытия конференции приходит в кабинет, кладет папку на стол и говорит:
«Алексей Фомич, полный порядок!» – «Растянул? А?» – «Да нет, что вы! Старался подогнать». – «Отчего папка разбухла?» – «Всего только на три часа тридцать минут. Самый раз!» – «А покороче не мог?» – «Почему не мог? Мог! Но не было же указаний. Да к тому же вспомните, на прошлой конференции вы говорили более четырех часов. Так что три часа тридцать минут…»
И разве Холмов один как журналист и докладчик пользовался услугами помощников? В области и в районах у него были подражатели и достойные ученики. Находились такие товарищи, которые тоже не прикасались ни к перу, ни к бумаге: у них были свои Чижовы, и с трибуны они читали то, что перед выступлением видели впервые. Оттого-то иной не очень опытный трибун заикался, сбивался со слов, путал фразы. Всем известен ставший уже анекдотом печальный случай, когда доверчивому оратору какой-то смельчак так, ради шутки, подложил в папку не те листы, которые были нужны. В нужных листах речь шла об улучшении заготовки кормов, а в тех, подложенных, излагались какие-то советы по женским модам. Оратор осрамился. Однако и после сего весьма поучительного факта иные речи писались и пишутся так же, как и раньше, – не теми, кто их читает.
Как-то Холмов приехал в самый отдаленный район и как раз за несколько дней до открытия районной конференции. В просторном кабинете секретаря райкома сидели человек десять. Они что-то писали. Столы были завалены бумагами. Холмов отозвал в сторонку секретаря райкома и спросил:
«Что это у тебя за народ?» – «Учителя», – спокойно ответил секретарь. – «Чего ради они оккупировали кабинет? Или здесь проверяют ученические тетрадки?» – «Какие тетрадки? – удивился секретарь. – Доклад составляют». – «И тебе не совестно?» – «А что? – с улыбкой спросил секретарь. – Алексей Фомич, мы люди подчиненные, мы смотрим, как там, повыше, и у себя стараемся делать так же. А что?» – «Что? Плохо это, вот что!»
«Да, плохо, – думал Холмов. – Не следовало мне слишком уповать на Чижова. Плохой подавал я пример. А ведь не все передоверяют свои дела другим. У тех, кто занимает большие посты, были и есть помощники. Без них трудно. Только не надо вменять им в обязанность составлять чужие речи или статьи. Немыслимо себе ни представить, ни даже подумать о том, чтобы кто-то смог за Ленина и для Ленина написать речь или статью. Хотя, как известно, и у Владимира Ильича были помощники…»
Так, в мучительных раздумьях прошла неделя. К лекции Холмов не возвращался. Было не до нее. В нем боролись две силы: одна требовала отправить Чижова домой, начать жизнь без помощника и опекуна и все делать самому. Другая сила всячески этому противилась. Она оберегала Чижова, говорила, что пусть он еще поживет в Береговом, что без него Холмову не обойтись: и привычка и возраст… Правильно поступил Проскуров, что велел Чижову отправиться в Береговой с Холмовым… «А может быть, если рассуждать здраво, пора мне расстаться с Чижовым?» – подумал Холмов.
В конце концов верх взяла та сила, которая выступала против Чижова. Поэтому, как ни трудно было Холмову, в ночь с воскресенья на понедельник он твердо решил расстаться с Чижовым. Ночью обдумал, что скажет Чижову утром и как скажет. Конечно, о лекции умолчит. Не в лекции дело.
Утром в понедельник они встретились у родника. Пришли умываться. Чижов, как обычно, принес мыло и полотенце. До пояса голый Холмов, сгибая худющую ребристую спину, наклонялся к роднику. Чижов из кружки поливал воду ему на шею, и она стекала по спине.
Взял у Чижова полотенце. Отворачивался, боялся посмотреть ему в глаза. Каким-то чужим, неестественным голосом сказал:
– Кажется, Виктор, пришла пора нашей разлуки.
– Вы о чем, Алексей Фомич?
– О тебе и о себе. Пожили, потрудились…
– Как же это понимать?
– А так и надо понимать, Виктор. – И снова Холмов не мог смотреть на Чижова. – Вдоволь мы, дружище, потрудились на руководящей ниве. Многие годы шли, сказать, в одной упряжке. Да, точно, упряжка была одна: я шел коренником, а ты пристяжным. А теперь вот надо расставаться. Поезжай, Виктор, в Южный, к семье. Да и Проскурову ты нужнее, нежели мне.
Чижов держал в руках полотенце, мыло и не знал, что сказать. Не верилось, что такое можно было услышать от Холмова. Молчал и Холмов, причесывая мокрый чуб. Посмотрел на Чижова, увидел те же полные ласки и тоски глаза и отвернулся.
– Значит, прогоняете, Алексей Фомич?
– Не прогоняю, а советую. Так, Виктор, нужно.
– Андрей Андреевич говорил же, чтобы я подольше пожил у вас.
– Верно, говорил. У Проскурова добрая душа. Но теперь я уже сам, без тебя.
– Или что не так исполнял? – Голос у Чижова дрогнул. – Может, лекция получилась неудачная? Так вы скажите, ее можно переделать.
– Лекцию еще не успел просмотреть, – краснея, соврал Холмов. – Это так, исполнял ты исправно мои поручения, все это правильно. И разве я был когда-либо тобой недоволен? Или обижался на тебя? Ничего этого, как ты знаешь, не было. Но всему, как известно, есть начало и всему есть конец. Вот конец и подошел… Да и кто ты теперь при мне, пенсионере? Так что лучше нам расстаться. И на прощанье хочу сказать, Виктор Михайлович, тебе спасибо – работал ты как мог…
В тоскующих глазах Чижова дрожали готовые упасть крупные слезы.
– А огорчаться не надо. – Снова Холмов отвел взгляд. – Мне ведь тоже нелегко. Но пойми, Виктор, так нужно. И расстаемся мы не навечно. Еще увидимся, и не раз. Летом пойдешь в отпуск, бери семью – и сюда к нам, на море! Ну, что голову повесил?
– Значит, окончательно, Алексей Фомич? Надо собираться?
– Да, да, собирайся. Надо! Я позвоню Проскурову. Пусть пришлет машину.
– Полечу на самолете. До аэродрома доберусь на автобусе или на вертолете.
И Чижов начал готовиться к отъезду. Раскрыл свой чемодан, постоял над ним. Вошла Ольга, и он сказал:
– Вот, Ольга Андреевна, завтра уезжаю.
– Что так быстро?
– Так пожелал Алексей Фомич. Прошу вас, Ольга Андреевна, присмотрите за ним.
– Жену об этом не просят. Холмов для меня не чужой.
– Это я понимаю. Но я в том смысле, что у Алексея Фомича в душе неспокойно. Разве вы ничего не замечаете? Это началось у него еще дома, когда Алексей Фомич ушел на пенсию. Тут же, в Береговом, усилилось. Может быть, следует обратиться к врачам? Я попрошу Андрея Андреевича.
– Ради бога, никого ни о чем не проси! – резко сказала Ольга.
– Я, конечно, не скажу, но вы посудите сами, – говорил Чижов. – В чем я замечаю это его душевное расстройство? Стал он какой-то тихий да ласковый. Приглядитесь к нему. Не узнать! Какой был орел! А теперь? Нету орла, нету! Будто ему крылья пообрубили. И все это отчего? От душевной боли. Меня отсылает и не злится. Говорит ласково, тихо. В нормальном здравии, я его знаю, не стал бы меня отсылать.
– Глупость говоришь, Виктор.
– Я же только вам.
Утром Холмов проводил Чижова до вертолетной станции. Прощаясь, они вдруг рывком обнялись. Холмов еще раз увидел знакомые, добрые и преданные глаза Чижова. В них снова дрожали и не падали крупные капли слез.
Еще долго Холмов стоял на залитой солнцем улице и смотрел в чистое небо, где плыл вертолет.








