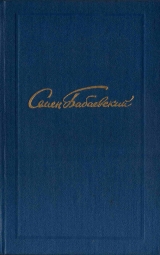
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 3"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Те тополя, что шпилями своими вонзались в небо, вблизи оказались могучими деревьями с темной, потрескавшейся корой. С двух сторон они обходили старую церковь с позеленевшими от времени кирпичными стенами и смыкались возле дома с каменным крыльцом. Дом этот, на высоком каменном фундаменте, когда-то принадлежал станичному атаману. Теперь же в нем помещался станичный Совет.
В дом вели крутые, из серых каменных плит ступеньки, сильно стертые ногами. Так же, как во всех станицах, перед домом образовалась площадка для стоянки машин и подвод. Была она укатана колесами и утрамбована копытами. Валялись объедья сена, темнели пятна машинного масла. И тут же, тоже как во всех станицах, стояла коновязь из дубовых, искусанных конскими зубами бревен.
Перед крыльцом выстроились грузовики, подводы. Лошади выпряжены и поставлены к задку, куда положено сено. У коновязи дремали два неказистых, похлестче Кузьмы Крючкова, конька под старыми, видавшими виды седлами. Хвосты куце подвязаны, ноги и животы забрызганы грязью.
Никто, пожалуй, не заметил, как Холмов, в бурке и в папахе, похожий на табунщика или чабана, подъехал к коновязи; как он, натужась, с трудом слез с седла, и не сам, а с помощью женщин; как одна из женщин привязала коня к коновязи, потом обе они заботливо взяли всадника под руки и помогли ему подняться по ступенькам.
Превозмогая боль и подметая полами бурки пол, Холмов вошел в коридор. И этот длинный, просторный коридор, и смежная с ним, тоже длинная и просторная комната были заполнены народом. Мужчины, женщины, молодые, старые. Кто сидел на лавке, уронив на грудь голову, и, казалось, дремал. Кто стоял у окна и бесцельно смотрел на тополя и на церковь. Хромая, Холмов смело, как это он делал всегда, когда, бывало, появлялся в станичном Совете, направился к дверям, пухлым оттого, что они были обтянуты войлоком и дерматином, и табличкой «Председатель стансовета Ивахненко А. А.». Возле дверей, как на страже, стоял коренастый, крепкого сложения мужчина с белесыми усами. Он преградил рукой Холмову дорогу и сказал:
– Эй, бурка! Куда прешь без очереди!
– Можно и повежливее! – Холмов с упреком посмотрел на светлоусого мужчину. – Я не бурка!
– А кто же ты будешь?
– Человек!
– О! Слыхали, граждане!! Нашел чем хвастать!
– Родимый, все мы тут люди-человеки, – сказала суровая на вид старая женщина, сидевшая на лавке. – Так что прилаживайся к общему порядку и жди своего череда.
– Какие дела у вас к Ивахненко? – по привычке деловито спросил Холмов, взглядом обращаясь к людям. – И кто вы?
– Кто, кто, – сердито ответил мужчина со светлыми усиками. – Слепой, что ли? Не видишь? Жалобщики мы!
– И у всех у вас есть дела к Ивахненко? – тем же деловым тоном спрашивал Холмов. – Давно тут сидите?
– Да ты чудак, ей-богу! Или с неба свалился?
– К кому же еще пойдешь, как не к Ивахненко? – говорил старик, сидя на лавке и опираясь на суковатый посох. – Больше идтить не к кому. Мы народ, а Ивахненко есть слуга народа, стало быть, наш слуга. А без слуги мы и шагу ступить не можем. Вот и сидим, поджидаем, когда наш слуга изволит нас допустить к своим ясным очам.
– Слуга – это, конечно, правильно, – сказал Холмов. – Вы Ивахненко избирали, и он обязан служить вам верой и правдой.
– Нету у Ивахненки уже ни веры, ни правды.
– Слуга сидит там, в кабинете, а господа в коридоре огинаются.
– Почему же вы не идете к Ивахненко? – спросил Холмов. – Почему не потребуете?
– Опять свое: почему? – Мужчина со светлыми усами с горестной улыбкой посмотрел на Холмова. – Сам-то ты кто? Табунщик или чабан? Живешь в степи, одичал там без людей. Через то все кажется тебе в диковину.
– К Ивахненко, брат, так не пройдешь, – сказал мужчина с болезненным небритым лицом. – К нему надо походить да подождать. Я вот уже третий месяц торчу здесь по пустяковому делу.
– Какое же у вас дело? – спросил Холмов.
– Нет, старик, ты, видать, заявился сюда не со степи, а из космоса! – искренне удивился мужчина со светлыми усами. – Да ты даже не знаешь, какие у земных людей бывают дела? Смех! А может, дурачком прикидываешься? Может, выпытываешь? Что, да как, да какие жалобы?
– Просьбы или, сказать, жалобы, известно, разные, – сказала мрачная старая женщина, сидевшая на лавке. – Сказать, дела житейские. У одного то, у другого это. Или что продать, или что купить, или налоги, или еще что. Без разрешения Ивахненко ничего нельзя. Через то и тянемся к нему, как к магниту.
– Отчего же он вас не принимает? – с той же озабоченностью спросил Холмов. – Уже прошло полдня.
– Шут же его знает, отчего не принимает!
– Это ты, старик, у него спроси!
– Пустите его без очереди, вот он и спросит! – подал кто-то голос из толпы. – Старик, видать, бедовый! Да и хромой он!
– Без очереди никому не позволю! – решительно заявил светлоусый мужчина. – Все мы тут равные!
– Присаживайся, родимый, – сказала пожилая женщина, отодвигаясь и освобождая место на лавке. – Насиживай очередь. Тебе-то еще, горемычному, ждать да ждать.
На сердце у Холмова было тоскливо. Не зная, что делать и как поступить, он подобрал полы бурки и сел на предложенное ему место рядом с пожилой женщиной. На лавке, вытянутой вдоль стены, видимо, так часто и так подолгу сидели люди, что своей одеждой они до блеска вытерли давно крашенные доски.
Холмов снял папаху, ладонью вытер лоб и, с грустью глядя на стоявшую у порога Евдокию и ее подруг, на скучные лица людей, задумался. «Голосуя за Ивахненко, они верили, что потом, когда он станет их избранником, смогут прийти к нему запросто, как приходят к самому близкому человеку, – размышлял Холмов. – И вот ошиблись. Они сидят в коридоре, и Ивахненко не приглашает их к себе в кабинет. Тот дед, что сидит, низко опустив голову, с насмешкой говорил об Ивахненко как о слуге народа. „Без слуги мы и шагу ступить не можем“. В этом-то и беда! Если бы было наоборот!.. Если бы депутат и шагу не мог сделать, не спросив об этом позволения у своих избирателей! И почему бы не сделать так, чтобы не Ивахненко ждали люди, собравшись у дверей, а Ивахненко ждал бы людей, радовался бы их приходу, готовый во всем прийти на помощь?»
– И все же, братцы, я пойду без очереди!
То ли потому, что сказано это было энергично и твердо, как о чем-то давно решенном, то ли потому, что человек в бурке обратился к людям с доверительным словом «братцы», только на этот раз никто Холмову не возразил. Даже сердитый светлоусый мужчина улыбнулся, сам открыл дверь, и Холмов, подметая буркой пол и припадая на правую ногу, прошел в кабинет.
На вид Ивахненко можно было дать лет тридцать пять. Одевался он по-казачьему. Полугалифе, хромовые сапоги, рубашка со стоячим воротником, подхваченная узким горским пояском с наборами черненого серебра, наверное, работы дагестанских мастеров. Заложив руки за спину, он прохаживался по кабинету. Следом за ним с раскрытой папкой в руках ходил худой высокий мужчина. Иногда тот нагибался, как бы желая показать, как легко сгибается его спина.
Ивахненко был невысок, плотно сбит, упитан. Лицо его, чисто выбритое и несколько одутловатое, выражало давнее, устоявшееся самодовольство и как бы говорило: надо знать Ивахненко, каким он был и каким стал, а тогда удивляться. Ведь и сам он, и его лицо сделались такими лишь после того, как Ивахненко стал предстансовета, а до этого и сам он, и его лицо были обыкновенными, ничего в них такого особенного не замечалось.
Когда в кабинете появился Холмов, Ивахненко как раз остановился возле стола и рассматривал то, что находилось в раскрытой папке. Высокий мужчина, положив папку на стол, еще раз показал, как у него легко сгибается позвоночник, легонько толкнул Ивахненко и сказал?
– Поглядите сюда, Антон Антоныч.
Ивахненко поднял голову. Удивленно смотрел на Холмова, а Холмов на него. И вдруг Ивахненко побагровел, ударил кулаком о стол и заорал:
– Кто! Кто позволил?!
– Сам вошел.
– Обратно! Слышишь? Марш обратно!
– Не ори, Ивахненко. – Немало усилий Холмову стоило спокойно говорить и спокойно смотреть на разгневанного Ивахненко. – И не строй из себя грозного атамана.
– Слышишь, Миша? – Ивахненко обратился к высокому мужчине, умевшему легко сгибаться. – Нет, ты слышишь, Миша? Он меня поучает?!
– Люди пришли к тебе с просьбами, – продолжал Холмов, – а ты, как какой князек, не изволишь принять их. Есть ли у тебя, Ивахненко, то, что именуется совестью?
– А ежели ее, допустим, нету? – смеясь, спросил Ивахненко. – Тогда что?
– А то, Ивахненко, что те люди, что сидят в коридоре и ждут, когда ты соизволишь их принять, твои избиратели, – все с тем же видимым спокойствием говорил Холмов. – И они уже решили отстранить тебя от должности и лишить депутатских полномочий, как не оправдавшего их доверие.
– Постой, постой, что ты мелешь, старик? – Ивахненко со смехом посмотрел на высокого мужчину. – Ты слышал, Миша? Угроза? Да кто ты, такой прыткий, будешь? Чабан или табунщик? И откуда заявился?
– Я Холмов. Алексей Фомич Холмов!
– Кто, кто? Кажись, оглох я сразу на оба уха! – Ивахненко нехотя смеялся. – Миша! Это же комедия! Видал этого гуся? Он Холмов?!
– Плюньте на его болтовню, Антон Антоныч, – сказал мужчина, легко и умело сгибая спину. – Я его зараз выпровожу. Дозвольте? Или позволить милиционеру?
– Нет, Миша, погоди, мы и без милиции обойдемся. Интересный же тип! Он – Холмов! Как тебе, Миша, это нравится? – И снова громкий, натужный смех. – Слушай, а ты, случаем, не чапаевский Петька? А? В нашу станицу как-то уже заявлялась чапаевская Анка-пулеметчица. Морочила головы, самозванка паршивая! А вот Петьки у нас еще не было. Ну так что, Петька? И ты прибыл, да? Ну, Петька, расскажи, как свершались героические дела в Чапаевской дивизии. Может, уже позабыл? По тебе видно, что давненько это было, постарел, бедняжка Петька!.. Или лучше будешь Холмовым? Как? А?
– Ну вот что, Ивахненко! Довольно паясничать! – Холмов побледнел, и в голосе его появилась былая командирская твердость. – Еще раз говорю: я требую, чтобы ты сейчас же вышел к людям и извинился перед ними! После выслушаешь их и разрешишь все их жалобы. Там стоят женщины из Ветки. Относительно картошки, которую ты запретил им выкапывать. Я требую, чтобы просьба веткинцев…
– Приказываешь? – багровея, перебил Ивахненко. – Требуешь? Мне приказываешь? А ежели я плюю на твой приказ? Тогда что?
– Да гнать надо его взашей, Антон Антоныч! – сказал высокий мужчина, ловко сгибая спину. – Чего вы с ним нянькаетесь? Чего завели балачку?
– Погоди, Миша! Тогда что, спрашиваю? Что будет тогда?
– Тогда я позвоню Калюжному.
– Калюжному? Григорию Кондратьевичу? – Ивахненко хотел все так же нарочито, нехотя рассмеяться и не смог. – Слышишь, Миша? Чапаевский Петька будет звонить Калюжному! Григорию Кондратьевичу! Так чего ж ты стоишь? На, бери телефон! Берн, бери, не бойся! Анка-пулеметчица тоже кое-кому пыталась звонить. Бери трубку и проси райком. Григорий Кондратьевич хорошо знает Холмова. Да ты смелее! Чего замер на месте? Или поджилки затряслись? А! Ты не знаешь, как надо звонить? Зараз я тебе помогу. – Ивахненко взял трубку телефона. – Почта? Дайте райком. Калюжного… Да, срочно! Бери и говори!
Трудно становясь на больную ногу, Холмов приблизился к столу, взял трубку и сказал:
– Привет, Григорий! Это я, Холмов! Какими судьбами? Вот хожу по белу свету и забрел в твой район, В данную минуту нахожусь в Широкой, в кабинете у атамана Ивахненко. Прошу, приезжай-ка сюда. Да, да, немедленно, сию же минуту! Отлично, отлично!.. Буду ждать!
Калюжный не заставил себя ждать.
Глава 29«Сколько же мне придется пролежать вот так, вытянув ноги? – думал Холмов – Ведь совсем не могу становиться на больную ногу, и если бы не Калюжный и не Надюша, то хоть ложись в больницу. И надо же было случиться этой болезни именно теперь».
Он находился в доме у Калюжного. Вечерело. Горел закат, пламенели окна. Холмов лежал на широком, удобном диване, до пояса укрытый шерстяным пледом. Седая голова покоилась на высокой подушке, удивительно мягкой, наверное, набитой чистейшим гусиным пухом. Ноги вытянуты. Больная ступня обложена ватой и затянута бинтом. Нога согрелась, успокоилась, и Холмов боялся ею пошевельнуть.
Разъезжая, бывало, по области, Холмов иногда ночевал у Калюжного. Ему нравилась тишина большого дома и сам дом, сложенный из красного кирпича, под белой цинковой крышей, нравились в большой комнате стеллажи, забитые книгами.
Дом стоял в саду, далеко от главной станичной улицы, и сюда не долетали ни дорожная пыль, ни шум машин. Не одну ночь Холмов провел на этом удобном диване. Знакома была ему и подушка, набитая пухом. И тогда, бывало, лежа вот так, как теперь, он видел и эти поднимавшиеся к потолку стеллажи, и эти большие, выходившие в сад окна. И теперь ему чудилось, что в жизни у него не произошло никаких перемен: все осталось так, как было; вот подойдет своей деловитой походкой Чижов и спросит, надо ли заносить чемодан или пусть останется в машине. И Холмов, не вставая, скажет: «Заноси, Виктор, и чемодан, и все, что нужно. Переночуем у Калюжного, а утром поедем дальше».
Калюжный был страстным любителем книг. Среди секретарей сельских райкомов такого книголюба встретишь не так-то часто. Он не столько любил читать книгу, сколько держать ее в руках и любоваться ею. Каждая купленная им книга, да к тому же если она куплена в букинистическом магазине, вызывала у него на лице добрую улыбку. Он вел переписку со столичными букинистами, умел поговорить о Древнем Риме и античной Греции и этим гордился. Ему нравилось быть непохожим на других. У всех, к примеру, нет большой библиотеки, а у Калюжного есть. У всех есть дети, а у Калюжного их нет. У других секретарей райкома жены чаще всего учительницы или домашние хозяйки, а у Калюжного жена – врач-хирург, да к тому же еще и заведует районной больницей.
Надежда Калюжная, или Надюша, как любил называть ее Холмов, была милая, улыбчивая худенькая женщина, никак не похожая на хирурга. Обрадованная неожиданным появлением в своем доме Холмова и встревоженная тем, что он хромал, Надюша заставила его принять ванну. Напоила чаем и уложила в постель. Из больницы пришла лаборантка в белом халате и взяла для анализа кровь. Присев на диване возле Холмова, Надюша осмотрела опухший сустав большого пальца на его правой ноге, сделала водочный компресс и, укрыв желанного гостя пледом, сказала:
– Вот так и лежи, Алеша.
– И долго?
– С недельку, а может, и больше.
– Да ты что, Надюша? Мне же в Весленеевскую нужно.
– Ничего, Весленеевская подождет.
– Что это за пакость ко мне прицепилась?
– Обыкновенная подагра, а если перевести с греческого – это капкан для ног. Видимо, застудил ногу.
– Верно, на капкан похоже, – согласился Холмов. – Как же мне от него избавиться? Да побыстрее.
– Побыстрее трудно. – Надюша мило улыбнулась Холмову. – Вот посмотрим, что покажет анализ крови. А пока, Алеша, основное для тебя лекарство – постель и покой. Вот так-то. – И снова озаряющая лицо улыбка. – Так что волей-неволей поживешь у нас. А то как уехали с Олей в свой Береговой, так о нас с Гришей и забыли. Алеша, может, вызовем Олю? А? Пусть приедет.
– Ольгу беспокоить не надо, – сказал Холмов. – Мне еще нужно добираться в Весленеевскую, а она туда все одно не поедет.
– Ну, спи, Алеша. Пока Гриша управится в райкоме со своими делами, а ты поспи.
Закат погас. Окна затянула серая пелена. Сумерки, тишина. Ни стука дверей, ни звука шагов. Наверное, в доме никого не было. Холмов лежал, не двигаясь и боясь потревожить больную ногу.
Вспомнил, как в кабинет Ивахненко вошел Калюжный и как Ивахненко, бледный, растерянный, подбегал то к Калюжному, то к Холмову и сквозь слезы говорил: «Не виноват я!.. Не узнал!.. Убейте меня – не виноват я!..»
Голос был плачущий, скорбный, и весь Ивахненко, сгибаясь и как-то странно наклоняя голову, был похож на человека, на которого вдруг свалилось страшное горе. Глядя на него, никто не сказал бы, что это тот же грозный и самодовольный Ивахненко, каким он был еще час назад. И сгибал спину, и горбился, и в глазах таились покорность и готовность сделать все, что ему будет приказано. Светлый чуб растрепался и спадал на лоб, покрытый мелкими испаринками. Был Ивахненко в ту минуту жалок до такой степени, что на него неприятно было смотреть. «Не виноват я!.. Не узнал!.. Убейте меня – не виноват я!..» – слышался его жалобный голос.
Холмов захромал из кабинета, отдал Евдокии бурку, папаху, сказал, чтобы отвела в Ветку коня и передала веткинцам, что они могут выкапывать свою картошку. Ивахненко вышел следом и все говорил, как помешанный, свое: «Не виноват я!.. Не узнал!.. Убейте меня – не виноват я!..»
Холмов и Калюжный сели в машину и уехали, а Ивахненко, не замечая собравшейся толпы, стоял на крыльце и уже чуть слышно повторял все те же слова.
Это его протяжное, похожее на плач: «Не виноват я!..» – теперь, когда Холмов лежал на диване, звучало в ушах и вызывало неприятное чувство.
«Если Ивахненко не виноват, тогда кто же виноват? – думал Холмов. – Не узнал меня? А если бы узнал? По тому спокойствию, которое проявил Калюжный, можно подумать, что Ивахненко и в самом деле не виноват только потому, что меня не узнал. Тогда кто же виноват? Может быть, мы виноваты? Калюжный, я. Проскуров? Может быть, и есть наша вина, но исключительно в том, что мы не умеем своевременно распознавать вот таких „деятелей“, как Ивахненко? Или наша вина в том, что мы доверяем управление людьми вот таким, как Ивахненко? И он шкодил, пакостил, а теперь вопит: „Не узнал!.. Не виноват я!..“ Вымаливает слезами пощаду и прощение, чтобы снова остаться на том же месте людям на горе. Но почему Калюжный был спокоен, ничего не сказал Ивахненко, а мне, когда мы сидели в машине, говорил: „Я, конечно, знаю Ивахненко. Горяч, грубоват, но работяга и нравится мне своей энергичностью. Я его вызову, сделаю внушение“».
Эти слова так удивили Холмова, что он посмотрел на Калюжного, как на незнакомого человека, и спросил: «Да ты что, Григорий? Не внушение ему надо делать, а гнать его из станичного Совета». – «Зачем же горячиться? – спокойно сказал Калюжный. – Вина его бесспорна, и райком, в этом я могу поручиться, с Ивахненко взыщет… Он и сам уже признал свою вину. Но ты понимаешь, Алексей, он же тебя не узнал. Да и как мог узнать?» – «Да разве во мне дело? Разве речь о том, узнал меня или не узнал? – спросил Холмов. – Не о себе же я печалюсь!» – «Я понимаю: народ, демократия. Еще древние греки…» – говорил Калюжный.
«Нет, он так ничего и не понял, – думал Холмов, глядя на потемневшее окно. – Почему же я понимаю, а Калюжный не понимает? И выходит, что нет виноватых и что вина Ивахненко если и есть, то только в том, что меня он, видите ли, не узнал. А те, кто сидел в коридоре! Их-то он тоже не узнал? А если бы на моем месте был другой, которого и узнавать не надо? Тогда что?..»
Обутая в комнатные тапочки, неслышно вошла Надюша. Остановилась возле дивана. Смотрела на Холмова, не зная, спит он или не спит.
– А! Надюша! – подал голос Холмов. – Мне очень хорошо на этом прекрасном диване! Лежу вот и мечтаю.
– О чем?
– О разном. Лезут в голову всякие думки.
– А как твой капкан? Анализ крови показал, что ничего опасного нету.
– Совсем не слышно боли, – глядя на улыбающуюся Надюшу и сам не в силах сдержать улыбку, сказал Холмов. – Будто ее и не было. Просто чудо! Спасибо тебе, Надюша, за врачевание. Я могу встать?
– Благодарность, так и быть, приму, а встать не разрешаю.
Она зажгла свет, портьерами затянула окна. Потом подсела к Холмову и, глядя на него все с той же белозубой, прелестной улыбкой, сказала:
– Алеша, к тебе брат просился. А я не пустила, думала, что спишь.
– А где он?
– Ужинает. Гриша распорядился, чтобы он к нам приехал. Да и чего ради сидеть ему в Ветке?
– Скажи, чтоб вошел.
Надюша ушла позвать Кузьму. Хмурый, обиженный, он подошел к брату и, переступая с ноги на ногу, не знал, что сказать.
– Лежишь?
– Приходится.
– Плохие у нас получаются делишки. Опять нету движения.
– Не гожусь, Кузьма, для движения. – Холмов приоткрыл плед и показал забинтованную ногу. – Но мне уже лучше. Дело идет на поправку. Поживи пока тут, отдохни. Хозяева – люди хорошие.
– Оно-то так, хозяева, вижу, хорошие, да только нужно нам двигаться, – стоял на своем Кузьма. – Сегодня солнце садилось без туч, погода, кажись, повернула на улучшение. В самый бы раз тронуться в дорогу.
– Завтра тронемся.
– Умеешь завтраками кормить. – Кузьма помолчал, потоптался. – Ну что ж, пойду к коню. – И не уходил. – А эта, Евдокия, ух как обрадовалась! И все бабы возрадованы. Ходять по хатам и объясняют, что ихняя взяла. Это верно, братуха, будто в Совете им сказали, что картошку можно копать беспрекословно?
– Верно.
– Подсобил-таки? Выручил? Бабы сильно тебя благодарять. Это, конешно, хорошо, что людям от тебя имеется польза, а все ж таки засиживаться нам тут нечего. Сколько еще шагать и шагать.
Когда удрученный Кузьма, постояв немного, ушел, в комнате появилась Надюша, говоря:
– Алеша! Что-то брату твоему у нас не по душе. Молчит, дуется.
– От природы такой неприветливый. А тут еще на меня обозлился.
– За что?
– Обещал сегодня тронуться в дорогу, а вот лежу.
– Не по своей же вине. Алеша, хочешь чаю? – спросила она. – Поужинаем, когда придет Гриша, а сейчас попьем чаю. У меня есть отличное варенье. Из лесной ежевики. Домашнего приготовления.
С проворностью заботливой хозяйки Надюша придвинула к дивану низкий полированный столик и поспешила на кухню. Вернулась в белом, с кружевной отделкой фартуке, с подносом. На столе появились два фарфоровых чайника, стаканы в красивых, черненого серебра, подстаканниках, сахарница, масленка со сливочным маслом, ваза с вареньем из ежевики. Наливая в стаканы чай, Надюша говорила, что Григорий вот так каждый день с утра и до вечера на работе, что нет у него времени даже подойти к своим книгам.
– Сколько их на полках непрочитанных и даже не взятых в руки, – со вздохом сказала она. – А вот те, видишь, лежат еще в пачках. По почте получили из Ленинграда. Гриша просил букинистов, упрашивал, торопил раздобыть ему какие-то важные книги по Древнему Востоку. Книги были раздобыты, и вот они лежат, и некогда их распечатать. Я уже не говорю, что половина его зарплаты идет на книги. А для чего? Для того только, чтобы показать, что он не такой, как все.
– А как у Григория с научной работой? – спросил Холмов, сидя на диване и прикрывая ноги пледом. – Закончил свой труд о демократии?
– Замучился Гриша с этим трудом. – Она посмотрела на Холмова без улыбки, и в глазах ее заблестели слезы. – И труд этот, Алеша, только для того, чтобы показать себя. Я ему говорила: Гриша, брось эту затею. Зачем изнурять себя, ведь у тебя и так много дел по району.
– А он что же?
– И слушать не желает. – Слезы душили ее, и она, приложив платок к глазам, заплакала. – Трудная у нас жизнь, Алеша. Детей нет, живем пустоцветами, а тут еще это его оригинальничание.
– Зачем же слезы, Надюша?
– Не могу, – говорила она, прижимая платок к глазам. – Я же вижу: творится с ним что-то неладное. Кому все видно? Жене… Став секретарем райкома и занимаясь наукой, Гриша возомнил себя и великим и непогрешимым. Это, скажу тебе правду, меня пугает. Поговори с ним, Алеша, открой ему глаза.
– Что же ему скажу?
– Ну хоть что-нибудь. – Она попробовала улыбнуться и не смогла. – Скажи о себе. Ты был и не на такой должности, а с тобой же этого не было?
– Видишь ли, Надюша, что-то похожее, возможно, было и со мной, – грустно сказал Холмов. – Самомнение – заболевание опасное. Думаю, советы тут не помогут… Так что там Гриша сочинил? Покажи.
Надюша принесла увесистую папку, завязанную синими тесемками, и сказала:
– Вот оно, и Гришино и мое горюшко.
Холмов поставил на столик стакан, положил папку на колени, развязал тесемки. Надел очки и прочитал название: «История борьбы народных масс за демократические права в различные эпохи и на различных стадиях общественной формации, а также развитие и становление социалистической демократии как олицетворение свободы личности в стране победившего социализма». Молча полистал рукопись и, не глядя на Надюшу, сказал:
– Название несколько длинновато. И написано много.
– Много, верно, но кому это нужно! Поговори, Алеша, с ним хоть об этом. Пусть не мучает себя и других. Пусть бросит это. Он тебя уважает и твое мнение ценит.
– Сперва надо бы прочитать.
– Я читала. Поверь мне: все, о чем пишет Гриша, давно написано другими, и написано лучше. А он уперся. Ты же знаешь его характер. Поговори с ним, прошу тебя.
– Хорошо, поговорю.








