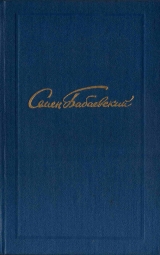
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 3"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц)

Белый свет
Роман
Не понимаем мы, – и где же нам понять? —
Что белый свет кончается не нами.
Что можно личным горем не страдать
И плакать честными слезами.
Н. А. Некрасов
Книга первая
Под небом юга
А у меня уже виски седые,
Моих раздумий бесконечна нить…
Николай Рыленков
Глава 1
В небе плыл вертолет.
Плыл и покачивался, как подвешенная к потолку детская люлька. Покачивались и море, и белая песчаная кайма вдоль берега, и укрытые лесом горы. Покачивался и Береговой, небольшой приморский городок, лежавший на отвесном обрыве, как на карнизе…
И вот ножки-кулачки осторожно коснулись асфальта, умолк мотор, и лопасти опустились, точно уставшие руки. Из вертолета вместе с другими пассажирами вышел и Чижов. На нем был полувоенный костюм, фуражка с матерчатым козырьком из того же материала, что и костюм, начищенные до блеска сапоги. Гимнастерка туго подтянута армейским ремнём. С одним портфелем и плащом на руке, Чижов направился по узкому переулку. Шел и думал, какие еще дела поджидают его в Береговом.
Дело, которым вот уже более двух месяцев занимался Чижов, касалось ремонта дома. Неказистое строение из двух комнат и открытой, обращенной к морю веранды было куплено для Алексея Фомича Холмова. Выйдя на пенсию, Холмов по настоянию врачей собирался жить в Береговом. Ранее этот домик принадлежал вдове Кагальницкой и был сильно запущен. Основные хлопоты по ремонту взял на себя сын Холмова Антон. Он работал на винодельческом заводе в шести километрах от Берегового. Чижов же, как бывший верный помощник Холмова, приезжал в Береговой по его поручению, привозил деньги и помогал Антону добывать нужный строительный материал.
Нанятые Антоном ремонтные рабочие заменили подгнивший пол, оштукатурили и побелили стены, покрасили рамы, двери, перекрыли крышу белым шифером, поставили новые водосточные трубы. Ремонт закончили, можно было бы Холмову переезжать. Но вот беда: где взять мебель – купить ее, да еще хорошую, в Береговом было не так-то просто. Еще в дороге Чижов решил сегодня же побывать у секретаря райкома Медянниковой, чтобы с ее помощью приобрести мебель и дня через два перевезти Холмова в Береговой.
Обычно в те дни, когда прилетал Чижов, в домике всегда находился Антон Холмов. Сегодня Антона не было, и Чижов, несколько озадаченный этим обстоятельством, прошел на веранду. И окна и дверь с веранды были открыты. «Наверное, Антон уже был, да куда-то уехал», – подумал Чижов.
В двух шагах от веранды росла плакучая ива. Деревцо невысокое, с опущенными до земли веточками-шнурочками. Возле ивы сочился родник. Как-то ново и необычно: во дворе – родник. Вода, собираясь в углубление, поросшее сверху травой и похожее на тазик, была чистая, сквозь нее виднелось усыпанное мелкими камешками дно. Чижову нравились и родник, и ива, и сырая стежка, тянувшаяся от родника к воротам. Чистенький после ремонта домик своими открытыми окнами как бы спрашивал у Чижова, когда же приедут настоящие хозяева. «Ничего, теперь уж скоро приедут, – думал Чижов, снимая фуражку и вытирая ладонью мокрый лоб. – Только будет ли Алексей Фомич доволен жильем?.. В таком невзрачном домишке жить он не привык…»
Чижов вошел в дом. Там было душно и пахло краской. В первой комнате стояли две кровати с железными сетками, на полу лежали свернутые полосатые матрацы. Посреди комнаты, еще без места, находился письменный грубой работы стол, пустой, с раскрытыми дверцами платяной шкаф, вдоль стены расставлены жесткие, на тонких ножках, стулья.
Всю эту мебель Антон купил без Чижова, даже не посоветовавшись с ним. Мебель была разнокалиберная, и это огорчило Чижова. – «Кому нужен такой ширпотреб! – думал он, покачивая рукой гремевшую кровать. – И эти железные кровати со скрипучими сетками, и этот неуклюжий стол, и эти жесткие стулья. Видно, плохо Антон знает своего отца. Будет нагоняй, будет. Кому-кому, а Чижову за такую мебель достанется…»
Он снова вернулся на веранду, уселся в шезлонге, который тоже был куплен без него, вытянул ноги и задумался. «Шезлонг – это хорошо, такая покупка Алексею Фомичу понравится, – думал Чижов. – А вот мебель… Беда!»
Почему-то подумал он о Мошкареве – будущем соседе Холмова. Странным казался Чижову грузный мужчина с небритыми, одутловатыми щеками и нависшими бровями. Чижов видел Мошкарева раза два, когда тот выходил из своего дома. Голый до пояса, заросший рыжими волосами так, что на спине и на груди у него, казалось, лежали овчинки. Потягивался, шумно зевал, разводил сильными волосатыми руками. Умывался возле яблони, к стволу которой был прибит рукомойник. Полотенцем вытирал курчавую грудь, и седую, низко стриженную голову. Тут же, возле яблони, садился на стульчик, читал какие-то письма.
Двор Мошкарева со стороны переулка сторожил кирпичный, выше человеческого роста забор. Ворота и калитка из прочных досок. По меже стоял низкий штакетник, прошитый ежевикой.
Однажды над ежевикой показалась завитая русая головка и улыбнулась Чижову. Улыбнулась мило, по-девически застенчиво. Чижов поздоровался с миловидной соседкой и назвал ее барышней. Соседка обиделась, покраснела и со смехом сказала:
– Ошибаетесь! Не барышня, а жена Мошкарева!
– Да неужели? А как же вас звать?
– Верочка…
– А по отчеству?
– Без отчества! Верочка, и все. Меня так все зовут.
Другой раз Чижов встретился с Верочкой при обстоятельствах несколько необычных. За ней гнался Мошкарев. Верочка легко перепрыгнула изгородь и побежала к Чижову и Антону. И когда ее уже настигал Мошкарев, двое мужчин преградили ему путь. Мошкарев сжал кулаки и, матерясь, ушел домой.
– Что это он расходился? – спросил Чижов.
– А ну его, – сказала Верочка. – Он же злющий, как черт.
В те часы, когда Мошкарев в широких, вобранных в голенища штанах, в просторной куртке и в шляпе из соломы уходил из дому, тотчас появлялась Верочка.
Вот и сегодня Мошкарева, наверно, не было дома. Верочка показалась у штакетника, улыбнулась Чижову и спросила:
– Опять вы приехали?
– Только что. С аэродрома на вертолете приплыл.
– Страшно на нем?
– Как на качелях.
– Все хотела у вас спросить… Кому это вы гнездо приготовили?
– Хорошим людям.
– А-а… И вы будете с ними жить?
– Нет, не буду…
– Почему же? – искренне удивилась Верочка. – У нас тут хорошо. Море!
– Море – это еще не главное.
– Интересно! А что главное?
– Дело, которым человек занят.
– Аа-а… У тех хороших людей есть дело в Береговом?
– Теперь у них одно дело – отдых.
– Кто же они, наши новые соседи?
– В этом домике будет жить человек известный – Алексей Фомич Холмов, – ответил Чижов. – Слыхала о нем? Первый секретарь нашего Прикубанского обкома.
– А вы сынок его?
– Нет, я его помощник.
– А-а… – Верочка грустно улыбнулась Чижову. – Видно, вы счастливый. Я всегда говорила, что есть на свете счастливые люди, есть. Может, их мало, но они есть. Вот моя подруга Лариса тоже счастливая. Продала вам свой дом и улетела. А зачем он ей? Разве в доме счастье? Личная жизнь моя и Ларисы были одинаковы. Обе мы из детдома. Выросли без родителей. Обе работали машинистками. В один год вышли замуж за пенсионеров, жили по соседству. Но Лариса похоронила своего благоверного и стала вольная, как птица. И знаете, куда она улетела? На край света! Аж на Курилы! Честное слово!
– Одна?
– Ну что вы! Зачем же одна? С любимым человеком! Летчик, пропуск достал и умчал. Эх, счастливая Лариса!..
– Отчего же вы, такая молодая, а вышли замуж за старого?
– Так получилось. Такая, видно, моя доля. – Она зарумянилась, и в глазах ее показались слезы. – Эх, если бы были крылья! – Оглянулась на стук калитки, увидела вошедшего Мошкарева. – Извините…
Верочка наклонила голову и быстрыми шагами пошла к дому.
Глава 2К воротам подкатила «Победа». Эго была машина старая, с осевшими рессорами, выгоревшая под палящим южным солнцем, но еще исправно бегавшая по кривым приморским дорогам. Из-за руля встал Антон, высокий и сутулый блондин, без пиджака и без головного убора. Воротник рубашки расстегнут, рукава засучены выше локтей.
– Привет, Виктор Михайлович! – сказал Антон, входя во двор. – Наверное, давно меня поджидаешь? А я был на почте. С матерью по телефону разговаривал.
– О чем, если не секрет?
– Мать просила приехать в Южный на своей «Победе».
– Это зачем же? – удивился Чижов.
– Чтобы перевезти их в Береговой.
– И без твоего драндулета обойдемся. В Береговой Алексей Фомич прилетит на «Чайке»! Понял?
– Велено, значит, надо ехать.
– Вот что, Антон Алексеевич, – тоном, не терпящим возражений, заговорил Чижов. – Я уже побывал в доме и видел мебель. Кому ты купил этот ширпотреб?
– Известно кому… Отцу и матери.
– Отцу? Смешно! – Чижов нехотя усмехнулся. – Это же не мебель, а черт знает что такое!
– К сожалению, в Береговом спальные гарнитуры не продаются.
– Не надо было торопиться, – сказал Чижов. – В Южном или в другом городе нашли бы и настоящие кровати, и настоящие стулья… А теперь? Да знаешь ли ты, что скажет Алексей Фомич?
– Ничего плохого он не скажет. Кровати хорошие, сетки мягкие. Что еще?
– Может, они и хорошие, только не для твоего отца. Понял? Сыну полагается знать, что Алексей Фомич Холмов – человек исключительный, необыкновенный.
– Сделали его и необыкновенным и исключительным, – сказал Антон, исподлобья глядя на Чижова. – Ведь был же он обыкновенным, как все.
– Эх, Антон, Антон, видно, плохо ты знаешь своего родителя! – Чижов взял Антона под руку и повел к роднику. – Посидим вот здесь, возле ивы. И, может быть, то, что я тебе сейчас расскажу, я обязан был рассказать раньше. Может быть, то, что ты услышишь от меня, пригодится тебе в жизни.
– Что ж, слушаю.
– Случилось так, что еще студентом четвертого курса педтехникума я попал прямо на фронт, – заговорил Чижов, старательно раскуривая папиросу. – И там, на передовой позиции, видно, самой судьбой было велено мне встретиться с Алексеем Фомичом Холмовым, твоим, Антон, отцом. Он уже тогда носил ромбу в петлицах, а позже – генеральские погоны, а для меня он был просто человеком, но каким человеком! Таким он для меня остался и после войны, все эти годы, что я с ним работал. Вот ты его сын родной… А известно ли тебе, как Алексей Фомич умеет поднимать дух у людей, как умеет проникнуть в их души? Нет? А мне-то известно! Я всегда был рядом с ним – и на войне, и в мирное время. Жили и в окопах, и на полевых станах, ночевали и в домах колхозников, и на квартирах секретарей райкомов. Со всеми Алексей Фомич был одинаково строг и справедлив. И храбрости ему у других не занимать – своей хватает. Помню, в бою за одну высоту погиб комбат Стрельников. Было это под Минском. Мы с Алексеем Фомичом как раз находились в том батальоне. Алексей Фомич принял на себя командование, повел батальон в бой, и высота была взята. В том бою он получил ранение в голову. Через то до сих пор жалуется на боль в затылке. Особенно плохо ему перед непогодой и в дождь… Уже в мирное время мы как-то ночью приехали в Степаковский район. Лето, на полях страда. Заходим в райком. В кабинете собрался народ. Накурено, духота: идет заседание, Алексей Фомич появился в дверях, обвел взглядом заседавших и сказал: «Заседаете? Курите? А кто хлеб убирать будет? Холмов, да?» И ушел. В райкоме переполох. Мы в машину – и на поля. Те, кто заседал, тоже вскочили в машины – следом за нами. Всю ночь Алексей Фомич ездил по бригадам и организовывал ночную косовицу. Утром, уставший, свалился прямо на валок пшеницы и уснул. Рядом с ним отдыхал и секретарь райкома.
– Значит, на валке пшеницы спать мог, а на железной кровати не сможет? – с ухмылкой спросил Антон.
– Э! Валок в степи – другое дело! Это, если хочешь знать, романтика! Ну, Алексей Фомич поднялся, отряхнул с себя остья, – продолжал Чижов, – обнял секретаря райкома и сказал: «Пойми, Аким Павлович, в такую жаркую пору грешно тратить время на заседания. Где должен быть руководитель в страду?» – «В поле, Алексей Фомич, на полевом стане». – «Вот это ты сказал правду».
– Не понимаю, что тут такого?
– И плохо, что не понимаешь. – Чижов обиделся. – Да хотя бы то, что у Алексея Фомича отношение к людям было простое, но и без тени панибратства. Меня на народе он всегда называл «товарищ Чижов». И на «вы». «Вы, товарищ Чижов». А когда остаемся одни, то мы равные, и он говорит мне Виктор или Витя. По-простому. Когда же случается какой успех по хлебу, мясу или молоку, то называл меня Виктор – с ударением. «Виктория, говорит, по-иностранному победа, а Виктор – от того же победного слова, и сейчас упомянуть твое имя как раз кстати…» Шутник, ей-ей! А слушал ли ты его переклички по радио? Не приходилось? Ну, понятно, ты занят виноделием, а переклички шли по хлебу и по мясу… Так это же какой собирался форум! Разом, как на одном огромном собрании, разговаривало все Прикубанье, а Алексей Фомич сидел в своем кабинете и направлял разговор по нужному руслу. Где вставлял острое словцо или спрашивал, а где подбрасывал шутку. Ему всегда горячо аплодировали. Не кланялся, как артист, а стоял на трибуне, поглаживал свою белую голову, улыбался. Руку поднимал: дескать, поаплодировали – и хватит, дайте и мне слово сказать. И все у него получалось просто, от полноты душевных чувств. Когда мы садились в машину и ехали домой, он говорил: «Запомни, Виктор, эти почести оказаны не мне. В них есть народное признание авторитета партийного руководителя вообще. Я же всего лишь рядовой солдат партии». Часто читал стихи или напевал песенку. Любил и песни и стихи.
«Что-то он говорит об отце как о покойнике, все в прошедшем времени, – слушая Чижова, думал Антон. – Все был да было, но ведь отец же еще есть? Странно выглядит весь этот рассказ, и к чему он его завел?..»
– А знаешь ли ты, Алексеич, как твой отец играл на баяне? Нет, не улыбайся и ничего не говори, потому что этого ты не знаешь. А я-то знаю! У него исключительный музыкальный дар. Твоя мать, Ольга Андреевна, не разрешала ему играть дома, боялась за его авторитет. Неудобно, считала, чтобы такой большой человек играл на баяне. И была она неправа. Твоя мать не понимала, что простота и скромность, широта натуры и сердечность всегда рядом. Алексей Фомич вынужден был хранить баян в домике на нашем пригородном хозяйстве. Иногда мы туда заезжали. Он садился на скамейку, брал баян и играл. А как он играл! Мечта! Я сижу, слушаю, а в душе у меня восторг. Особенно играл с чувством, когда был в хорошем настроении или чуть под хмельком. Любил выпить в меру. Правда, теперь из-за головной боли совсем не пьет.
– Не знаю, Виктор Михайлович, с хорошей или с плохой стороны характеризует моего отца все то, что ты о нем сказал, – заговорил все время молчавший Антон, – но одно для меня очевидно: отец мой не такой, каким ты его нарисовал.
– Почему не такой? – Чижов удивился. – Потому, что ты давно с ним не живешь! С той поры, как уехал в институт.
– Зря ты так превозносил его и так расхваливал, – говорил Антон своим тихим, спокойным голосом. – Ведь отец мой тебе только кажется необыкновенным. Ты придумал его себе таким, вот в чем беда.
– Смешно!
– Не смешно, а грустно… На самом деле – и тебе это тоже известно – мой отец – человек как человек. – Антон с улыбкой посмотрел на Чижова. – А если что-то «необычное» и появилось в его характере, так оно, это «что-то», пришло к нему потому, что многие годы он находился не в обычном положении.
– И что же из того?
– А то, что теперь-то он будет находиться в положении обычном, как все люди, и жить рядом с людьми обычными. – Опять у Антона появилась та же легкая улыбка на лице. – И я могу поручиться, что никто, в том числе и ты, его верный помощник, ничего необычного в нем не увидит. И уверен, что и железные кровати ему понравятся, и неказистый стол и обычные стулья он примет с благодарностью. Вот только жаль, что не смог купить холодильник. Климат у нас жаркий.
– Холодильник доставим из Южного, – уверенно сказал Чижов.
– На крайний случай отдам свой. Он у меня еще новый. А мы с Анютой пока обойдемся, у нас ведь есть погребок.
– Зачем же обходиться погребком? Считай, что холодильник уже стоит в этом домике, – с той же уверенностью заявил Чижов. – Так ты что? Тоже собираешься ехать в Южный?
– Обязательно, – ответил Антон. – Я считаю, мать поступает правильно, что не надеется на чужие машины и хочет, чтобы я увез их в Береговой на своей старенькой «Победе». Я поеду и привезу. Одно только меня тревожит…
– Что именно?
– Без привычки отец загрустит, затоскует в Береговом.
– Вот нам и надлежит его новую жизнь обставить так, чтобы он не затосковал, – живо сказал Чижов. – Хоть с этим-то ты, надеюсь, согласен?
Антон промолчал.
Глава 3Весна в 1961 году на Прикубанье была ранняя, и акация в Южном зацвела уже в середине мая. Цвела буйно, и запахи ее, особенно в жару перед дождем, были ни с чем не сравнимы. Парило с утра, воздух был горяч, и сладковатый аромат акации устойчиво держался над городом. На западе клубились тучи, черные, со свинцовым отливом. Гремела гроза, по-летнему раскатисто и тревожно. Ветер поднимал столбы пыли, кружил и гнал их, а потом налетал ливень такой силы, что над асфальтом, над жестяными крышами дымилась водяная пыль, а сбитые лепестки, как снежинки, липли к мокрым камням. Свинцово-черная туча ползла и ползла через Южный, поливала, медленно удаляясь в степь и вставая там черным заслоном. Далеко в степи еще угрожающе громыхал гром и молния крест-накрест чертила иссиня-черную тучу, а над мокрым городом в просветы между тучами, как в раскрытые окна, уже смотрело солнце, жаркое, веселое, – хотело убедиться, хорошо ли умыты улицы, дома, посвежели ли деревья, помолодела ли земля.
После дождя Алексей Фомич Холмов с головной болью и в подавленном настроении вышел на балкон, еще залитый водой. На нем был серый, сшитый по моде костюм, придававший его высокой и сухопарой фигуре молодую стройность. Он выглядел значительно моложе своих лет. С весны ему пошел уже пятьдесят седьмой год, а на голове ни плеши, ни залысин, на несколько усталом, бледном лице ни единой морщинки. Только очень побелели мягкие, всегда зачесанные кверху волосы.
Он смотрел на мокрую, затененную акацией улицу, и во взгляде его теснилась тоска. Нерадостно на сердце было и оттого, что ему приходилось покидать дом, город, привычную жизнь, и потому, что еще с утра разболелся затылок. «Нет-нет да и напомнит о себе война», – подумал Холмов. Еще тогда, когда вернулся из госпиталя, он стал замечать, что затылок болел чаще всего в непогоду и особенно во время грозы. Вот и сегодня перед грозой боль в затылке была такая острая, что нельзя было ни повернуть головы, ни притронуться к ней. И то, что болела не вся голова, не лоб, не виски, а только затылок, и как раз в том месте, куда угодил осколок, угнетающе действовало на самочувствие Холмова. Он глубоко, всей грудью вдохнул сырой, пахнущий дождем и акацией воздух. Осторожно положил ладонь на затылок, наклонился к перилам и с грустью стал смотреть на бегущие по улице ручьи, на акацию с ее мокрыми гроздьями голубоватых цветов.
В доме слышались разноголосый говор, смех, веселые женские голоса. Это друзья и сослуживцы пришли проводить Холмова, и им было весело, потому что они находились в доме человека, которого уважали. «Да, они по-прежнему меня и уважают и любят, – думал Холмов. – Даже теперь, когда я стал пенсионером, когда я навсегда покидаю их и неизвестно, встретимся ли мы когда-либо еще, они пришли ко мне и хотят, чтобы в час нашей разлуки и мне и им было весело… А мне вот грустно, и никто не знает, отчего мне так грустно…»
Среди других голосов выделялся басовитый, приятный голос Андрея Андреевича Проскурова. Он недавно занял тот пост, какой занимал Холмов, и, видимо, еще не успел как следует войти в непривычную для него роль.
– Сюда нельзя, товарищи! – нарочито громко говорил Проскуров, желая, чтобы услышал Холмов. – Пусть Алексей Фомич, как это поется в песне, перед дальней дорогой один постоит и помечтает! Тише, товарищи!
И этот нарочито громкий, проникнутый заботой голос Проскурова, и то, что после его слов «Тише, товарищи!» – все голоса разом смолкли, только лишний раз подтверждали ту мысль, что любовь к Холмову тех, кто собрался в доме, была искренней, неподдельной любовью. И это радовало. Холмову казалось, что не только друзья-сослуживцы жалели о разлуке, но даже акация, что годами смотрела в окна его дома, ее намокшие голубоватые кисти тоже как бы говорили, что и они любят Холмова, что и им жалко расставаться с ним, да еще и в такую красивую пору весны… «Милая акация, и мне жалко расставаться с тобой. Но что я могу поделать? Надо, надо уезжать, – мысленно говорил он. – Так сложились обстоятельства. А тут еще врачи, жена… Требуют, чтобы ехал к морю… Так что осталось сказать одно только слово: прощайте. Прощайте, друзья, и не поминайте лихом, прощайте все, кому я был дорог, прощай и ты, белая акация, и ты, родной мой город…»
И опять, наклоняясь к перилам, говорил сам себе: «Но что я могу поделать? Так сложились обстоятельства… Так сложились обстоятельства, – мысленно повторил он. – А как же они сложились? Как? Да и что, собственно, произошло? Мне посоветовали уйти на отдых, чтобы л мог спокойно заняться лечением. Я согласился. Дальше все было так, как обычно бывает и как полагается быть. На пенсию меня проводили с почестями. Обо мне были написаны и сказаны подобающие добрые слова, высказаны чувства сожаления. Значит, причина моего отхода от дел не старость. Пятьдесят семь лет – это еще не старость. Все знают, что в войну я был ранен, что у меня бывают частые головные боли и что я страдаю бессонницей. Но бессонницей страдают многие, а мою больную голову можно было бы подлечить. Вот и встает все тот же вопрос: почему же я стал пенсионером?»
Желая найти ответ на этот вопрос, Холмов начал думать о том, что, возможно, были какие-то иные, ему неизвестные обстоятельства, которые и послужили причиной его раннего ухода на пенсию. И он, например, вспомнил о том, как в прошлом году за месяц до уборки ему позвонил из Москвы Федор Федорович Нечаев. Когда-то они вместе были на комсомольской работе, и оба секретарями райкома. Позже учились в Высшей партийной школе. После учебы Холмов вернулся на Прикубанье, а Нечаев остался в Москве – заместителем министра сельского хозяйства.
Звонок этот был для Холмова неожиданным, потому что по телефону старые друзья говорили редко. Сперва Нечаев поприветствовал друга, справился о его здоровье, спросил о погоде, а потом предложил, чтобы прикубанские хлеборобы проявили инициативу и стали бы запевалами по сверхплановой сдаче зерна нового урожая.
– Пойми меня правильно, Алексей! – басовито гудел в трубку Нечаев. – Говорю тебе как другу: нужен запев, слышишь, Алексей! Нужен запев эдак плана на два, а то и на три! Ну как, а? Поднимешь?
Холмов говорил, что урожай на Прикубанье ожидается средний, и если вывезти два плана зерна, то колхозники останутся без хлеба. Говорить ему было трудно. Нечаев злился, перебивал и не слушал.
– Алексей! Пойми меня правильно! – дрожал басок в телефонной трубке. – Нужен запев, и не с хрипотцой, а голосистый, настоящий!
– Я правильно тебя понимаю, – сдержанно отвечал Холмов. – Но пойми, Федор, и меня: это будет не запев, а слезы!
– У тебя что? Все еще болит затылок? Да какие могут быть слезы?
– А такие, что плохо у нас нынче с урожаем, – отвечал Холмов. – По нашим подсчетам, валовой сбор зерна по области будет намного ниже прошлогоднего. И ты знаешь, в прошлом году мы были запевалами, а в этом году и рады бы, да не сможем ими быть.
– Выбрось, Алексей, это «не сможем» из своей больной головы. А то, чего доброго, грянет над ней гром! Пойми, Алексей, если Прикубанье не запоет, тогда кто же запоет? Это, надеюсь, тебе понятно?
Холмов положил трубку.
Он ждал вызова в Москву. Готовился к неприятному разговору. Но дни шли спокойно. В Москву Холмова не вызывали, к нему никто не приезжал. Разговор по телефону был забыт. Но однажды, не предупредив, к Холмову явился Нечаев. Они вдвоем остались в кабинете. Нечаев был мрачен, медленными шагами прохаживался по ковровой дорожке, лежавшей от порога к столу. Останавливался и молча разводил руками. Холмов помнил его давнюю привычку останавливаться и разводить руками, когда тот сердился или чему-то удивлялся.
– Не понимаю! Да и как такое можно понять, Алексей?! Или ты сам себе враг, или ты из ума выжил?
– Иначе поступить я не мог.
– Геройствуешь? – Он опять остановился и развел руками. – Кому, скажи, Алеша, нужно это твое геройство в кавычках? Да-да! Не ухмыляйся! Именно в кавычках! Ты же воробей стреляный, знаешь, почем фунт лиха. Да и подумал ли ты о том, что, сделав запев и сдержав слово, ты уже со щитом, о тебе говорит вся страна? Да за такие дела, ты же знаешь, Героя получают! – Нечаев остановился и еще шире развел руками, будто желая обнять Холмова. – Нет, Алеша, ты еще не все уразумел.
– Не о себе моя печаль, Федор, – сказал Холмов. – Нельзя же из года в год оставлять без хлеба тех, кто его производит.
– Да ведь это же Прикубанье! – воскликнул Нечаев. – Наша житница! Тут оглоблю воткни в землю – вырастет яблоня.
– И на Прикубанье, Федор, тоже люди живут.
– Алеша! Прошу тебя! – Нечаев подошел к другу. – Не валяй дурака!.. Еще не поздно исправить ошибку.
– Не могу, – сказал он глухо. – Понимаешь, не могу!
– Но почему? Весленеевский казак в тебе проснулся, что ли? – И Нечаев улыбнулся. – Жалко стало своих прикубанцев?
– При чем тут свои или чужие?
– Так в чем же дело? Мне-то ты можешь сказать?
– Я дал слово…
– Кому?
– Одному человеку.
– Кто он, этот человек?
– Корнейчук.
– Кто, кто?
– Григорий Корнейчук. Ты его не знаешь. Есть в моей родной станице Весленеевской такой Гриша Корнейчук.
– Послушай, Алексей, а как твой затылок? – И Нечаев дружески обняв Холмова. – Все так же болит, ломит?
– Опять о том же? – Холмов отстранил руку друга. – При чем тут мой затылок? Я совершенно здоров!
– Не сердись. Это я так, к слову пришлось.
– Со щитом, говоришь? Героя дадут? – Холмов грустно усмехнулся. – Не нужны мне ни щит, ни звание Героя. Сядь, Федя, и послушай. – Холмов усадил друга на диван, сам сел рядом. – Весной у нас не было дождей, а когда пшеница выбросила колос, подул суховей. Трудное у нас сейчас положение. Недавно я побывал в Весленеевской. Ты знаешь, в этой станице я родился и вырос, там у меня два брата – Игнат и Кузьма. Станица лежит в горах, и случилось так, что я редко навещал родные места. И вот побывал у своих станичников, посмотрел, как они живут, поговорил с ними. Потом поехал по полям и фермам. И скажу: бедно живут мои земляки.
– Видно, плохо работают, вот и живут бедно, – сказал Нечаев. – Ведь так, а?
– В том-то, Федя, и суть, что совсем не так, – возразил Холмов. – Работают мои земляки хорошо, даже больше, чем хорошо. Перед такими старательными тружениками надо становиться на колени и снимать шапки. Но старания их держатся почти что на одной сознательности. У них нет материальной заинтересованности. И несмотря на это, люди трудятся так, что диву даешься, откуда у них и это напряжение сил, и это, я сказал бы, чувство долга. А что они получают за труд? Заставь тебя, или меня, или пятого-десятого работать на ползарплаты. Что мы запоем?
– Это сравнение ни к чему! – сказал Нечаев.
– Почему же оно ни к чему? Колхозники – такие же люди, как и мы с тобой, – продолжал Холмов, – Председателем там Григорий Корнейчук. Человек терпеливейший из терпеливых и энтузиаст, каких мало. Бывший воин. Партизанил на Кавказе. Домой вернулся без левой руки. И знаешь, что сказал мне Григорий Корнейчук, когда мы остались одни в поле? «У тебя, говорит, оружие есть?» Я смотрю на него: к чему, думаю, эта шутка? «Зачем, спрашиваю, Корнейчук, тебе оружие?» – «Застрели меня, говорит, вот тут в поле…» Да-да, не улыбайся, Федя, так и сказал: застрели.
– Может, этот Корнейчук просто пошутил? – спросил Нечаев. – Хотел попугать тебя, а?
– Возможно, и пошутил, только та шутка была горькая, – ответил Холмов. – Жалко мне стало Корнейчука. Может, это и нехорошо – жалость. Но я обнял Корнейчука, как брата, и дал ему слово, что старого с хлебопоставками не повторится. На полевом стане собрались колхозники. Им я сказал то же. И суть тут, Федор, не в моей родной станице. Суть в том, что пора нам наконец, по-настоящему, не на словах, а на деле, проявить заботу о сельских тружениках. Нельзя же, как говорит притча, рубить сук, на котором сидишь.
– Да, брат, что там ни говори, а рассуждаешь ты довольно-таки странно. – Нечаев зашагал по кабинету. – И в данном конкретном случае ты поступил опрометчиво, необдуманно. Сам себе вред причиняешь, Холмов. Как друга предупреждаю: припомнишь и меня, и эти мои слова, да будет поздно.
«Так неужели сбылись предсказания Нечаева? – думал Холмов, наклоняясь к перилам. – Неужели всему виной то, что тогда я не исполнил его просьбу? Нет, зачем же. Просьба Нечаева и мой отказ тут ни при чем. А что при чем? Что? Мой затылок? Или это – „уезжаем с ярмарки“?»
Тут он вспомнил, как однажды в Москве разговаривал с одним из работников ЦК. Это был работник молодой, учтивый, одетый, что называется, с иголочки. Он встретил Холмова возле порога, крепко пожал руку и пригласил сесть. Сам же почтительно стоял возле стола. Говорил вежливо, любезно. Речь шла о поездке Холмова в санаторий.
– Как ваша голова, Алексей Фомич?
– Сейчас не болит.
– Но может заболеть? Рецидив! В народе говорят, что все беды идут от больной головы. Как вы полагаете, Алексей Фомич?
– Полагаю, что это не так.
– Кто-то еще из древних мудрецов сказал, что самое важное для человека – здоровье. О здоровье надобно заботиться, Вы согласны, Алексей Фомич?
Холмов молчал. Ему неприятен был этот разговор.
– Может быть, и вам, Алексей Фомич, следует не в санаторий ехать, а всерьез подумать о своем здоровье. Вы подумайте, возможно, вам необходимо отойти от дел, сбросить с плеч груз каждодневных забот и зажить спокойно. И пусть вас это не огорчает. Пришла пора, как в шутку говорится, уезжать с ярмарки. Смешное выражение – «уезжать с ярмарки»? А по смыслу очень точное. И понимать эту метафору следует так: все, что было, уже распродано, и человек уезжает со своей житейской ярмарки с чувством исполненного долга. И не надо огорчаться и хмуриться, Алексей Фомич. Когда наступает время, то с этой самой ярмарки приходится уезжать не вам первому и не вам последнему. Такова, если хотите, диалектика!
У Холмова и теперь от этих мыслей больно защемило под сердцем. «Может быть, в том-то вся и суть, что наступило мое время уезжать с житейской ярмарки, и вот я уже запряг быков и собрался уезжать, – думал он. – И мне больно от сознания, что я уже остался не у дел, и мне хочется отыскать какую-то объективную причину, а ее, этой причины, нет, а есть только сознание того, что пришло мое время, и никуда от него не денешься…»








