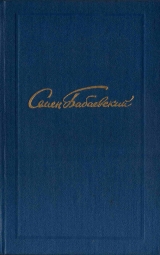
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 3"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
– Ну, сын, что скажешь? – спросил Холмов, входя на веранду и видя, что Антон уже закончил чтение его тетради. – Одобряешь?
– Честно, отец, скажу: и одобряю и не одобряю.
– Отчего же у тебя такое двойственное мнение?
– То, что я прочитал в тетради, меня порадовало, – продолжал Антон. – И высказывания Ленина подобраны очень значительные, и твои мысли весьма важны и, я сказал бы, мужественны. Меня порадовало еще и то, что в этих записях я увидел своего отца с какой-то мне еще не ведомой стороны. И я хочу тебя спросить: скажи, многие думают вот так же самокритично, как ты?
– Дать точный ответ не могу, но полагаю, многие.
– Если так, то это хорошо, – сказал Антон. – Но почему же я не одобряю того, что ты написал? Я читал, и меня тревожил один и тот же вопрос: зачем тебе, отец, эти раздумья здесь, в тиши Берегового?
– Пригодятся, – сказал Холмов, подсаживаясь к сыну. – Я тебе уже говорил: в Береговом-то я оставаться не собираюсь. Попрошу работу.
– А нужно ли тебе снова идти на работу?
– Обязательно! – воскликнул Холмов, и в глазах его Антон увидел радостный блеск. – Только матери пока об том не говори. И еще я готовлюсь по просьбе Медянниковой прочитать лекцию о Ленине.
– Вот уж этого, отец, делать не надо.
– Почему?
– Мне трудно ответить. Твой сын в политике не силен, мое дело – вино.
– Вино, Антон, тоже политика.
– Я хотел сказать, что случилось как-то так, что я еще не стал членом партии, – смутившись и покраснев, ответил Антон. – Из-за этого перед тобой мне неловко, и не мне давать тебе советы и поучения. На заводе меня ценят, мною дорожат, так что краснеть тебе за своего беспартийного сына не приходится. Но сейчас речь не обо мне. Было бы, конечно, не то что хорошо, а просто идеально, если бы все коммунисты думали о Ленине и о себе, как думаешь ты, и так же, как вот ты, критически бы мыслили. И не только думали, а и делали бы. Но ведь в жизни, отец, все это не всегда так? Не мне говорить, ты лучше меня знаешь, что есть и такие коммунисты, которые и мыслят и живут не так, как учит Ленин. Чего греха таить, есть еще в партии и шкурники, и себялюбцы, и зачерствелые чиновники, и нечистые на руку, и просто самодуры. Что им до твоих благородных мыслей?
– И нужна ли им твоя лекция и твоя самокритика?
– Нужна! – убежденно ответил Холмов. – Еще как нужна! Пусть те коммунисты, о которых ты говоришь, послушают лекцию. Пусть задумаются над собой, над своими поступками. Уверен, среди них найдутся такие, кто поймет свои ошибки и постарается от них избавиться.
– Да способны ли они задуматься и понять свои ошибки? – сказал Антон. – И не только понять, а и избавиться от них? Что-то я сомневаюсь. Плохие коммунисты есть и у нас на заводе. Я их знаю хорошо. И мне думается, что для плохих коммунистов нужны не лекции и не увещевания, не культурно-просветительная работа с ними, а какие-то меры построже и пореальнее. Верно я говорю, отец?
Холмов не успел ответить. Взволнованная, обрадованная, появилась Ольга.
– Погляди, Холмов, кто к нам приехал! И как раз угодил к обеду! Иди встречать! – радостно говорила она.
Холмов вышел во двор. В раскрытые Чижовым ворота въезжала, покачиваясь, знакомая «Чайка». Горячие ее колеса дрогнули и замерли возле родника, и с них на траву посыпалась спрессованная ветром пыль. Чижов подбежал и открыл заднюю дверцу. Из машины вышел улыбающийся, опаленный степным ветром и солнцем Проскуров. Обнял Холмова своими сильными руками и сказал:
– Так вот где твое гнездовье! Прекрасное место! Один вид на море чего стоит!
Холмов освободился от объятий, поздоровался с Игнатюком, Чижовым и, обращаясь к Проскурову, спросил:
– Какими судьбами, Андрей? Не ждал, не ждал.
– Решил навестить отшельника! То ты ко мне вдруг нагрянул, а теперь я к тебе заявился. Как ты тут, Алексей, поживаешь?
– Как видишь.
– Вижу, посвежел, посмуглел. А как здоровье?
– Отлично! Особенно чувствую себя хорошо после поездки в Вознесенскую и в Южный. В Вознесенской поездил с Сагайдачным по полям и сразу поздоровел. Спал в бригаде, а то и прямо в поле на валке соломы под чистым небом. Прекрасно! Раньше, веришь, я как-то этого не замечал.
– Иван Сагайдачный был у меня, рассказывал, как ты помогал вознесенцам убирать хлеб, – сказал Проскуров. – Да, вознесенцы молодцы! Они вчера уже рассчитались по хлебу. Не зря ты просил для них грузовики. Это ускорило переброску зерна.
– Грузовики нужны там, где есть зерно, – ответил Холмов. – У вознесенцев оно есть. А как в других районах?
– Плохи у нас дела в Камышинском, – грустно сказал Проскуров. – Стрельцов не тянет. Старается, а ничего у него не выходит.
– Командируй меня в Камышинский! – щуря веселые глаза, сказал Холмов. – В помощь Стрельцову.
– Сперва поеду сам. Если дело не поправлю, тогда, так и быть, пошлю тебя. – Проскуров вошел на веранду. – А книг-то у тебя сколько, Алексей! И все о Ленине! Зубришь ленинизм?
– Зубрю помаленьку, – ответил Холмов. – На старости лет хочу малость ума поднакопить. Может, пригодится. И еще есть у меня желание стать лектором. Усиленно готовлю себя к этому поприщу. Одобряешь?
– Не одобряю.
– Да почему же?
– Зря, зря. Смотри, как бы голова снова не заболела, – Проскуров сочувственно посмотрел на Холмова. – Надо это занятие прекратить.
– Невозможно. И рад бы, но не могу.
– Почему?
– Да так вот, не могу, и все. – Желая сменить тему разговора, Холмов обнял стоявшего рядом сына. – Андрей, ты очень кстати приехал. Главный винодел здешнего завода, мой сын Антон, привез бутылочку вина новой марки. «Луч солнца» – превосходная штука! За обедом мы эту бутылочку и разопьем!
Проскуров смотрел на Холмова и во внешнем облике его видел что-то для себя непривычное. Холмов и помолодел, и поздоровел, и лицо его посмуглело и посвежело. В глазах уже не было той хорошо знакомой Проскурову суровости и начальственной строгости. Добрая улыбка, подчеркнутая вежливостью, тихий, ласковый голос – все как бы говорило, что в Холмове происходила и еще происходит очень важная душевная работа.
Между тем и Холмов заметил, что у его друга появилась новая осанка. Проскуров не то что пополнел, а как-то раздобрел, округлился лицом. Костюм из тонкой немаркой ткани сидел на нем тоже как-то уж очень красиво, искусно придавая его коренастой фигуре солидность. Холмов не мог не заметить, как Проскуров, выходя из машины, небрежно, не оглядываясь, прикрыл дверцу. Говорил громко, смеялся весело, как обычно говорят и смеются те, кто знает себе цену и рассчитывает на одобрение тех, кто их слушает. Даже то, что дверцу Проскурову открыл Чижов, как он когда-то открывал ее Холмову, тоже говорило, что приехал не тот Проскуров, каким он был раньше. «Удивительно, как быстро меняется человек, – думал Холмов, поглядывая на гостя. – Если бы можно было поставить для сравнения этого Проскурова рядом с тем Проскуровым, каким он был в районе, и посмотреть на них! Совсем же разные. И это хорошо. Так оно и должно быть. Проскуров словно бы и возмужал, и внешне стал солиднее, и, чувствуется, сознает ту ответственность, которая лежит на его плечах. Сам он этих перемен в себе, наверно, не замечает, как в свое время, будучи молодым, я не замечал в себе тех же перемен».
В разгар уборочной страды Проскурова заставило приехать в Береговой не только желание повидаться с другом, а главным образом тревожное письмо Ольги. Жена Проскурова читала его вслух. Ольга подробно описывала замеченные ею ненормальности в поступках мужа и просила Проскурова приехать и привезти врача – специалиста по нервным заболеваниям. Ничто так не удивило и не озадачило Проскурова и его жену, как сообщение Ольги о том, что Холмов сжег лекцию, которую по его просьбе написал Чижов, а также то, что Холмов якобы неравнодушен к какой-то смазливой своей соседке.
– Лекцию сжег – в это я верю, это в характере Холмова, – рассудительно сказала жена Проскурова. – Что же касается увлечения соседкой, то тут Ольга наговорила лишнее. Такое не в характере Алексея Фомича. Он всю жизнь ни на кого, кроме своей Оли, не смотрел.
Видя на столе и на стульях книги и книги, толстые и тонкие тетради, какие-то записи на листах бумаги, Проскуров твердо решил: во-первых, во что бы то ни стало убедить Холмова прекратить всякие умственные занятия. Посоветовать ему побольше гулять, купаться в море, принимать воздушные ванны. Во-вторых, побывать у Медянниковой и порекомендовать ей, чтобы не поручала Холмову лекции. «Будто у нас мало отличных лекторов», – подумал Проскуров.
– Андрей, пойдем, покажу наше жилье, – сказала Ольга. – Сперва сюда, в спальню.
Вместе с Ольгой Проскуров прошел по комнатам, побывал на кухне. Тут он успел сказать Ольге, что ее тревоги напрасны, что Холмов и выглядит хорошо и настроение у него отличное. Когда они вернулись на веранду, Проскуров громко и весело сказал:
– Не домик, а дачка! Верно, невелика, но уютна! Но есть в этой дачке один весьма важный недочет. Он касается тебя, Ольга Андреевна. – Проскуров доверительно улыбнулся Ольге. – И позволь мне, Оля, этот недочет ликвидировать! Речь идет о газе. Как же вы живете без газа? В наш цивилизованный век – и жить без газа? Преступление! Но ничего, дело это поправимое. – Чижов! – позвал он. – Запиши в свой талмуд или запомни: газовую плитку и сменные баллоны! И чтобы без задержки!
– Будет исполнено! – сказал Чижов.
– Этого делать не нужно, – сказал Холмов. – Мы тут сами. Да и Медянникова обещала помочь. Она телефон мне поставила. Заметил?
– Вот эта забота ни к чему, – сказал Проскуров. – Надо тебе отвыкать от телефонов. Это мне без телефона нельзя. – И к Чижову: – Хорошо, что у Алексея Фомича есть телефон. Позвони сейчас же в Южный Алферову насчет газа.
Пока Чижов звонил, Проскуров прохаживался по веранде, любовался видом на море. Посмотрел на плакучую иву и родник, покачал головой и мечтательно заметил, что это печальное деревцо над чистым ключом есть не что иное, как кусочек самой поэзии.
– Эх, Алексей, если бы я был поэтом!
Холмову не хотелось говорить ни о роднике, ни о поэзии. Он спросил, как на Прикубанье идут уборка и хлебосдача, какой урожай в среднем по области.
– В этом году с уборкой лучше, даже Камышинский подтянулся, – ответил Проскуров без особого желания. – Машин стало больше, особенно комбайнов. А вот урожай не очень высокий. В южных районах, особенно в Вознесенском, еще сносно, взяли более тридцати центнеров с гектара. Плохо на севере области. И в этом году озимые там прихватил суховей. Солома высокая, а зерно жухлое.
– А как с поставками хлеба?
– Вывозим, торопимся. Грузовики трудятся днем и ночью, – все так же нехотя отвечал Проскуров. – Но до выполнения плана еще далеко.
– Вывезешь все, как когда-то вывозил я?
– Алексей Фомич, беспокойный ты человек! – Проскуров обнял Холмова. – Да тебе ли теперь об этом печалиться? Положись на меня, я постараюсь сделать все так, как лучше. – Желая переменить тему разговора, спросил: – Часто купаешься в море?
– Я с тобой о деле, а ты о пустяках, – с гневом сказал Холмов. – Если хочешь знать, в море я совсем не купаюсь. И не подхожу к нему.
– Напрасно. Это что же, врачи не велят?
– Просто некогда.
– Смешно, Алексей! Что значит для тебя, вольного казака, слово «некогда»? Ты что, состоишь на службе? Не могу понять, как можно, живя у моря, не купаться? Солнечные ванны, морская вода – это как раз то, что нужно для здоровья. А ты – некогда! – Проскуров сочувственно покачал головой. – У тебя немалая пенсия, есть этот домик. Вот и живи! Купайся в море, отдыхай. Алексей Фомич, не о хлебосдаче тебе надо печалиться, не лекциями заниматься, а, скажем, рыбалкой.
– Может, податься в артель пчеловодов? – с усмешкой спросил Холмов. – Есть здесь такая – «Сладкий мед».
– Тоже дело! – не поняв усмешки, согласился Проскуров. – Пчелы – это хорошо, для здоровья весьма полезны. А лекцию выбрось из головы и забудь.
– Что так ополчился против лекции!
– О тебе забочусь, о твоем здоровье, – ответил Проскуров. – Перестань заниматься лекцией, как друга прошу. Без тебя ее и напишут и прочитают. Есть у нас специалисты по Ленину!
– Если говорить всерьез, то я читаю Ленина не для лекции, а для себя.
– Опять не понимаю.
– Пригодится… для здоровья, – смеясь, сказал Холмов.
– Опять шуточки.
– Нет, Андрей, мне не до шуток. – Холмов помолчал, как бы решая, что еще нужно сказать. – То, что я делаю сейчас, я обязан был сделать значительно раньше.
– Разве раньше ты не читал Ленина?
– А ты сейчас читаешь?
– У меня нет свободного времени.
– Я тоже так говорил себе и другим. Нет времени? Мы с тобой прячемся за эту отговорку и годами не притрагиваемся к сочинениям Ленина. Для доклада или еще для чего Чижов или кто другой подберет нам нужные цитаты, и мы читаем их, показывая этим, что знаем Ленина. – Холмов начал ходить по веранде. – Если бы мы пожелали, то и время могли бы найти.
– Ленина пусть изучают и штудируют теоретики, – хмуря брови, возразил Проскуров. – Мы же практики, наше дело – побольше давать государству хлеба, молока, мяса.
– Правильно, нужны и хлеб, и молоко, и мясо, – согласился Холмов. – Но нужна и теория, нужна постоянная учеба.
– Теория? Учеба? – Проскуров усмехнулся. – Разве я не хотел бы учиться? Но скажи, как мне быть в летнюю страду, когда и спать приходится урывками? Или ты забыл, Алексей? Забыл, как день и ночь, не зная устали, занимался то посевной, то прополочной, то уборкой, то хлебопоставками. То заготовлял корма, то сеял озимые. И так из года в год. Какая уж тут теория! Не только сидеть за книгами – иной раз и за газетами не следишь.
– Вот это, Андрей, и плохо. – Холмов остановился, хмуро покосился на Проскурова. – Ты сказал: мы практики. Грош цена таким практикам, если в теории они ничего не смыслят. Ленин, как известно, был и отличным практиком, и отличным теоретиком. При его загруженности работой находил время посидеть за книгами.
– Чудак! И чего ты злишься? То Ленин, а то мы с тобой. Нам с Лениным не тягаться. – Проскурову хотелось успокоить Холмова. – Вот ты уже вскипел. А разве мы с тобой повинны в том, что нас захлестывает текучка и что нам некогда углубиться в книги? Не узнаю тебя, Алексей, честное слово!
– Сошлись и уже заспорили! – входя, сказала Ольга. – Поезжайте лучше к морю и искупайтесь. А мы с Верочкой займемся обедом. День-то сегодня какой! И море спокойное.
– Совет хороший, – сказал Проскуров, снимая пиджак. – Сядем в «Чайку» – и через минуту будем у берега.
– Проще всего отправиться пешком, – сказал Холмов. – До моря метров четыреста. И идти под гору.
– Чего ради ходить пешком в жару, под палящим солнцем? – Возразил Проскуров. – Карета у нас удобная!
– Тут же близко, – стоял на своем Холмов. – Да и пройтись пешком, как ты говоришь, полезно для здоровья.
Спорить Проскуров не стал. Позвал Чижова, который, уже успев позвонить Алферову, немедленно доложил, что завтра газовая плитка с двумя баллонами будет в доме Холмова. Чижову было сказано, чтобы «Чайка» ехала следом на всякий случай.
И вот по переулку, ведущему к пляжу, шли двое мужчин. Один седой, высокий и тощий, другой светловолос, коренаст, в белой рубашке с расстегнутым воротом. Следом катилась «Чайка», вся запудренная пылью, так что ее черный лак стал матовым. За рулем, сонно смежив глаза, сидел Игнатюк, рядом с ним – Чижов.
Холмов изредка поглядывал назад. Ему казалось, что седые от пыли фары «Чайки» ласково подмигивали ему.
– Андрей, знаешь, что мне сказала «Чайка»? – вдруг спросил Холмов. – Вот когда я посмотрел на нее?
– И что же она тебе сказала? – удивился Проскуров.
– Обиделась на меня. Что это ты, Холмов, говорит, так загордился, что не пожелал проехать во мне к морю? Или, говорит, отвык от меня, или боишься снова привыкнуть?
– Очень правильно сказала. А ты что ответил?
– Говорю, что привыкнуть не боюсь.
– А она?
– Сейчас, говорит, когда стала не твоя, я все такая же быстрая и послушная, и сидеть на моем кожаном сиденье так же приятно, как и прежде, и рессоры у меня такие же мягкие.
– Молодец «Чайка»! – смеясь, сказал Проскуров.
– И еще она сказала, что новый хозяин не жалеет ее, ездит на ней по полям, по плохим дорогам и из дому и домой. Что она в пыли, неумытая.
– Вечером умоется. Игнатюк свое дело знает.
После купания, посвежевшие, бодрые, друзья уселись в «Чайку», и она мигом доставила их к веранде, где уже был накрыт обеденный стол.
Готовить обед и подавать на стол помогала Верочка. Она уже успела озорно взглянуть на Проскурова и подарить ему улыбку. «Так вот она какая, эта смазливая соседка Верочка! – подумал Проскуров. – Заманчивая бабочка, слов нет». Улучив удобную минуту, наклонился к Холмову и многозначительно заметил:
– Славная у тебя соседка.
Холмов промолчал.
После обеда они отдыхали, сидя возле родника. Ни ветерка, ни тучки на небе. Тень от ивы не спасала. Проскуров поднялся, расправил плечи, поднимая руки, сказал:
– Великолепно здесь дышится! Жара, а дышится легко!
– Ты еще не знаешь, Андрей, какая прелесть спать на веранде, – сказала Ольга. – А вот Холмов это уже знает. Тебе я тоже постелю там.
– Когда ночую в поле, то обычно сплю в «Чайке» – удобно! – похвалился Проскуров. – Тут, Алексей, я следую твоему обычаю. В вашем же доме, Ольга Андреевна, готов спать где угодно.
– Вот и хорошо, Андрюша, – растроганно ответила Ольга.
«Ночью, когда мы останемся наедине с Холмовым, я смогу поговорить с ним по душам, – между тем думал Проскуров. – И речь поведу не о письме Ольги, не о ее женских тревогах. Напрасно она думает, что мужу нужны какие-то врачи, а тем более психиатры и невропатологи. Держится он спокойно, суждения у него логичны и по мысли не просты. Скорей всего, беда Холмова, его, если можно так сказать, трагедия, в том, что он никак не может привыкнуть к своему новому качеству. Откровенно поговорю с ним о том, чтобы он смирился со своим новым положением. К сожалению, таков неумолимый закон жизни. Скажу без обиняков, чтобы не утруждал себя хлопотами, не странствовал бы по районам и не приезжал бы в Южный для того, чтобы спросить, что на Прикубанье делается, а что не делается и почему. Сообщу ему и о том, что всегда готов выслушать совет друга, однако при условии, если он откажется от активной деятельности и привыкнет к своему новому положению. Особенно буду настаивать, чтобы Холмов перестал готовить лекцию. Медянникова перестаралась по своей старой комсомольской привычке. Поговорю об этом и с ней…»
Глава 28Когда начало смеркаться и из-за гор выкатилась совсем бледная луна, Ольга предложила поехать на загородный пляж. Поехали все, даже Верочка, так что «Чайка» была нагружена дополна.
Пляж находился в десяти километрах от Берегового. Сперва дорога повела невысоким густым лесом, затем по некрутому спуску свернула к берегу. Пока ехали, сумерки совсем загустели. Полная луна поднялась над морем, и была она не желтая, какая бывает в степи, а голубая. Наверное, оттого, что смотрела не на пшеницу, а на синюю морскую воду. На чистый мелкий песок слабо накатывались волны, плескались тихо, еле-еле слышно.
Женщины купались отдельно. Верочка по-девичьи пугливо вскрикивала, и звонкий ее голос эхом отзывался в горах. Чижов и Игнатюк поплыли по дрожащей лунной дорожке, и головы их, как шары, покачивались на воде. Только Проскуров и Холмов никак не решались войти в море. Голышами сидели на теплом, еще не успевшем остыть песке, смотрели на море, на блестевший на воде пояс из лунного серебра, и смотрели так внимательно, будто впервые видели.
Холмов набрал в пригоршню песок и, выпуская сквозь два пальца золотую, похожую на шнурок струйку, молчал. Еще зачерпнул и сказал:
– Послушай, Андрюша…
Такое сердечное обращение насторожило Проскурова. Раньше, помнится, Холмов так к нему не обращался. Это были не его слова, не его голос, не его интонация. Раньше он обычно говорил: «Послушай, Андрей, что я тебе скажу…» Или: «Слушай меня, Андрей, внимательно и наматывай себе на ус, какового у тебя еще нет…» Теперь же: «Послушай, Андрюша…»
Холмов перестал цедить песок из пригоршни. Нахмурился и надолго умолк. Молчал и Проскуров. Ему казалось, что рядом с ним сидел не Холмов, а какой-то незнакомый ему голый мужчина. Чтобы как-то отогнать от себя эту мысль, Проскуров угостил друга папиросой, посмотрел на его бледное при свете луны лицо. Сам прикурил, бросил горящую спичку в море и сказал:
– Так что?
– Слушай, Андрей, внимательно и наматывай себе на ус!
– Вот это уже твой голос и твои слова.
– Андрей, приходилось ли тебе беседовать с Лениным?
– Да ты что, Алексей? – удивился Проскуров. – Никак я не мог с ним беседовать. Когда Ленин умер, мне еще и трех лет не было.
– Не лично, а мысленно, – пояснил Холмов. – Тут, в Береговом, я иногда беседую с Лениным.
– И что же?
– Вижу его перед собой как живого. Стоит, смотрит на меня, а я перед ним как на исповеди. Спрашиваю, беседую. На любую тему, на какую пожелаю. Поговорю с ним, душу отведу, и мне станет легче, и в голове многое прояснится, и думается хорошо. – Набрал в пригоршню песка, помолчал. – Попробуй, Андрей. Советую. Такие беседы и полезны и поучительны. Только для того, чтобы успешно беседовать с Лениным, его надо много читать.
– Боюсь, не хватит ни времени, ни воображения, – отшутился Проскуров.
– Опять – не хватит времени! А ты поднатужься и найди время и воображение, – советовал Холмов. – Ты находишься в строю, и тебе это важнее, нежели мне, уже отошедшему от живого дела. Постоянно обращаясь к Ленину, ты сможешь проверять, контролировать свои поступки, действия, тебе легче будет определить, что делаешь правильно, а что неправильно, где ошибаешься, а где нет.
– Не понимаю, почему так печалишься обо мне?
– Друг ты мне, вот и печалюсь, – глуховатым голосом говорил Холмов. – Мне приятно видеть, как на практической работе проявляются твои положительные качества. Но меня огорчают те недостатки, которые есть у тебя. Откажись, Андрей, от того, что тебе не нужно.
– Уточни. От чего следует мне отказаться?
– Ну хотя бы от Чижова. Зачем возишь его с собой?
– Но ты же возил?
– Вот-вот! Я возил, а ты не вози. – Холмов посыпал песком вытянутые ноги и некоторое время молчал. – Не во всем подражай мне. Я, например, с годами, сам того не желая, утратил так необходимые руководителю простоту и доступность. А ты этих качеств не теряй. Меня оберегали, а ты запрети себя оберегать. Дружески советую: установи строгий порядок, чтобы в определенный день любой человек, если у него есть дело, мог запросто прийти к тебе, как к своему другу и советчику. И еще: речи мне писал Чижов и для тебя, знаю, это делает. Откажись от таких услуг. Сам пиши, для своей же пользы. Или с трибуны говори не по написанному, а по тезисам. – Смущенно улыбнулся. – Видишь, Андрей, сколько советов. Сможешь ли принять их и исполнить?
– Постараюсь. Но боюсь, что это трудно.
– Бояться не надо. – Холмов выпрямился и с той же смущенной улыбкой посмотрел на Проскурова. – Плохое, Андрей, это слово – «боюсь». Я знал одного районного деятеля, который любил это «боюсь». Чуть что: «Боюсь, меня не поймут». Когда с ним не соглашались и говорили, что необходимо проявить инициативу, настойчивость, он говорил несколько по-другому: «Боюсь, меня могут понять неправильно». Если снова с ним не соглашались, он решительно заявлял: «Боюсь, меня просто откажутся понимать». А почему и кого, собственно, надо бояться? Смелые начинания, если они идут на пользу делу, обязательно будут приняты, одобрены и даже поставлены в пример другим.
– Я это понимаю. – Проскуров тяжело вздохнул. – Но хорошо порассуждать вот так, сидя на теплом песке и глядя на лунное море. А я вот слушал тебя, а думал о том, что меня ждут в Камышинском, что там плохо с урожаем, а еще хуже с уборкой и что этот отстающий район надо в два-три дня вывести из прорыва. И еще я думал о том, что через неделю все Прикубанье должно рапортовать по хлебу. Так что оставим, Алексей, наши теоретические споры и пойдем купаться.
– Погоди, искупаться успеем.
Они не встали, не пошли в море. Холмов снова набрал полную горсть песка и, процеживая его сквозь пальцы, сказал:
– Мне бы поехать с тобой в Камышинскую! Но знаю, не возьмешь.
– Не возьму. Делать там тебе, Алексей, нечего.
– Вот видишь, дожил, делать мне нечего. Тогда вот что: возьми с собой в Камышинскую мою тетрадь. В ней записи о Ленине. Прочти.
– Боюсь, что в Камышинской у меня как раз и по найдется свободного времени, – поднимаясь, сказал Проскуров. – А потом – потом, пожалуй, выберу время и обязательно прочитаю.
Когда они искупались и вернулись в город, Проскуров сказал, что сейчас же уезжает в Камышинскую.
– Чего ради не спать ночь? – удивился Холмов. – Оставайся, переночуешь, а утром умчишься. Обещал же!
– Обещал, а не могу. – Проскуров протянул Холмову руки. – Алексей Фомич, и рад бы побыть с тобой подольше, но не могу. Ведь я сообщил Стрельцову, что буду у него на заре. Спасибо, Алексей, за советы, за добрые пожелания. И давай-ка мне свою тетрадь. Помнится, ты и раньше вел записи. А читать не предлагал.
– А теперь вот даже прошу прочитать, – сказал Холмов. – Записи самые свежие. И мне хотелось, чтобы ты с ними познакомился.
– Хотя еду заниматься делами сугубо практическими, а тетрадь твою прочитаю. Обязательно!
«Поговорить же обо всем поговорим в другой раз, – подумал Проскуров. – Вижу, не пожелает он сейчас беседовать на эту тему, да и я, по правде сказать, еще не готов к разговору…»
– Учти, Андрей, записи сугубо личные.
– На меня можешь положиться.
– Ну что же это такое, Андрюша! – со слезами на глазах говорила Ольга. – Я уже и постелила тебе. Оставайся, мы так рады, так рады.
– Не могу, Ольга Андреевна, не могу. Дела есть дела, мы к ним привязаны, и от них никуда не уйдешь, Алексей это знает лучше меня. На зорьке мне надо быть в Камышинской. Это так важно прибыть туда, как только загорается заря, чтобы весь день был впереди.
Холмов и Проскуров простились сухо. Понимали: недосказали многое друг другу, о чем-то нарочито умолчали.
Было уже поздно, когда Проскуров заехал к Медянниковой на квартиру. Елена Павловна с тревогой во взгляде встретила нежданного гостя.
– Прошу, Андрей Андреевич! Откуда и куда?
– Заезжал к Холмову, – сказал Проскуров, входя в переднюю и снимая шляпу. – Помнишь, Елена Павловна, я звонил тебе и просил проявить максимум заботы об Алексее Фомиче?
– Я все сделала. Даже холодильник ему купили. Телефон поставили.
– Холодильник и телефон, верно, у него есть, и газ будет. Об этом я уже побеспокоился. – Проскуров сел на диван, вытер платком лицо, лоб. – Но сейчас речь не об этом. Алексея Фомича надобно оберегать от волнений, от умственного напряжения. Разве можно с его здоровьем заниматься лекциями? Он много читает, много пишет. Ум его перенапряжен. А перенапрягаться с его больной головой ему нельзя. Ну, послала бы на рыбалку или в лес собирать ягоды или нашла бы еще какое-либо пустяковое занятие.
Молча, терпеливо Медянникова слушала то, о чем говорил ей Проскуров, а внутри у нее все протестовало, не соглашалось с тем, что Холмова «надо оберегать от волнений», что ему нужны пустячные занятия. Она была убеждена, что кто-то (кто именно, она не знала) поступил с Холмовым несправедливо.
– Отстранить такого человека от дела – значит лишить его радости жизни, – сказала Медянникова. – Вы говорите: надо оберегать Холмова от волнений. Да ему сейчас как раз и недостает их, то есть недостает того, к чему привык и без чего не может жить.
– Да ведь человек-то больной!
– Ни к чему эти разговоры о болезни Холмова, а также проявление той чрезмерной заботы о нем, которой он тяготится. Обо всем этом я написала в ЦК. В большом, со многими примерами и фактами письме рассказала не столько о Холмове, сколько о других пенсионерах и отставниках, кто обосновался в нашем Береговом, кто душевно страдает не только от безделья, а и…
– А отчего еще? Договаривай!
– От своей ненужности. Это же самое обидное и страшное – быть ненужным. И Холмову необходимы не рыбалка и не собирание ягод, а работа, деятельность. Это же очень хорошо, что Алексей Фомич так горячо взялся за лекцию. У него даже хватило силы сжечь написанное Чижовым. Этому радоваться надо. Значит, он хочет сделать настоящую лекцию о Ленине.
– Не понимаю, чему тут, собственно, радоваться? – сухо сказал Проскуров. – Ведь он же взвалил на свои плечи непосильную ношу. Надорвется, а тогда что?
– Но ведь без этой ноши жить ему невмоготу! Андрей Андреевич, неужели вы не понимаете, что Холмов переживает душевную драму, и только из-за того, что…
– Прошу без этого, без драматизма! – резко перебил Проскуров. – Он, смею уверить, в этом не нуждается.
– Мне обидно и за Холмова и за других, – сдерживаясь и заметно бледнея, сказала Медянникова. – Нельзя быть такими безразличными и равнодушными к тем, кто составляет нашу славную старую гвардию и кто еще мог бы приносить пользу партии. – Она с упреком посмотрела на Проскурова. – Не по-хозяйски мы поступаем, не бережем опытных и знающих дело людей. Ведь в одном только Береговом, как в тихой бухте, встали на якорь многие чем-то похожие на Холмова. Есть у нас, к примеру, Монастырский, бывший председатель областного суда. Опытнейший работник юстиции. А чем он занимается вот уже более пяти лет? Пчелами! А бывший директор завода Нестеров? Кому-то не угодил, кому-то не пришелся ко двору – и его на пенсию, как на свалку. Приехал к нам плечистый здоровяк, на нем хоть поле паши. За какие-то два года постарел, извелся от вынужденного безделья. Я уже не говорю об отставниках. Понять мне трудно, как могло случиться, что Холмов оказался в Береговом. Почему вы, близкий друг Алексея Фомича, не подняли тревогу, не опротестовали этот ранний и непонятный уход на отдых?
– Не мы с тобой, Медянникова, решаем эти дела, – раздраженно ответил Проскуров. – Не я и не ты отправили Холмова на пенсию. Без нас знают, кому нужно работать, а кому отдыхать.
– Плохо, что это делается без нас, что с нами не советуются, – стояла на своем Медянникова. – И об этом в письме я писала. И просила вызвать Холмова в ЦК для разговора. Чего ради сидеть ему в Береговом?
– Вот уж эта твоя комсомольская горячка ни к чему! Могла бы посоветоваться, а потом писать. – Проскуров примирительно улыбнулся. – Эх, Елена, Елена, живет в тебе еще комсомол!
– И пусть живет. Вы говорите, посоветовалась бы. А о чем? Разве о том, чтобы убедить себя, что такие люди, как Холмов, – наш золотой фонд? И этот фонд должен быть с нами рядом, потому что в нем наша история и опыт нашей жизни. – Медянникова помолчала. – Вот вы сказали, что лекция Холмову не под силу. Да почему же? Очень даже под силу. Человек он умный, начитанный, с богатым жизненным опытом. О жизни судит смело и, я сказала бы, оригинально. И сил у него хватит – и физических и душевных. Я верю в Холмова!








