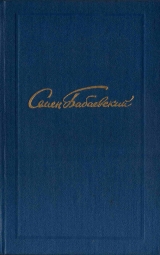
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 3"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
После отъезда Чижова Ольга стала замечать, что с Холмовым и в самом деле творится что-то неладное. Наблюдая за мужем, она все больше и больше убеждалась в том, что в характере Холмова происходят и уже произошли непонятные перемены. Было ли тому причиной, как уверял Чижов, душевное расстройство или что другое, она еще не знала. Очевидным было только то, что ее муж не был похож на того Холмова, каким она знала его много лет.
Верно было и то, что Холмов сделался молчаливым, меланхолически-грустным, добрым, вежливым. Никогда раньше, даже в самые трудные моменты жизни, он так не задумывался и не грустил. И в глазах появилось что-то скучное, не его, не холмовское. И затылок, как Холмов сам жаловался, болел сильнее прежнего. И ночи все так же проводил без сна, хотя соседская радиола и молчала.
В полночь вдруг зажигал свет. Соскакивал с кровати с такой поспешностью, будто боялся куда-то опоздать. Раскрывал книгу, клал на стол возле лампы и, застыв, стоял и стоял, смотрел и смотрел – то ли читал, то ли о чем-то думал.
Днем несколько раз садился к столу и что-то писал. Потом бросал карандаш и, сжимая кулаки, бледный шагал по веранде.
Как-то утром, когда Ольга готовила завтрак, Холмов умылся и вышел на кухню. Показал жене еще влажную ладонь правой руки, сжал кулак со следами неотмытых чернил на пальцах и сказал:
– Смотри, Оля! Эта моя рука, оказывается, никуда не годится. Да, да, именно никуда не годится!
– Что с нею? Болит?
– Нет, не болит. Рука как рука. Только вот беда – разучилась писать. – Горестно усмехнулся. – Не могу понять, как это могло случиться. Ведь это же была рука-труженица. Писала, и как писала! А теперь? Беру карандаш, начинаю писать, а рука плохо слушается, и буквы получаются какие-то неровные. – Он сел к столу, сжимал и разжимал кулак правой руки. – Помнишь, Оля, я ездил в Германию с сельскохозяйственной делегацией. На одной ферме нам показали лошадей. Они стояли в конюшне, в сенниках, сытые, холеные. Шеи у них были удивительно короткие. Если бы эти лошади стали пастись, то им нужно было бы становиться на колени. Иначе им травы не достать. Фермер заметил наше удивление и сказал, что такими короткими их шеи сделали обстоятельства. Пастбищ у фермера нет. От рождения и до старости лошадь знает только конюшню и ясли… Так, постепенно, из поколения в поколение, обычная лошадиная шея, какая бывает у табунных коней, укоротилась – за ненадобностью.
– К чему это, Холмов?
– Вот так, думаю, и моя рука. В последние годы мало трудилась над бумагой. – Рассмеялся. – Но ничего, наладится рука! Приобретет прежнюю твердость!
И это странное рассуждение о своей руке, и то, что Холмов на следующую ночь сжег лекцию, которую написал для него Чижов, испугали и не на шутку озадачили Ольгу. Раньше, она знает, Холмов никогда бы этого не сделал.
Он сжег лекцию ночью. Думал, что Ольга спала и ничего не видела. А она проснулась, когда Холмов, крадучись, как вор, торопливо прошел с веранды на кухню. Ольга встала и начала наблюдать за мужем в приоткрытую дверь. Видела, как Холмов опустился на колени возле печки, как зажег спичку. Потом он рвал листы, комкал их, клал в огонь. Делал он это не спеша. Разрывал лист, сдавливал в ладонях и клал в печку. Поджидал, пока бумага сгорала, озаряя бледное лицо, и разрывал новый лист, при этом говоря: «Сладкий мед, сладкий мед…»
Что означали эти слова? Ольга терялась в догадках.
Она подошла к мужу и спросила:
– Холмов! Что ты делаешь?
Не ответил, не оглянулся. Так же не спеша разрывал листы, и так же аккуратно клал их в печку, и так же повторял: «Сладкий мед, сладкий мед…»
– Да ты что, Холмов, оглох? Что сжигаешь?
– Разве не видишь? Бумагу…
– Зачем?
– Чтоб легче было.
– Кому легче-то?
– Мне, Оля, мне. Кому же еще?
Снова шелестел скомканный лист и повторялись слова: «Сладкий мед, сладкий мед…»
«Сладкий мед. Странно, – думала Ольга. – И слова-то придумал какие-то ненормальные. Сладкий мед? Это же сущая бессмыслица. Разве нормальный человек не знает, каким на вкус бывает мед? Не кислым же! И не горьким!..»
В последующие дни Холмов был спокоен. Из дому никуда не ходил. Больше всего просиживал возле родника. Читал книгу или так, задумавшись, смотрел в воду. От ивы на его белую голову падала тень, как от пляжного зонта. Вода в роднике была зеленая, видимо, оттого, что ива распустила над ним свои косы. В воде отражались ивовые ветки-мониста, и в их окружении была видна седая голова.
Нагибаясь к роднику, Холмов прислушивался и улыбался. Ольга видела это, и сердце ее опять наполнялось тревогой. Чего ради склоняется к воде? Что там можно увидеть или услышать? И снова те же мысли: вот и у родника Холмов делал то, что люди обычные, нормальные, не делали бы.
Он позвал Ольгу и сказал:
– Наклонись, Оля, и прислушайся. Шумливый же, стервец! Что-то говорит свое, людям непонятное, что-то нашептывает. А вот что? Не могу разобрать.
– Да и не надо разбирать. Зачем это тебе?
– Как зачем? Нужно!
Удивительное желание. Родник же сочился совсем неслышно, слабой струйкой. Вода-стежечка, поблескивая, тянулась к воротам и не издавала ни единого шороха. Как же мог Холмов что-то слышать?..
– Полежал бы, Холмов, – сказала Ольга, горестно глядя на мужа. – Отдохнул бы.
– А родник? – И Холмов заговорщически улыбнулся – Надо же мне дознаться, о чем он шепчет. Я же слышу!
«Ох, Холмов, Холмов, не родник, а что-то другое шумит у тебя в голове, – думала Ольга. – Надо пойти к Елене Павловне и посоветоваться. Может, и впрямь, как говорил Чижов, следует обратиться к врачам…»
Она все чаще и чаще стала думать о муже и о его странностях. И к какому бы факту ни обращалась, находила, что Чижов был прав. Что-то неладное и непонятное творилось с Холмовым.
Однажды часа в три ночи спавший на веранде Холмов пришел к Ольге и взволнованно сказал:
– Оля, дай мне местечко. Что-то одному со своими думками становится страшновато.
– Какие же у тебя думки, Холмов?
– Свои, близкие. Мысленно примеряю себя к одному человеку. И не могу примерить. И так приставлю себя, и эдак приложу. Не очень-то получается.
– Кто же он, этот человек?
– Ленин.
– Да ты что, Холмов? – испугалась Ольга. – Зачем же это делаешь? Ленин – человек великий. И зачем же к нему себя примерять?
– Оно-то есть к чему, и примерить-то нужно, а только трудно, – деловым тоном пояснял Холмов. – Я понимаю, по величию его личности, по таланту никаких примерок быть не может. А по духу? По сути нашей жизни? Что скажешь, Оля?
– Не думала об этом. Не знаю.
– А вот я думал. И пришел к выводу, что по сути нашей жизни, по духу – можно. Он коммунист, и я коммунист. И если, к примеру, поставить бы рядом с ним меня или кого другого и посмотреть, что есть у нас с ним общее, хорошее, и что то плохое, чем мы отличаемся от него. Рядом с Лениным все это было бы очень наглядно видно. Сам того не желая, я думаю и о том, когда и чем я был похож на Ленина, как коммунист на коммуниста, а где, когда и чем не был похож. Понимаю, где-то и в чем-то я поступал так, как в тех же случаях поступил бы Ильич, а где-то и в чем-то поступал не так, как в тех же случаях поступил бы Ленин. Очень важно и очень нужно проверять себя и свои дела по Ленину.
Холмов долго лежал молча. Смотрел в потолок, о чем-то думая. Потянулся к столику, взял томик, отыскал нужную ему страницу и сказал:
– Оля, послушай, как просто и как ясно он выражает мысли о государстве: «Государство – это есть машина для поддержания господства одного класса над другим». И в другом месте, вот здесь: «И эту машину мы возьмем в руки того класса, который должен свергнуть власть капитала. Мы отбросим все старые предрассудки, что государство есть всеобщее равенство, – это обман: пока есть эксплуатация, не может быть равенства». И вот еще: «…когда на свете не останется возможности эксплуатировать, не останется владельцев земли, владельцев фабрик, не будет так, что одни пресыщаются, а другие голодают, – лишь тогда, когда возможностей к этому не останется, мы эту машину отдадим на слом». Удивительно просто, глубоко и убедительно. Вот чему, Оля, я искренне и по-хорошему завидую. Мне бы уметь так излагать свои мысли.
Потом он заговорил тихо, мечтательно о пережитом, почему-то вспомнил молодость и спросил:
– А помнишь, Оля, нашу первую встречу? Я пришел в библиотеку. Попросил у тебя книгу, а какую книгу я попросил? Не забыла?
– «Отверженные». Такое, Холмов, не забывается.
– Да, верно, такое не забывается. Пора молодости! Что может быть прекраснее и памятнее! – Помолчал, ладонями закрыл лицо. – Что-то я стал часто думать об Игнате. Знаешь почему? Тогда, помнишь, в ауле зимой тридцатого нехорошо с ним поступили. Нехорошо, а? И вот думаю: а что нехорошо? Как же иначе в этой схватке могли бы поступить? Как?
– Зачем об этом вспоминать?
– А память? Написал Игнату и Кузьме. Просил приехать в гости. Приедет Игнат, вспомнит, заговорит. Что ему скажу?
– Скажешь то, что говорил и в тридцатом.
– Что-то не слышно вестей от братьев. Не пишут и не приезжают.
– Может, еще приедут, – сказала Ольга, думая о своем: с мужем что-то случилось. – Лето, страда. Сейчас им не до поездок. А может, и здоровье не позволяет. Братья-то постарше тебя…
– Эх, годы, годы, как же вы быстро прошумели! И крылья у вас сильные, и взмах широк. – Холмов повернулся, лег на спину и глубоко, всей грудью, вздохнул. – Улетели далеко, а я вижу их, эти прошедшие годы. Вот они, перед глазами. Веришь, Оля, раскрываются как уже прочитанные страницы, но страницы те так дороги сердцу, что их хочется перечитать еще и еще… не вслух, а про себя, мысленно. Так же, как мысленно ставлю себя рядом с Лениным. Просто так, для себя, для того чтобы убедиться в чем-то очень важном… Знаю, не одобряешь.
– Не в том дело, Холмов, одобряю или не одобряю. Твое желание кажется мне странным. Ни к чему эти твои примерки и эти прочитанные страницы. Да и поздно об этом думать…
– Думать, Оля, никогда не поздно, – ответил Холмов. – Даже есть поговорка: лучше поздно, чем никогда.
– У тебя заслуги, ордена, почет, – продолжала Ольга. – Что тебе еще нужно, Холмов?
– Да разве в этом счастье?
– А зачем так волноваться, переживать?
– Затем, что в мои-то годы я оказался не у дел. А почему? Думала ли ты об этом? Скажешь, силы мои уже иссякли, так, а? Или работать разучился?
– Ты же болен. К тому же, твоя контузия на фронте…
– Не болен я. И моя контузия тут ни при чем.
– Так в чем же причина? Объясни. Тебя же с такими почестями проводили.
– Да, ты права, с почестями, – грустно сказал Холмов после некоторого молчания. – Видишь ли, Оля, вопрос твой очень серьезный. Как на него ответить? Не знаю.
Он положил ладони под затылок и надолго умолк.
– Есть же какая-то причина твоего освобождения?
– Да, есть. Без причины, как известно, ничего не бывает.
– Какая же она, причина?
– Оля, Оля, женушка моя строжайшая, – нарочито весело заговорил Холмов. – Мое сиденье на приморском берегу, как я полагаю, можно объяснить лишь тем, что я уже не тот, какой кому-то нужен, вышел из послушания, стал самостоятельно и думать и дела решать. Точно не знаю, так ли это. Но как бы там ни было, а одно, Оля, очевидно: нельзя, непростительно в мои годы и с моим опытом отсиживаться в Береговом. Это же глубокий тыл, а мне полагается находиться на передовой. Вот я и спрашиваю сам себя: кому и какая польза от того, что Алексей Холмов в безделье коротает деньки? А сколько впереди этих, без дела истраченных деньков? Много. Через то и лезут в голову разные мысли и не дают уснуть. Мысли эти не отключишь за ненадобностью, как отключают, к примеру, механизм или электролампу, им не прикажешь молчать.
– Какие же они, те мысли, что им нельзя приказать молчать? – участливо спросила Ольга. – Поделись со мной, может, в чем помогу.
– Их много, и они разные, – сухо, без желания ответил Холмов. – Сегодня, например, все время думал о Сотниковой. Влезла она в голову, и не могу от нее избавиться.
– Кто такая – Сотникова?
– Доярка из совхоза «Левобережный». Как-то я тебе рассказывал. Со своим горем она была у меня на приеме. Многодетная мать, детишки у нее – один другого меньше. Муж пьяница. Подрался по пьянке и угодил в тюрьму. Сотникову же с детьми поспешили выселить из ведомственной квартиры.
– Так это же когда было, Холмов? Тогда ты еще и не думал уходить на пенсию.
– Верно, не думал.
– И, как я помню, ты тогда же помог этой женщине.
– Не во всем. Жилье Сотниковой дали. Но как она там теперь живет с детьми? Я же ничего не знаю.
– А зачем тебе знать?
– Да хотя бы затем, что я еще живой человек!
– Не надо волноваться, Холмов.
– Не могу не волноваться… Старшая дочка у Сотниковой с призванием к музыке. И слух и голос отличные. Я обещал устроить эту девочку в Южном в музыкальную школу. Поручил Чижову, а не проверил. Забыл. Черт знает что за память! Да и Чижов молчал. Значит, ничего не сделал. Вот и злюсь и ругаю себя. Ведь обещал же, слово давал…
– Не надо волноваться, Холмов, – все так же участливо говорила Ольга. – Ты же уехал из Южного, ушел на отдых. Зачем тебе теперь печалиться о Сотниковой? Без тебя, Холмов, подумают.
– Что ты все Холмов да Холмов? Хотя бы в эту минуту, когда на душе у меня так тяжко, называла меня по имени, – сказал он грустно. – Холмов да Холмов. Муж я тебе или Холмов?
– Успокойся, прошу тебя. Зачем же так…
«Послушаешь, будто рассуждает умно, здраво, – думала она. – А вникнешь в смысл – не понять. К чему и эти „прочитанные страницы“, и то, что себя к Ленину примеряет? Что с ним?»
Ольга вспомнила еще один случай. Именно этот случай, как та капля, что переполняет чашу, окончательно убедил ее в том, что муж ведет себя странно. Однажды, возвращаясь из магазина, она еще на улице услышала песню. Под аккомпанемент баяна пела какая-то голосистая певица.
Ольга была не то что удивлена, а поражена, когда, войдя во двор, увидела на веранде Холмова и Верочку. Верочка пела песню военных лет, теперь уже почти забытую, – «Синенький скромный платочек…» Пела задушевно, с чувством, голосом мягким, приятным. Холмов же играл тихо и поглядывал на певицу с какой-то странной улыбкой. «Это еще что за художественная самодеятельность? – с горькой иронией подумала Ольга. – Только такого дуэта мне и недоставало…»
Прошла мимо. Будто ничего не видела и не слышала. На кухне, слушая все тот же задушевный голос Верочки и слова: «Ты говорила, что не забудешь ласковых, радостных встреч», Ольга задумалась. И эти слова, и голос Верочки были ей противны. Понимала и боялась сознаться самой себе, что ее, как иголкой, кольнула ревность. Странно. Давно таких уколов не ощущала. Даже забыла, что оно такое – ревность. Думала, что это чувство давным-давно умерло. Выходит, нет, не умерло…
– Нехорошо, Холмов, устраивать концерты, – сказала она, когда Верочка ушла, а Холмов с баяном на коленях еще сидел на веранде. – Может, собираешься выступать в самодеятельности?
– Нет, не собираюсь, – ответил Холмов. – Но почему нехорошо?
– Потому нехорошо, что ты не станичный парубок.
– При чем тут парубок? Если Верочка умеет петь, а я умею играть… Что тут такого?
И раньше Ольга замечала, что Холмов защищал Верочку. Замечала и то, что Верочка, когда приходила, уж очень по-женски игриво поглядывала на Холмова. И смеялась как-то чересчур звонко, и вся сияла, словно каким-то ярчайшим огнем была подсвечена изнутри.
После отъезда Чижова Верочка на день раза два забегала к Холмовым. То приносила в горшочке холодное, из погребка, козье молоко, то газеты или журналы, то приходила, как она говорила, «так, чтобы одной не скучать…». Верочка сама напросилась помогать Ольге по дому.
– Буду домашней работницей на два дома! – со смехом говорила она. – Согласны, Ольга Андреевна? Вам же одной трудно. И обед надо сготовить, и полы помыть, и постирать, и за продуктами сходить… Я хорошо буду вам помогать. Я сильная! Только платы никакой мне не надо. Я же ваша соседка!
Ольгу не обрадовало предложение Верочки. «Обойдусь и без помощи, – думала она. – Уж очень помощница шумная…»
Решила посоветоваться с Холмовым. Но тот обрадовался.
– А что? – откликнулся. – Пусть помогает. Молодая, резвая, как ветер!
С болью в сердце Ольга согласилась принять помощь Верочки. И снова замечала – да Верочка этого и не скрывала, – с каким восхищением соседка поглядывала на Холмова, когда он пил прямо из горшочка прохладное козье молоко или когда Верочка подавала ему завтрак. И глаза ее как-то диковато блестели. Ольгу обижало то, что эти откровенные взгляды Верочки не только не смущали Холмова, а нравились ему. Он тоже, отдавая горшочек, улыбался Верочке как-то не так, как обычно улыбался всегда и всем, и тоже был весел. А тут еще этот «Синенький скромный платочек» под звуки баяна. «Да, с ним происходит что-то неладное, – решила Ольга. – Влюбиться в эту вертихвостку он, разумеется, не может. Это исключено. И годы и положение. Хотя как сказать. Всякое случается. Но как он мог подыгрывать Верочке на баяне? Станичный парубок, что ли? Нормальный человек разве стал бы это делать? „Ты говорила, что не забудешь…“ Как такое мог позволить Холмов, в его-то годы, с его-то характером и убеждениями?.. Нет, нет, тут не ухаживание за молодой и смазливой соседкой, а что-то совсем другое. Не с психикой ли что? Не пойти ли к Елене Павловне? Что-то надо предпринимать, что-то надо делать».
Глава 21Утром, сказав мужу, что пойдет в магазин, Ольга отправилась за советом к Медянниковой. Но у Медянниковой ничего утешительного для себя не нашла. К тому, о чем Ольга ей рассказала, Медянникова отнеслась спокойно, даже равнодушно. Когда Ольга заговорила о психиатре, Медянникова рассмеялась и сказала:
– Что вы, милая Ольга Андреевна! Зачем психиатр? И нету в Береговом такого врача. Да и не нужен он. Опасения ваши совершенно напрасны. Алексей Фомич здоров, и ему нужна, как я полагаю, не врачебная помощь.
– А какая?
– Обыкновенная, человеческая, – ответила Медянникова, с улыбкой глядя на загрустившую Ольгу. – Алексей Фомич еще не привык к Береговому. Не свыкся со своим новым положением, сказать проще: не научился каждый день жить без дела. Да, именно не научился! – решительно повторила Медянникова. – Это не так просто – жить без дела. К тому же кем он был и кем стал? Сколько людей подчинялось ему? Жил у всех на виду, и каждый день у него был загружен до отказа. Сколько тратил энергии тогда, сколько ее тратит теперь? Это, Ольга Андреевна, как если бы на большой скорости у автомобиля заклинило тормоза. Что получилось бы? Авария! Сила инерции опрокинула бы машину. А человек? Он же слабее машины. У него сердце, нервы. И вам, Ольга Андреевна, не надо так переживать. Поверьте мне, Алексей Фомич здоров. Поживет год-другой в Береговом, привыкнет к замедленному ритму жизни, войдет, как говорится, в нормальную колею, и автомобиль покатится тихо, спокойно, и все будет хорошо. Даже то, что Алексей Фомич сжег лекцию, что он, как вы говорите, себя к Ленину примеряет, опять же свидетельствует о том, что такому человеку, как Холмов, не привыкшему сидеть без дела, нужна деятельность и деятельность.
Когда Ольга сказала о баяне и о песенке «Синенький скромный платочек», Медянникова улыбнулась.
– Я так полагаю, Ольга Андреевна, что и баян и песенка – все это от скуки, от безделья, – сказала Медянникова. – Скучно Алексею Фомичу в Береговом. Как это говорил поэт? «И скучно, и грустно…» Вот он и чудит. Но все это со временем пройдет, уверяю вас. Так что все ваши тревоги выбросьте из головы, успокойтесь и послушайте моего совета. Как своей старшей сестре, говорю вам, что Алексею Фомичу нужен не врач, а наш генерал Кучмий. Вы улыбаетесь? Да, именно Кучмий! Вы еще не знаете генерала Кучмия? Он тоже, как и Алексей Фомич, из кубанцев. Алексею Фомичу нужно подружиться с генералом. Кондрат Акимович Кучмий обязательно излечит Алексея Фомича от всех «болезней».
– Да как же Кучмий это сделает? – удивилась Ольга. – Он что, волшебник?
– Похлестче любого волшебника, – весело сказала Медянникова. – Ведь Кучмий не только кубанский казак и генерал в отставке. Он же еще и председатель артели «Сладкий мед».
– Я слышала, как эти слова Холмов повторял, когда сжигал лекцию, – сказала Ольга. – Как-то так задумчиво говорил: «Сладкий мед, сладкий мед». А что оно такое, понять не могла.
– Если повторял эти слова, – хорошо, – одобрительно отозвалась Медянникова. – Значит, уже знает об этой пчелиной артели, и слова «сладкий мед» запали ему в душу. Так что, Ольга Андреевна, придет к вам не врач, а генерал Кучмий. Только вы ни в чем ему не мешайте. Пусть побеседует с Алексеем Фомичом, подружится с ним, пусть возит его на пасеку. Сполна доверьтесь Кучмию. Человек он, помимо всего прочего, весьма порядочный.
Побывав у Медянниковой и немного успокоившись, Ольга вернулась домой и, ничего не сказав мужу, стала поджидать генерала. А тот, как на беду, не приходил. Только на третий день рано утром Кучмий приехал на «Волге». Сам отворил ворота. Снова сел за руль и въехал во двор. Вышел из машины, наклонил седую стриженую голову:
– Рад представиться! Генерал Кучмий!
Ольге поцеловал руку, сказав, что давно хотел познакомиться с Холмовым и с его женой. Был Кучмий уже не молод, но еще крепок телом. Такого с ног свалить не так-то просто. Седая голова острижена под ежик. Усы и брови черные, явно крашенные, потому что чернота, как заметил Холмов, была неестественная. Его усатое, загрубевшее лицо озаряла радостная улыбка. Было видно, что по своему характеру казачий генерал был человеком веселым, общительным, добрым.
– Елена Павловна мне говорила, что и вы, Алексей Фомич, и ваша уважаемая супруга Ольга Андреевна принадлежите к казачьему роду, – с той же доброй улыбкой сказал Кучмий. – Удивительно! Куда ни заглянь, всюду встретишь своих кубанцев! Поразительно! Ох, как же широко разбрелось по белому свету казачье племя! И в Сибири живут кубанцы, и в Средней Азии живут, и во Владивостоке живут, и тут, близ моря, тоже живут.
– Может, и не всюду живут казаки, – усомнился Холмов. – Прошу вот сюда, в колодочек. Присядьте.
– Да что ты, Алексей Фомич? – возразил Кучмий. – Именно всюду! Как-то я был в Париже. Ездил вольным туристом. Так и в Париже столкнулся с одним кубанцем! И как? В гостинице, разом вошли в лифт. Я узнал его по обличью. Сколько прожил в Париже, а не офранцузился. Кубанское так и прет из него! Старше меня, но еще строен, черт! Офицерская выправочка. Перекинулись мы словом. Оказался тот кубанец препорядочным прохвостом, если не сказать еще злее. Белый эмигрантик, сучий сын! В чине полковника. Служил у Деникина. И удивительно, фамилия, как у меня, – Кучмий! Говорю ему: ну что, Кучмий, тянет на Кубань? Как «родичу», сознался. Тянет, говорит, и так тянет, что Кубань во сне каждую ночь видится. Что ж ты, говорю ему, за такая за сволочь, что мог отрешиться от родной земли? Молчит. Не утерпел я и сказал острое, с перцем, словцо – по-нашему, по-кубански. Не обиделся, подлец!
– Кубанцы, разумеется, есть разные, – сказал Холмов. – Сколько их служило в белых! Вот и пришлось им лишиться родины.
– А ты, Алексей Фомич, из какой станицы?
То, что этот усатый мужчина как-то естественно и просто, как бывает только у друзей, обращался на «ты», тоже говорило о его общительном характере, и Холмову это понравилось. Он улыбнулся и ответил:
– Из Весленеевской.
– А! Кубанская верховина! Как же, знаю твою Весленеевскую! Стоит на речке Весленеевке. В гражданскую бывал там. Затерялась та станиченка средь черкесских аулов. И сама своим видом смахивает на аул. Да и казаки тамошние похожи на черкесов – и обличьем и одеждой. В Отечественную были в моем полку казаки из верховья. Конники отменные, в седле сидят, как стаканы в подстаканниках, – позавидуешь! И тут манеру взяли у горцев. Только Шамиль да разве что еще Хаджи-Мурат умели так строго и красиво сидеть в седле. – Ловко, двумя пальцами тронул крашеные усы. – Одного казака из верховья Кубани очень хорошо помню. Твой однофамилец – Холмов Кузьма.
– Кузьма? – удивился Холмов. – Так это же мой брат!
– Да неужели? – еще больше удивился Кучмий. – Храбрый у тебя братуха, как черт! Когда мы гуляли по немецким тылам, так Кузьма Холмов нагонял порядочно страху на фашистов. Бесстрашный разведчик! За храбрость свое седло подарил ему. Снял с коня и отдал… А где он теперь?
– В Весленеевской. Табунщик.
– Отличный казачина! Будешь ему писать, перекажи поклон от генерала Кучмия… А я родом из Платнировской. Равнинная станица. В старое время более всего славилась пластунами да гвардейцами. Но и конные полки мы тоже пополняли. Любовь к коню у платнировцев в крови. – Он сел на предложенный ему стул, играя нанизанными на цепочку ключами от машины, – не генерал, а старый, видавший виды шофер. – А теперь вот гарцую на стальной кобыле. Ничего, бегает. Ежели покажешь плетку и дашь в бока шпоры – идет галопом! – Доверительно наклонился к Холмову. – Веришь, я часто думаю об этой нашей казачьей нации. Живуча, просто чудо! Ничто ее не берет! Выбираемся хоть из полымя, хоть из воды. А какая храбрость сидит в душах! Непостижимо! Воображение меркнет, ей-богу! По себе и по другим сужу. И без всякой похвальбы. Ни к чему зараз мне похвальба. Считай, полжизни проездил на боевом коне. Две войны прошел в седле – и хоть бы что. В гражданскую воевал еще подростком. Более всего находился в разведвзводе. В Отечественную кавалерия шла следом за танками. В каких только боях не был, а вот и жив, и здоровье не порастряс. – Снова чиркнул ладонью усы, звякнул ключами. – А сколько видел смертей! Да им, чертям, и счету нету!
– Знать, на роду вам такое написано, – сказала Ольга, готовя на веранде чай.
– На роду написано или еще где, не знаю, а удивляться удивляюсь, – продолжал Кучмий. – В Отечественную я командовал Первым Кубанским полком. Сам формировал. Ездил по станицам и отбирал казаков – один в один, как для гвардии. Разве не слыхал про Первый Кубанский? – обратился он к Холмову. – Ну как же так? Загляни для интереса в историю войны. Кто, к примеру, ходил по немецким тылам? Мы ходили, и еще как ходили! А корпус Кириченко знаешь? Впоследствии, когда мы погуляли по немецким тылам, мой полк вошел в корпус Кириченко. Позже этим прославленным корпусом командовал генерал Плиев. Хоть и не из казачьего племени этот Плиев, а храбр, как черт!
За столом, куда пригласила его Ольга, Кучмий, не притронувшись к чаю, продолжал:
– Был в моем полку начштаба подполковник Горицвет. Не казак. По рождению и по характеру принадлежал к щирой украинской нации. Страсть как любил Шевченко! А как обожал украинские песни – слов не подберешь! Был мечтатель и храбрец! И ему сильно приятно было мечтать и грустить под песню. Для этой цели имел при штабе патефон и одну-единственную пластинку – «Думы мои, думы…». В ту пору мы как раз отступали. Времечко, сам знаешь, было невеселое. И как только случится какая малая передышка или привал, так уже слышу: «Думы мои, думы…» И сидит Горицвет над патефоном и тихо подпевает. Иногда слезы застилали ему глаза. Или предчувствовал свою гибель? А как он погиб! Сказка або былина! Когда танки продырявили немецкую оборону под Барвенковом, наш полк и шуганул в ту расщелину. Было это зимой. Ночь темная, метельная. На рассвете налетели на немецкие резервы. Ух, и бой загорелся! Вспоминаешь, так и зараз холодок идет по телу. В том бою миной, как саблюкой, скосило Горицвету голову. Пугливый конь понес Горицвета без головы. Так понес, что еле-еле удалось словить коня… В другом бою погиб мой комиссар, тоже геройской смертью. Фамилия у комиссара редчайшая – Потрясаев. Бурка поверх белого полушубка, затянутого ремнями. Бывало, ударит себя в грудь и скажет: знаешь, кто я? По-тря-са-ев! Русская натура, из-под Тулы. Тоже не казак, а погиб в седле. Ошметок снаряда, величиной с ладонь, проломил ему грудь. Покачнулся комиссар, похилился, как подрубленное дерево, на конскую гриву… Сколько еще воинов гибло на моих глазах! А меня, веришь, ни там, на рейдах, ни в боях позднейших даже пуля не царапнула.
– Радоваться надо, – сказала Ольга. – Это же какое счастье! Пейте чай.
– Я и радуюсь, а людям скажи – не поверят. – Отхлебнул глоток чаю, широко улыбнулся. – Ить за всю войну не только в госпитале не лежал, а и в санбате не был. И все это, как я заключаю, оттого, что принадлежу к казачьей нации. Как это поется? «И в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим…»
– Казаки-то не нация, – заметил Холмов и подумал: «А хвастовитый этот усатый казачина. И, видать, любитель поболтать и о себе порассказать…»
– А кто же мы, если не нация?
– Сословие. Да и то все это в прошлом.
– Сословие или нация – все одно. – Тут Кучмий, допив чай, как-то неожиданно от войны перешел к пчелам. – К примеру, возьмем обыкновенную медоносную пчелу. Есть, есть в натуре этих разумных существ что-то от казаков. Честное слово! Если задуматься, то что оно такое – пчела? Насекомое. А какой в том насекомом сидит разум, инстинкт, а лучше сказать, чутье-смекалка? Просто диву даешься. Казачьи натуры, ей-богу! Маршируют, чертяки, за десятки верст, ищут там мед и запросто возвращаются к своему улью. Как находят дорогу? При помощи высокоразвитой смекалки. Вот уж сколько лет сряду наблюдаю жизнь пчелы. Мирные, антивоенные существа. А какие изумительные трудяги! В улье – вот где, Алексей Фомич, пребывают истинные труженики! Какая завидная организованность! Какая самодисциплина! В казачьем полку иной раз такого порядка не сыщешь. Честное слово! – И весело рассмеялся. – Алексей Фомич, а ты еще не догадался, чего это ради пчелами морочу тебе голову?
– Признаться, нет, не догадался.
– Зараз поясню. Без обиняков! – И улыбка засияла на черноусом лице. – Агитирую, чтоб ты записался в нашу артель «Сладкий мед». Я же состою там главою правительства. Премьер! Вот и вся суть. В порядке взаимной помощи мы скинемся по улью, и вот уже у тебя своя пасека. А там дело пойдет. Ульи начнут роиться. Так что лиха беда начало!
– Спасибо. Но зачем же мне записываться в артель?
– Как зачем? – удивился Кучмий. – Для личной выгоды. Могу наглядно пояснить. Первая выгода: станешь пчеловодом, и к тебе зараз же заявится нервное успокоение. По мне суди. На нервную систему пчела действует безотказно – прямым попаданием! Вторая выгода: всегда на свежем воздухе. И где? Средь цветущей степи! Природа, все ее красоты рядом. Благодать! Третья выгода, и немалая, – круглый год на столе свой мед, и какой медок.! Объедение! Это не то, что, бывало, принесешь с базара. Аромат! А по сладости неподражаем! Ну так как? Записать?
– Пчеловод-то из меня будет никудышный, – сказал Холмов. – Никогда не имел дела с пчелами. Все с людьми да с людьми…








