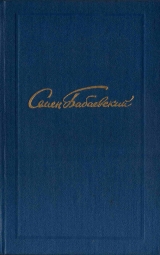
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 3"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 33 страниц)
Если вам доводилось видеть вблизи Эльбруса слияние грохочущих вод Уллулана и Учкулана, откуда, собственно, и берет свое начало Кубань, то вы, увидев ту же Кубань недалеко от Славинска или Варенниковской, никогда не скажете, что перед вами одна и та же река.
Там, у истоков Кубани, высятся скалы, тянутся к небу сосны, шумят водопады и гремят пороги. Тут, в низовьях, в ее устье, тишина, греются на солнце рисовые чеки и косматыми папахами видятся вербовые рощи. Там, на виду у Эльбруса, день и ночь, не зная устали, река бьется о камни и, взъерошив пенистую гриву, опрометью скачет по каменистому руслу. Тут, близ низовских станиц, Кубань обступают невысокие, укрытые травой, как коврами, глинистые берега, местами такие низкие, что если сядешь на траву или на песок, то ноги окажутся в воде. Там, у ее истоков, водится серебром крапленная форель. Тут, в устье, живут ленивые голавли, сазаны, пескари, а с моря приходит погреться и отдохнуть севрюга.
Если обратиться к метафоре и сравнить Кубань с красавицей казачкой, то можно сказать: там, у истоков, ее беспечная, шумная юность, развеселое девичество – песни да пляски. Тут, в низовьях, где согретая солнцем вода разделяется на рукава и протоки, где на десятки верст тянутся камышовые плавни и блестят рисовые плантации, где только призывный крик утки и зоревый всплеск рыбы нарушают устоявшуюся тишину, – тут ее счастливое замужество.
Вербы, низкорослые, с гнутыми, кручеными стволами, подступили к самому берегу, кланяются. В солнечную погоду их косматые ветки вместе с опрокинутым небом отражаются в воде, как распущенные косы в зеркале. Смотрят вербы, любуются собой и не могут насмотреться. По вечерам же, когда солнце близится к закату, и по утрам, когда оно встает над рекой, тени от верб, как от шатров, достают до середины реки, и вода тогда кажется темной, а омуты – бездонными.
Как для любого уральца Урал, для днепровца Днепр, для донца Дон являются реками родными, близкими, несущими в себе тепло родины, так и для истинного кубанца Кубань есть не просто географическое понятие, помеченное на карте тончайшей линией. Для кубанца Кубань – это частица родины, то святое и милое сердцу место, с которым связана вся твоя жизнь. В самом облике Кубани – от истоков до устья – видится твое детство, твоя юность, знакомые тебе бескрайнее пшеничное море, зеленые тучи кукурузы, рисовые метелки, стоящие по пояс в воде.
Вербовые рощи всюду позаросли ежевикой и хмелем, в иных местах так густо, что сквозь колючее зеленое сплетение не прорубиться и саблей. Но даже такие, стеной стоящие вербы у берега имеют приметные места, куда частенько причаливают лодка или баркас, – места эти хорошо знакомы бакенщикам и инспекторам рыбнадзора.
Сегодня, когда солнце опустилось за вербы и на середине реки легла размашистая тень, к одному такому приметному месту причалила плоскодонная лодчонка. На берег вышел бакенщик Евсеич, бритоголовый, низкорослый старик. Он привязал лодчонку к корневищу, взял мокрый мешок, в котором билась, шурша хвостом о жесткую мешковину, матерая севрюга, только что снятая с крючка. По зарослям ежевики, низко нагибаясь, с мешком на спине, Евсеич направился к поляне, к неказистому домишку, издали чуя приятный запах костра.
Костер развел Евгений Строгий. Главный бухгалтер «Авангарда» доводился бакенщику племянником по материнской линии. Евгений приехал на мотоцикле еще утром. В кошелке, притороченной к рулю, привез пиво в бутылках, водку, помидоры, буханку хлеба и сказал, что к вечеру сюда прибудет Работников, и не один.
– С ним, дядя, явится гость особенный, – пояснил Евгений, приглаживая оранжевый усик. – Тот гость очень важную подмогу оказал нашему «Авангарду». И запросто. Поехал в район, привез Медянникову – и все готово. Пять дней жил у нас. Всюду побывал: и на фермах и в бригадах. Дотошный, с людьми умеет беседовать.
Евсеич не стал расспрашивать, что за гость, почему он особенный и что такое сделал для «Авангарда». По натуре Евсеич был человеком нелюбознательным и молчаливым. К тому же привык, что хижину его, укрытую вербами, всегда навещали гости только особенные и важные. И всегда загодя, до того как приехать важному гостю, заявлялся на своем «бегунке» племянник.
Привык Евсеич и к тому, что раз пожаловал гость, то непременно потребуется уха. Будет выпивка, значит, и ему, Евсеичу, поднесут рюмку. И хотя ловить красную рыбу в Кубани было категорически запрещено, Евсеич шел на риск, как-то ухитрялся не попадать на глаза инспектору рыбнадзора и всегда привозил в мешке, как и теперь, еще живую рыбину.
После того как приехал к нему племянник, Евсеич молча, даже не спросив, нужна ли рыба, ушел к берегу, погнал лодчонку на то место, где Кубань делилась на два рукава, и на развилке, в глубине, бросил подпуска – шнуры с крючками, и вот живая севрюга уже билась в мешке.
– Ну как, дядя? – спросил Евгений. – Имеется добыча?
– Порядок уже полный! Вот она, сидит в мешке! Погляди, какая беспокойная! Как зверюка! – Евсеич раскрыл мешок, стараясь поймать рыбину за хвост. – Силища у нее – беда! Чуть-чуть уж было не лопнул кукан.
– Я слышал, на реке гремел моторчик, – говорил Евгений, заглядывая в мешок. – Инспектор, случаем, тебе не повстречался?
– Промчался уже мимо! – у Евсеича была привычка вставлять «уже» там, где нужно, а чаще там, где не нужно. – Я рукой ему уже помахал. По-приятельски. Ну так что, Женя? Начнем приготовлять кушанью?
– Начинай, – сказал Евгений. – Скоро приедут.
Евгений не ошибся. В то самое время, когда Евсеич, наточив на бруске нож, занялся севрюгой, а над костром черным пауком повис казанок с водой, Работников и Холмов направлялись к вербам, темневшим вдали. Не дорога, а только слабый след от нее прятался в густой, пожелтевшей траве. Потом пропал и след. По траве подъехали к вербам. Машину пришлось оставить в терновом кустарнике. Шофер погасил мотор, вышел из машины, повернулся лицом к роще, сильно потянул носом, по-собачьи принюхался и сказал:
– Моя правда! Азимут мы взяли правильный! Чуете, тянет дымком? Значит, не ошиблись. Теперь идите за мной.
Шофер надел кожаные перчатки. Смело раздвигал цепкие, колючие заросли ежевики, придерживал ветки, давая возможность Холмову пройти.
– Сюда, вот в этот проход, – говорил он. – Смелее! И кланяйтесь ниже! Ишь какая колючая, чертяка!
Следом шел Работников. О нем шофер не беспокоился: пройдет!
Когда они появились на поляне, там полным ходом шло приготовление ужина. Пылал костер, языки жаркого пламени обнимали казанок. Дым серой, разорванной шалью укрывал домик. Вода в казанке парила и покрывалась мелкими пузырьками.
Евгений встретил гостей так, как встречают младшие армейские чины старших: стоял навытяжку возле пылавшего костра. Этой своей безупречной солдатской выправкой и строгим лицом с оранжевыми усиками он как бы говорил, что возложенная на него задача выполнена и что там, где он, Евгений Строгий, всегда и во всем есть порядок. Убедившись в том, что и Работников, и особенно Холмов им довольны, Евгений начал подкладывать в огонь мелко нарубленный сушняк.
Евсеич сидел возле хатенки на бревне. Коленями зажал большую эмалированную кастрюлю, на которой лежало сито из тонкой стальной проволоки. Старательно, умело, то одними пальцами, то всей ладонью, Евсеич протирал на сите только что вынутую из севрюги икру, при этом слегка поливая ее соленым раствором – тузлуком. Темно-серые икринки проскальзывали сквозь сито, а плева, растертая и похожая на растолченное сало, оставалась на сите и у Евсеича на пальцах. Тут же, на мокрой мешковине, лежала, еще слабо зевая, севрюга с распоротым пустым животом.
Работников похвалил Евсеича за старания, сказал, глядя на Холмова, что севрюжья уха самая вкусная. Холмова заинтересовала не уха, а то дело, которым занимался Евсеич, потому что он никогда еще не видел, как самодельным способом приготовляется севрюжья икра.
Холмов подошел к бакенщику и протянул руку. Евсеич оставил работу, вытер липкие пальцы о полу пиджака и подал Холмову свою. Ему не верилось, что этот невзрачный на вид, в лыжном костюме, седой и худющий мужчина и есть какой-то особый гость. Видя, что Холмов, присев на бревне, с любопытством смотрит то на зевавшую севрюгу, то на сито, Евсеич кашлянул и сказал:
– Не удивляйся! Иначе уже нельзя. То, что рыбина живая, как раз и хорошо, потому что икра берется только с живой. Ежели взять икру уже с уснувшей, то того ароматического вкуса не получится. – Тыльной стороной ладони Евсеич отогнал комара и почесал бритую голову. – Славная получится икорочка! Зараз мы ее еще сильнее приправим тузлучком, а после этого ложкой, и непременно деревянной, маленько помешаем – для порядка. И икорка уже готова, можно кушать.
Холмову понравился бритоголовый, с квадратным черепом старик, занятый таким важным делом. И то, что Евсеич, разговаривая, к делу и не к делу вставлял свое по-южному мягкое «уже», придавало его словам оттенок доброты и радушия. Холмов подсел поближе к бакенщику и спросил, какая на Кубани водится рыба и строго ли охраняется река от браконьеров.
Не переставая работать, Евсеич ответил вопросом:
– Намекаешь на севрюгу?
– Намекаю.
– Охрана, конечно, уже имеется. – Евсеич весело посмотрел на Холмова. – Но для меня та охрана нипочем.
– Отчего же так?
– Отчего? От знакомства. Спросите любого прочего, Евсеича все инспектора знают как облупленного.
Не желая, чтобы этот разговор продолжался, Работников пригласил Холмова пройти на берег.
– Полюбуешься, Алексей Фомич, рекой и закатом, – сказал он. – Чудо, а не закат! Солнце опускается прямо в воду, как в море, и вся река через то, как в пожаре. Пока мы там побудем, сварится уха. Как, Евгений, уха скоро?
– Самое многое – через часик!
– Ну так мы пойдем на берег, – сказал Работников.
Глава 20Подойдя к реке, Холмов увидел на ее берегах зеленые стены из верб. Стены эти поднимались высоко, и между ними, как между кручами, замедленно, с ленцой, двигался могучий поток, озаренный ярким светом заходящего солнца.
От того места, где стояли Холмов и Работников, хорошо был виден крутой изгиб Кубани. Далее, от изгиба, обсаженная вербами река напоминала ровный, весь в зелени, проспект, широкий и нескончаемо длинный. В самом его конце, далеко-далеко, солнце прикоснулось к воде, и река жарко заполыхала.
– Как раз мы подошли ко времени, – сказал Работников. – Явись сюда чуть позже, и этого пожарища на воде не увидеть. Я тут бывал и вот точно так любовался этой красотой.
Холмов не мог оторвать взгляда от впервые увиденного им на реке зрелища и пожалел, что длилось оно не больше полминуты. Как только раскаленный шар погрузился в воду, река сразу поблекла. Угасли краски и на воде и на небе, уступив место сумеркам, которые незаметно, как невидимый туман, оседали на вербы.
Холмов опустился на сухую, толстым войлоком лежавшую траву. Снял кеды, до колен засучил штанины своего лыжного мягкого костюма и окунул ноги в воду. Вода была холодная. Болтая ногами, он вспомнил, как, бывало, в молодости вот так же сиживал на берегу. Вспомнил станицу Весленеевскую, свою юность. И тогда, как и теперь, вода только сперва казалась холодной. И тогда от реки тянуло прохладой, и ветерок точно так же играл его мягкими волосами.
Невольно подумал и о том, что вот эта же вода, прохладу которой он чувствует своими ступнями, не так давно протекала мимо Весленеевской, как протекала она и тогда, когда Холмов еще был подростком, и что это извечное ее движение никогда не прекратится. И ему стало грустно. Грустно оттого, что он, сидя на берегу, видел себя юнцом, одновременно понимая, что он уже старик; что то, что нескончаемо повторяется с водой, с ним никогда не повторится; что ветерок шевелил его седые пряди и что все то, что когда-то было там, на весленеевских берегах, может воскреснуть только во сне.
– Алексей Фомич, ради бога, подними ноги, – озабоченно сказал Работников. – Кубанская водичка сильно обманчива. Будто она и ничего, будто приятная своей прохладой, а простуду от нее схватить ох как нетрудно. Берется-то она из ледников! Вынимай, вынимай!
По совету Работникова жгутом из травы Холмов вытер посвежевшие ноги. Старательно тер ступни, пальцы, щиколотки и думал о том, что вот этими жилистыми и уже отдохнувшими ногами ему еще предстоит шагать и шагать. Подумал и о брате. За все эти дни, разъезжая по степи, встречаясь с людьми, Холмов так увлекся привычной ему деятельностью, по которой соскучился, что о Кузьме ни разу не вспомнил.
– Как там мой братуха? – спросил он, обращаясь к Работникову. – Заждался меня, бедняга.
– Еще тогда, когда мы с тобой уехали в степь, я посоветовал Кузьме отправиться в хутор Урупский и там тебя поджидать, – пояснил Работников. – До Урупского отсюда будет километров сто, а то и больше. Так что Кузьма, может, только вчера туда прибыл. В Урупском живет мой родич – двоюродный брат. Кузьма припеваючи поживет у него. Завтра утречком я тебя доставлю в Урупский, а там, ежели пожелаешь, пойдешь пеша. Но до Весленеевской от Урупского еще далече.
– Почему бы нам сейчас не поехать в Урупский? – вдруг оживившись, спросил Холмов. – Поедем, а?
– А как же уха? А свежая икорка? Да и поздно. Поужинаешь, отдохнешь. Утром позавтракаешь и поедешь. Хочешь, Алексей Фомич, постелю тебе тут, прямо на берегу? Близ воды снится хорошо!
– Ни к чему ты, Никитич, устроил это угощение, – не отвечая на вопрос, сказал Холмов. – Зачем?
– Как зачем? – удивился Работников. – В твою честь!
– Повторяется то, что было и что хорошо мне знакомо.
– Совсем это не то, что было, – рассудительно заговорил Работников, понимая, что означали слова «повторяется то, что было». – Зараз, Алексей Фомич, все делается исключительно из уважения, сказать, от чистого сердца. Как же отказаться и не принять то, что делается от чистого сердца?
– К тому же, ты знаешь, что для угощений я уже не гожусь. Здоровье не позволяет.
– Ушица, икорка – не вредно, пища добрая. А водку можешь не пить.
Холмов не стал возражать. Возможно, Работников прав. И пища хорошая, и если то, что делается там, возле домика бакенщика, делается из уважения, от чистого сердца, то ничего в этом плохого нету.
В это время, потрескивая сушняком, подошел Евсеич, пропитанный дымом и запахом свежей рыбы. Он сказал, что ужин готов. Отвязал, гремя цепью, лодку и уехал зажигать бакены. Начинало темнеть.
– Пойдем, Алексей Фомич, – сказал Работников, помогая Холмову подняться. – Отведаешь севрюжьей ухи! Такой ушицей в Весленеевской тебя не покормят. А какая икорка, когда она еще в натуральном, свежем виде! Чудо!
Глава 21Фара мотоцикла слепила глаза, озаряла стоявшие на столе алюминиевые чашки, доверху налитые ухой, эмалированную миску с икрой, бутылки, граненые стаканы.
Запах ухи приятно щекотал ноздри, есть бы ее да есть! Полная миска икры – черпай хоть ложкой. Но Холмов ел нехотя и мало. От водки и от пива вовсе отказался. Больше всего это огорчило Работникова.
– Обидно, Алексей Фомич, когда гость не ест и не пьет, – сказал он грустно. – Одним хозяевам, без гостя, прикладываться к стаканам как-то неудобно.
Евсеичу, любившему в компании выпить и поесть, сам по себе отказ Холмова от еды и выпивки показался невероятно странным. Считая неудобным говорить, что многие годы по совету врачей он на ночь съедал сухарик и выпивал стакан простокваши, Холмов сказал, что за день устал и что поэтому у него нету аппетита.
– Свежая икорка и уха дюже для живота пользительны, – тоном знатока сказал Евсеич. – Особенно под рюмку водки!
Не желая обидеть бакенщика, Холмов попробовал сперва ухи, а потом икры. Приправленная лавровым листом и перцем, уха была вкусная. Икру взял ножом и положил на кусочек хлеба. Малосольная, она пахла илом и не имела того привычного вкуса, какой имеет зернистая икра, купленная в магазине.
– Хоть посиди с нами, Алексей Фомич! – сказал Работников, с тоской глядя на Холмова. – Спасибо тебе сердечное, что побывал в «Авангарде», что посмотрел наше хозяйство и практически подсобил с хлебом. Радости-то зараз сколько в семьях!
– Благодари не меня, а Медянникову, – ответил Холмов. – Это она сделала.
– А кто ее привез?
– И ты, Никитич, смог бы привезти Медянникову. Только надо было захотеть!
– Захотеть – мало, нужен авторитет. – Работников посмотрел на Евгения и Евсеича, взглядом ища у них поддержки. – Без авторитета трудно. Вот ты поехал к Медянниковой и вмиг доставил ее в «Авангард». Одно твое слово…
– Напрасно так думаешь, Никитич, – возразил Холмов. – Медянникова и тебя бы выслушала, и с тобой приехала бы в «Авангард».
– Ну, выпьем, – сказал Работников. – За твое здоровье, Алексей Фомич!
После ужина, когда Холмов лежал возле реки на сложенной из хвороста и сена постели, Работников примостился рядом и сказал:
– Верно, Медянникова – женщина душевная, не то что был у нас Авдеев. И все мы рады, что Авдеева уже нету. Но вот какая штуковина: Авдеева нету, а страх, каким начинил меня Авдеев, остался во мне.
– Какой еще страх? – Холмов приподнялся на локте. – Да ты что? Безвольное существо? Странно рассуждаешь, Никитич!
– Это потому, Фомич, мои слова кажутся странными, что в моих оглоблях ты не ходил. – Работников долго смотрел на черную гладь реки. – Ведь я боялся не за себя, не за свое благополучие. Надо было думать об «Авангарде», о колхозниках. Попервах я схватывался с Авдеевым, смело лез в драку. И получал за это выговора. И строгие, и с занесением, и всякие. Их у меня накопилась целая чертова дюжина.
– Многовато, – сказал Холмов. – Как же удержался на председательском месте?
– Хитростью, – ответил Работников. – Выработал для себя правило: Авдееву не возражать, не противоречить, а делать по возможности то, что надо. Перестал я получать выговора. Сам Авдеев как-то сказал: «Ну что, драчун, усмиряешь свой самонравный характер?» Если бы не эта моя хитрость, то не удержаться бы мне на председательском месте. А мне, честно говоря, не хотелось покидать «Авангард». Думал, придет кто-либо после меня и разорит все, что с таким трудом добыто.
– Но теперь-то, при Медянниковой, положение ведь изменилось?
– Это-то всех нас и радует. – Работников облегченно вздохнул. – В душе затеплилась большая надежда.
Далеко, из-за поворота реки, выкатились два мерцающих огонька, как два волчьих глаза в темноте. Слабым, дрожащим отблеском отражаясь в воде, они двигались по реке. Вот миновали бакен, и он в своей красной шапке лихо заплясал на черной волне. Тяжко гудел мотор, и тягуче плескалась вода в лопастях. На темном фоне рисовался силуэт катерка. Надрываясь, он тянул баржу, нагруженную не то тюками, не то железными бочками. Катерок и баржа проплыли мимо, и вода шумнее заплескалась о берег. Вскоре огоньки скрылись за вербами, и гул мотора, и шум работающих колес стали еле-еле слышными.
Все еще глядя на реку, на побелевший восток, Работников сказал, что вскоре взойдет месяц, что уже поздно, пора спать. С головой, как это делают табунщики, завернулся в бурку и улегся под деревом метрах в трех от Холмова. Лежал тихо, будто его и не было.
Между тем поздний месяц взобрался на верхушки верб. Глядя на побелевшую рощу и прислушиваясь к глухому шороху воды, Холмов думал о том, что видел в «Авангарде» и что рассказал ему Работников, мысленно спрашивая себя, знал ли он жизнь колхозов и колхозников Прикубанья так, как обязан был знать. «А ведь мне по долгу службы надо было бы знать и о том, что творил в районе Авдеев, и о том, как живут колхозники, и о чем думают такие люди, как Работников, – размышлял Холмов, продолжая смотреть на реку. – Только в одном „Авангарде“ столько, оказывается, запутанных узлов и узелков, что распутать их, разобраться в них не так-то просто. И суть дела тут не в том, что я поехал в Береговой и привез Медянникову, а она разрешила выдачу зерна на трудодни. Видимо, суть дела в том, чтобы правильно, глазами таких, как Работников, увидеть и правильно разрешить назревшие вопросы не в одном „Авангарде“. Вернусь из путешествия и сразу же поеду к Проскурову. О многом надо ему рассказать».
Ущербный месяц уже высоко поднялся над вербами. Поясок от него на воде стал широким. Тени от деревьев легли на воду. Белел восток, видимо, рассвет был близок.
Недалеко от Холмова спокойно дышал Работников. Холмов же все еще не спал, все еще обдумывал предстоящий свой разговор с Проскуровым. И почему-то здесь, близ реки и в тени верб, думалось легко, и, как никогда еще, перед Холмовым вставало все Прикубанье с его станицами и городами, с новостройками и нефтяными вышками. Знакомая и прекрасная земля, край степей и гор, пшеницы и пастбищ со стадами коров и отарами овец. Только теперь, когда рядом с Холмовым спокойно и величаво текла Кубань и поднималось подкрашенное лунной белизной и унизанное звездами небо, Прикубанье виделось и таким, каким Холмов его знал и каким оно уже было, и еще более таким, каким оно будет. Будущее родного края радовало, волновало, а в голове рождались мысли, о которых ему хотелось поведать Проскурову, и были они одна другой важнее и значительнее.








