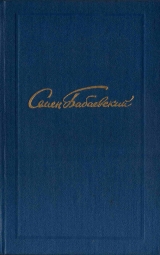
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 3"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
– Разумеется, ничего предосудительного нет в том, что руководители пожелали узнать о себе мнение колхозников, – заговорил Холмов. – И привлекать к ответу секретаря парткома не за что. Но надо ли было прибегать к анкетам и к анонимным ответам? Разве нельзя было спросить у колхозников совета или узнать их мнение без анкет? Почему бы не поговорить с ними откровенно, с глазу на глаз? О том же Алешкине или Острогорове? Пусть бы услышали, что о них думают колхозники. Не анонимы, а живые люди.
– Это, Алексей Фомич, хорошо выходит в мечтах, – понуря стриженую голову, сказал Величко. – Помечтал, да и все. В жизни, сказать, на практике, чаще всего откровенного разговора не получается.
– Почему?
– Я так думаю: колхозники или стесняются, или жалеют нас и не хотят обижать, или побаиваются.
Глава 45Рано стемнело. Мария Васильевна управилась по хозяйству и, поджидая Клаву, прилегла отдохнуть. Слышала, как за дверью бубнили мужские голоса. «И о чем они там все беседуют и почему не ложатся спать?» – думала она.
Клава вернулась с собрания, когда часы на стенке хрипло отсчитали восемь. Холмов поговорил с Клавой и начал прощаться. Клава и Анатолий просили Холмова остаться ночевать. Клава сказала, что постелит ему в их комнате, что сами они лягут в сарае, где стоит летняя кровать. Холмов благодарил за гостеприимство, говорил, что не хочет их стеснять. Пожелал Клаве и Анатолию счастливой семейной жизни и уехал.
Ночь темна и прохладна. В приспущенное стекло врывался ветерок и холодил лицо. Полыхали прожектора на дороге. Думая о том, что в Весленеевскую они приедут только к рассвету, Игнатюк посоветовал Холмову вздремнуть.
– А я поведу машину осторожно, – добавил он.
Уснуть же было трудно. И не потому, что качались рессоры, что щека терлась о скользкий дерматин, которым было обтянуто сиденье. Не спал Холмов потому, что как только он закрывал глаза, так сразу воскресали двор, полный гусей и уток, хата под камышом и стриженый Величко. То он видел похороны Стрельцова и начальственно-строгого Руднева в черном костюме. «Руднев не Щеглов…» То блестело озерцо и слышался голос Сагайдачного: «Если к делу относиться добросовестно, то есть так, как требует сама основа основ Советского государства…»
«Но бывает же и так, когда руководитель и не пьяница, и не бюрократ, и к делу относится добросовестно, и хочет все делать как лучше, а не может. Тот же Стрельцов. Разве он хотел, чтобы Камышинский был отстающим районом? Ему не откажешь ни в честности, ни в добросовестности. Горячился, болел душой, надорвал сердце. Сам до всего доходил, хотел во всем преуспеть, а не мог. А почему? Почему Сагайдачный смог, а Стрельцов не смог? Может быть, в нелегкой профессии руководителя мало быть честным и добросовестным? Может быть, настоящему руководителю еще нужно иметь нечто большее, что уже идет от разума и от характера чело века, от его природного организаторского таланта? Не простое соблюдение основы основ, о котором говорил Сагайдачный, а умение видеть и понимать их великую сущность? Или тот же Григорий Калюжный? Образован, начитан, пишет научный труд, и нельзя сказать, что к делу относится недобросовестно… „Возможно, из Южного и не так вам все было видно, а мы-то тут, вблизи, нагляделись“. Возможно, возможно. Но разве всюду и все так плохо и так огорчительно? Ведь вот меня порадовал Сагайдачный. Или Медянникова. Да и ты, Анатолий Величко… А кто огорчает? Калюжный, Рясной, Стрельцов, Руднев. И мне за них обидно, потому что я чувствую и свою вину», – думал Холмов, сидя с закрытыми глазами.
– Алексей Фомич, въезжаем в Старо-Конюшенскую, – сказал Игнатюк. – Помните, как нас тут славно встречали джигиты?
Как только Игнатюк сказал это, память вмиг воскресила кортеж машин на дороге. Перед въездом в станицу выстроилась сотня старо-конюшенских джигитов. Усатые и безусые красавцы были в бурках, в папахах и синих башлыках за спинами. Черноусый командир сотни, раскинув полы бурки, картинно подлетел к головной машине. Осадил коня, приподнялся на стременах и прокричал рапорт. Покатилось над степью мощное «ура».
Кортеж тронулся, заработали, выскочив вперед на своей открытой машине, кинорепортеры. Всадники, видя, что их снимают, пришпорили коней и поскакали по обочинам дороги, не опережая и не отставая от головной машины, наподобие тех мотоциклистов, которые обычно сопровождают важных гостей.
Холмов сидел в открытой «Чайке» рядом с высоким гостем и замечал, что тот почему-то грустно смотрит на живописно скакавших всадников. Усталая, нерадостная улыбка тронула его доброе лицо, когда он увидел арку, обтянутую кумачом и увитую цветами, свой портрет рядом с портретом Ленина и слова на красном полотнище; «Добро пожаловать!»
Вся улица от арки до площади была залита свежим, казалось, еще теплым, асфальтом. Было видно, что тут только что проехала поливная машина, потому что по черному лоснящемуся настилу еще текли ручьи, как после короткого ливня. Дворы были чистенькие. Стены домов побелены и украшены портретами и флажками. «Так вот как староконюшенцы умеют встречать гостей, – думал тогда Холмов. – Кто у них председатель стансовета? Ах да, Красноштан. Ну и постарался Красноштан! И джигиты в синих башлыках, и арка в кумаче и цветах, и портреты, и чистенькие домики, и новые изгороди. Улицу залил асфальтом и даже поливную машину где-то раздобыл. Ну и Красноштан, ну и мастер на выдумки!..»
И еще раз высокий гость все так же невесело улыбнулся, теперь уже на старо-конюшенской площади. Перед ним предстала не та станичная площадь с бурым, посохшим бурьяном и пыльными дорожками, по которым бродят телята и гусиные выводки. Сегодня старо-конюшенская площадь выглядела незнакомо и необычно. Все, что было на ней, напоминало ярмарку, нарядную и развеселую. Налетавший с гор ветерок колыхал флаги на высоких шестах, трепал перекинутые от дома к дому, от ворот к воротам красные полотнища.
Повсюду пестрели празднично разодетые люди. Говор, смех, девичьи песни, крикливые голоса баянов, убаюкивающее бренчание балалаек. Стоял, бросаясь в глаза широкими витринами, новый станичный универмаг, выкрашенный в зеленый цвет и забитый товарами. Радовал взгляд и манил к себе летний ресторан. У его входа выстроились повара в белых шлычках, молоденькие и красивые, как на подбор, официантки в полукруглых фартуках и в голубых кружевных повязках на головах. Там и тут красовались ларьки, торговавшие и газетами, и пивом, и прохладительными напитками, и мороженым, и еще бог знает чем.
Вокруг церквушки были высажены молоденькие деревца, как свидетельство того, что со временем здесь вырастет парк. Тут же возвышался летний театр. На сцене разместился духовой оркестр, игравший вальс «Амурские волны». Перед трубачами стояли микрофоны, и медные трубы горланили с такой радостью, что их сильные и не очень стройные голоса поднимали шум по всей станице. В сторонке, на импровизированном манеже, замерла сотня джигитов, готовая показать свое смелое искусство. Кружилась карусель, взлетали к небу качели. Людно, весело, торжественно. Недоставало лишь пионеров. Но и они вскоре появились, чеканя шаг и гремя барабанами и горнами.
Толпы людей встречали желанного гостя шумными рукоплесканиями. Он вышел из машины. Старые казаки, одетые в чекмени и бешметы, преподнесли хлеб-соль. Он обнял самого старого казака. Затем поздоровался сперва с Красноштаном и колхозными руководителями, а потом уже с поварами и официантками. И тут снова застрекотали кинокамеры, защелкали фотоаппараты.
Обедал гость в ресторане, посадив к своему столу тех стариков, кто подносил ему хлеб-соль. Всем, кто был в ресторане и кто собрался возле окон, понравилось, как он разговаривал со стариками, как похлопал по плечу вертевшегося перед ним Красноштана, как хвалил кубанский борщ и шашлыки, приготовленные, как уверял Красноштан, по-староконюшенски.
Как раз в этот момент с цветами подбежали пионеры и повязали ему на шею галстук. Гость обнял пионера и пионерку, что-то им сказал и поцеловал в щеки. Алея галстуком, он прошел к трибуне и с той же грустной улыбкой на усталом лице посмотрел на запрудившую всю площадь толпу. Подождал, пока смолкнут рукоплескания, и обратился к станичникам со словами привета и благодарности. Неожиданно разговорился, сказал две-три шутки, чем вызвал раскатистый смех на всей площади и взрыв аплодисментов.
Затем, сопровождаемый толпой и кинооператорами, прошел мимо молоденьких деревцов, помахал рукой конникам, постоял возле карусели, поговорил с продавцами ларьков, зашел в универмаг. Через некоторое время тут же, на площади, посмотрел джигитовку, радуясь смелости и мастерству старо-конюшенских конников. После джигитовки попрощался с Красноштаном и колхозными руководителями, затем уже со всеми, кто оказался поблизости, и уехал: время, отведенное для Старо-Конюшенской, истекло.
Выбравшись из Старо-Конюшенской, кортеж снова запылил по степному безбрежью. Гость закрыл усталые глаза и сказал: «Молодцы староконюшенцы! Смелые и веселые люди! И все же, Холмов, скажу тебе по-товарищески: ни к чему эта откровенная показуха. Карусель, ресторан, универмаг! К чему все это? Неужели мы с тобой такие дурачки, что так-таки ничего и не видим?» – «Сам вижу, что староконюшенцы перестарались, – ответил Холмов. – Местные руководители – народ гостеприимный. Хотели как лучше. Знаю, это выдумка Красноштана». – «Фамилия-то какая красочная! – сказал гость, все так же сидя с закрытыми, усталыми глазами. – Вот и внуши этому Красноштану, чтобы в другой раз не переусердствовал в своих стараниях и чтобы пыль в глаза не пускал…»
– Алексей Фомич, чувствуете, как машину трясет? – спросил Игнатюк, прервав воспоминания Холмова. – А ведь на этой улице, помните, лежал асфальт, а теперь одни ухабы. Покрытие, выходит, было временное, без прочного настила. Вот грузовики и разворочали асфальт.
– Да, это плохо, что не было прочного настила. – Холмов вспомнил, что рассказанная Кузьмой легенда как раз и произошла в Старо-Конюшенской. – Антон Иванович, поезжай на площадь. Нам надо узнать, жил ли в этой станице Каргин. «Что-то стало грустно, и легенда о Каргине уже перестала меня интересовать, – думал Холмов. – Не Каргин у меня на уме, а Красноштан…»
Глава 46На площади одинокий фонарь. Слабый свет на низком здании с замками на дверях. Будка из неоструганных досок и кудлатая папаха в дверях.
Игнатюк остановил машину. Холмов вышел, потянулся, помахал руками, разминая мышцы. К нему подошел тот мужчина, что стоял в будке. На нем широкополый тяжелый тулуп с «боярским» воротником, косматая, из длинношерстной овцы, папаха, сдвинутая на лоб так, что и глаз не было видно.
– Гражданин, возле торгобъекта всякому транспорту остановка запрещена, – строго сказал сторож.
– Хочу у вас спросить, – сказал Холмов. – Жил ли в Старо-Конюшенской председатель колхоза Каргин?
– А сам кто будешь?
– Следователь, – не моргнув глазом ответил Холмов.
– Никаких Каргиных у нас не было и нет, – уверенно заявил сторож. – А в чем дело?
– Видите ли, того Каргина уже нет в живых. Он погиб.
– В Отечественную?
– В мирное время.
– Так зачем же он тебе мертвый?
– Может быть, живет в станице его жена? Мне надо…
– Постой, постой, – перебил сторож. – Есть такая! Бабка Заводилиха. Так ее кличут по-уличному, а по паспорту она верно Каргина.
– Не могли бы вы показать, где проживает бабка Заводилиха?
«Ну вот, кажется, напал на след, – подумал Холмов. Только надо бы ехать не к бабке Заводилихе, а к Красноштану. Но я и у него побываю…»
– Дорогой товарищ, охотно проводил бы тебя до бабки Заводилихи, – сказал сторож, – но отлучиться от торгобъекта не имею права. – Сторож приподнял спадавшую на глаза папаху. – Веришь, следователь, на хуторе Яман-Джалга в точности такой был случай. Шурин мой рассказывал. Ночью, вот так же, как зараз, к яман-джалгинскому сельмагу подкатила легковичка. Вышли двое. Ты один, а их там было двое. Шофер третий. И сторож, как зараз я, подошел к приезжим. Спросил, кто такие, куда едут. Люди, вот как и ты, оказались вежливыми. Сказали, что отыскивают своего знакомца. Угостили сторожа папиросой… Случаем, нет у тебя покурить? Вот спасибо. Тоже дорогие папиросы? Да, так то двое, вот так же, как ты зараз меня, угостили сторожа дорогой папироской. Завели вежливые разговоры, стали спрашивать, есть ли в хуторе милиционер, а потом скрутили сторожу руки и ноги, заткнули тряпкой горлянку, чтоб лежал и помалкивал. После этого заезжие гостюшки очистили магазин и были таковские. И шофер у них, как зараз в твоей машине, тоже молча сидел за рулем наизготове…
– Зачем же такое недоверие?
– Тебе, следователь, верю, но ведь я нахожусь при торгобъекте.
– А кто у вас председатель стансовета?
– Нефедов Петр Петрович. А что?
– Где же Красноштан?
– И ты знаешь Красноштана? – удивился сторож.
– Когда-то знал.
– Личность! Артист своего дела! Но теперь у нас уже нет Красноштана. В Москву улетел!
– Что же он там делает?
– Сказывают, действует по торговой части. – Сторож сбил со лба папаху и рассмеялся: – Вот делец так делец! В позапрошлом году такое чудо сотворил на этой площади, что хоть стой, хоть падай. Попривез и универмаг, и ресторан, и качели. Духовой оркестр играл всякие вальсы. Прибывшие гости были довольны.
– Где же все, что тут было? – спросил Холмов.
– Обратно в курортторг отвезено. На другой же день все было разобрано и на грузовиках, как полагается, возвращено. – Сторож увидел ехавших по площади на велосипедах. – Эй, кто едет? А! Это Ющенковы! Иван да Мария, подъезжайте сюда!
Ющенковы подъехали и сошли с велосипедов. Мария в шароварах, голова повязана шерстяным платком, а Иван в кирзовых сапогах и в куцей, подтянутой армейским ремнем стеганке. Они смущенно смотрели то на незнакомого мужчину в шляпе и в плаще, то на сторожа, не понимая, зачем их позвали.
– Из кальера, Ющенковы? – спросил сторож. – Ну как, много гравия накидали? – И к Холмову: – Недавний солдат и его молодая женка – мастера по добыче гравия. У их машин ковши с добрую бричку. Значит, шуруете, Ющенковы?
– Шуруем, дядя Прохор, – ответил Иван. – Еще есть вопросы?
– Надо, Ваня, выручить товарища следователя. – Папаха мешала смотреть, сторож снял ее и ладонью вытер лысину. – Знаешь, где проживает бабка Заводилиха?
– Я знаю, – сказала Мария. – А зачем она?
– Стало быть, требуется, – ответил сторож. – Садитесь в легковичку и покажите товарищу следователю, как проехать до бабки Заводилихи.
– Съездим, Ваня, тут недалеко, – сказала Маруся.
– А если та бабуся уже спит? – спросил Иван.
– Разбудить, поднять! – приказал сторож. – Оставьте свои бегунки, пусть постоят возле фонаря.
Иван влез в машину следом за Марусей. Холмов поблагодарил сторожа, и «Волга», кинув на площадь сверкающий шарф, нырнула в переулок.
Через полчаса «Волга» вернулась и затормозила возле фонаря.
Прохор поправил на плече ружье, сбил на затылок папаху, спросил:
– Она или не она?
– К сожалению, не она, – ответил Холмов. – Каргина – ее девичья фамилия. Ее муж, Антипов, давно уже с нею не живет.
Иван и Мария взяли велосипеды, но не уезжали. Видимо, им интересно было узнать, зачем же следователю понадобилась старуха.
– Только зря бабусю потревожили, – сказал Иван.
– Погоди, Ванюша! – перебил сторож. – Теперь я знаю, какой именно требуется Каргин. Это тот, что на Яман-Джалге был завмагом. Шурин рассказывал, какая история приключилась с тем Каргиным…
– Сказка о Каргине – дело мертвое, – сказал Иван и обратился к Холмову: – Подсобите делу живому, нам с Марусей. Еще в позапрошлом году нашу хату развалили. И с той поры ютимся, как какие беженцы, в чужом сарае.
– И верно, товарищ следователь, плюнь на Каргина и вызволи из беды Ющенковых, – поддержал сторож. – Ить это проделка Красноштана. Когда разукрашивал станицу, так он приказал бульдозером шугануть хатенку Ющенковых. Сильно она выпирала на площадь и портила общую наглядность. Подсоби, дорогой товарищ, Ющенковым. Ить хорошие люди, трудяги!
– Когда разрушали, так Красноштан обещал поставить новую хату, – пояснила Мария. – А теперь нету ни Красноштана, ни хаты. И куда мы ни жаловались, куда ни писали…
– Где вы живете? – спросил Холмов.
– Квартируем у Самсоновых, – обрадовавшись, ответил Иван. – Тут близко. Пойдемте к нам, посмотрите.
Холмов попрощался со сторожем. «Волга» тронулась. Иван и Мария ехали впереди, спицы велосипедов попадали на свет и блестели. Из темноты фары выхватили раскрытые ворота, заставленный сарайчиками двор. В одном из сарайчиков и жили Ющенковы со своей двухлетней дочерью и матерью Марии.
Следом за Иваном и Марией, нагибаясь в дверях, Холмов вошел в сарайчик. Строение ветхое, без потолка.
Керосиновая лампа тускло освещала крышу и дощатые стены. На перекладинах, как на насестах, ночевали куры. Девочка уже спала. Кровати стояли вплотную: одна побольше, двуспальная, другая поменьше и пониже. Мать Маруси, седая женщина, предложила гостю табуретку, тряпкой смахнув с нее пыль. И когда она узнала, что приехавший к ним мужчина интересуется их разрушенной хатой, старуха залилась слезами и стала проклинать Красноштана. Холмов видел тесноту жилья, удручающую неустроенность быта и думал, что в несчастье семьи Ющенковых повинен не один Красноштан.
– Я вам помогу, – сказал он. – Обязательно помогу.
Услышав эти слова, старуха снова начала проклинать Красноштана и плакать, и Маруся, чтобы мать не мешала, увела ее во двор.
Время давно уже ушло за полночь, когда Холмов распрощался с семьей Ющенковых и усталый, грустно-молчаливый сел в машину.
– Теперь мы куда? – спросил Игнатюк.
– В Весленеевскую.
– Алексей Фомич, это хорошо, что вы подсобите Ющенковым, – сказал Игнатюк, когда они выехали за станицу. – Им что, новую хату построят? Или помогут деньгами? Или как?
Холмов промолчал. Сам еще не знал, как и что будет.
И опять степь под покровом ночи. И опять свист ветра и залитая летящим светом дорога. И опять из-под колес взметнулся не то кобчик, не то дикий голубь. Крыльями заполыхал на ветру и пропал. И опять, сам того не желая, Холмов подумал о Верочке, и воображение унесло его в Береговой. Веранда. Синее море перед глазами. Спокойное, с белыми разводьями. Он играл на баяне, а Верочка пела, улыбаясь ему одними глазами. Он даже слышал ее голос. И чем дольше думал о Верочке, тем чаще ловил себя на том, что мысль эта не огорчала, а радовала, волновала. Ему приятно было мысленно и видеть Верочку, и разговаривать с ней.
«Почему ты ушла из дому, Верочка?» – «Не догадываешься? Потому, что люблю тебя». – «За что же меня любить?» – «Разве я знаю? Люблю – и все…» – «Ты никому не говорила об этом?» – «Разве можно! Это моя сердечная тайна. И тебе никогда об этом не скажу». – «И не говори. Меня это пугает…» – «А что тут страшного?» – «Не то что страшно, а необычно и непривычно. А где ты теперь, Верочка?» – «Не скажу. Если нужна, то отыщешь».
Его рассмешило то, что эти наивные вопросы и такие же наивные ответы он придумал сам. Смешило и то, что Верочка казалась ему похожей на ту птицу, что на миг заблестела в прожекторах и сгинула. «Видно, в моей жизни она, как эта птица, засветилась, порадовала и пропала. А может быть, не пропала? Ведь мне приятно думать о ней, говорить с ней. Значит, я неравнодушен к ней? – спрашивал он себя. – И то, что Верочка кажется мне похожей на птицу, увиденную в лучах фар, говорит о том же моем неравнодушии. Что это? Любовь? В мои годы? Кажется, все у меня уже было, а вот этого не было. А что? Пусть будет и это, пусть. Разыщу Верочку, возьму за руку и скажу, что влюбился в нее, как пылкий юноша. Потом посажу в „Волгу“, и мы поедем по всему Прикубанью… А хорошо в самом деле, если бы это случилось!»
Но вот он уже перестал чувствовать и бег колес, и покачивание рессор. Казалось, машина не катилась, а парила над степью. Стало тихо-тихо. Уже не терлась о дерматин щека, и сидеть было так удобно, как в качалке. И вдруг Холмов увидел Верочку. Она вошла в хату Величко. По ее лицу текли слезы. Села рядом и, плача, сказала: «Алексей Фомич, вот где я вас отыскала. А ведь я все станицы исходила, думала, что уже и не встречу вас».
…Где-то рядом полыхал пожар. Горячие отблески, падая на ветровое стекло, отражались в нем, слепили глаза, и Холмов проснулся. Машина стояла на берегу какой-то горной речки. Из-за гор поднималось солнце. Игнатюка не было. «Вот так чудеса! – подумал Холмов. – Где же это мы и почему стоим? И где Антон Иванович?»
В зареве солнца, искрясь и сияя, поднимались снежные отроги. Эльбрус был виден почти по пояс. Он как бы приподнялся из сизой дымки, что расстилалась у его ног. И по Эльбрусу, и по еще с детства знакомому очертанию ближних и дальних гор Холмов понял, что находится где-то недалеко от Весленеевской. И речка была похожа на Весленеевку. Она обмелела и чуть слышно шепталась на перекатах. Сквозь синь воды было видно скользкое, каменистое дно. Вблизи берега на камне, как на стульчике, сидел Игнатюк.
– Антон Иванович, где мы? – спросил Холмов.
– Почти что в Весленеевской. – Игнатюк поднялся. – Нарочно устроил стоянку, чтобы вы малость спокойно поспали. Идите умываться. Вода в Весленеевке – ух какая свежая да бодрящая! Полотенце и мыло у меня есть.
По мелкому осыпающемуся щебню Холмов спустился к реке. Снял рубашку и, чувствуя идущий от воды холод, начал умываться.








