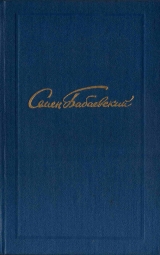
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 3"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
Находясь в доме своего друга, Холмов пил чай, разговаривал с Надюшей и не знал о том, что Калюжный по телефону уже сообщил о нем Проскурову. И сделал это потому, что еще третьего дня от Проскурова позвонил Чижов и попросил Калюжного, чтобы тот, если в районе появится Холмов, немедленно сообщил об этом.
«Он идет пешком, вместе с ним его брат с конем», – добавил Чижов.
Калюжный воспринял эту просьбу как приказ, а приказ нужно выполнять строго и точно.
Прижимая к уху телефонную трубку и склоняя к столу свою крупную, чисто побритую голову, Калюжный говорил, как обычно говорят военные:
– Андрей Андреевич, докладываю! Он уже у меня!
– Давно?
– Только что.
– Так, хорошо, – слышался в трубку ровный, спокойный голос Проскурова. – Где находится?
– В моем доме. Отдыхает.
– Он здоров?
– В общем, да… Но что-то с ногой у него.
– Перелом? Травма?
– Боль в суставе. Хромает.
– Пригласи врачей. Пусть осмотрят.
– Андрей Андреевич, у меня жена врач. Первая помощь уже оказана.
– Так, хорошо. Ну, что он успел натворить в твоем районе?
– В общем, пока ничего. Все хорошо.
– А если не в общем?
– Была у него стычка в Широкой с председателем стансовета Ивахненко.
– На какой почве?
– На почве неузнавания. Ивахненко его не узнал. Ну, с пылу наговорил, нагрубил.
– Так… Где он ночевал? В вашем районе?
– У нас, в Ветке. У одного рабочего РТМ. Кочергин тот рабочий.
– Этот Кочергин один был с ним ночью или еще кто приходил?
– Что было ночью, не знаю. А утром, как мне сообщили, возле дома Кочергина собралась порядочная толпа.
– Митинг?
– Нет, речей не было, – все так же четко отвечал Калюжный, прижимая трубку к покрасневшему хрящеватому уху. – Преподнесли ему хлеб-соль.
– Это зачем же?
– Еще не уточнил.
– Уточни. А еще что?
– Еще была ему от веткинцев жалоба.
– О чем?
– По поводу урезки огородов.
– И что же он?
– Будто бы ходил по огородам и сам лично осматривал. А после осмотра надел бурку и на коне приехал к Ивахненко. Ивахненко, как на беду, не узнал Холмова. Ну и получилась стычка. Понимаю, некрасиво вышло. А тут еще зеваки разные понабежали. Ну я сразу приехал и все уладил. Сейчас все спокойно.
– Плохо, Калюжный, очень плохо, – сказал Проскуров. – Как же это так, Ивахненко не узнал Холмова? Да он что, этот твой Ивахненко, пьян был?
– Нет, совершенно трезв, – отвечал Калюжный. – Но узнать же Холмова было трудно. Даже невозможно. Поглядел бы сам, в каком наряде он приехал. Лыжный костюмчик, а поверх всего бурка, на голове папаха.
– Людей надобно встречать не по одежде, – тем же ровным и спокойным голосом сказал Проскуров. – Вот что, Калюжный. Пусть Холмов поживет у тебя. Пусть врачи подлечат его. Дня через два-три я приеду. Понял?
– Понимаю!
– В спор с ним не вступай. Не привлекай к нему внимания других. Пусть спокойно отдыхает, поправляется. Известно тебе, куда он путь держит?
– Известно. В Весленеевскую.
– В свою родную станицу, – поправил Проскуров. – Это надо понимать. У его брата что-то там случилось с конем. Я звонил Рясному и просил, чтобы тот сам лично и без шума уладил всю эту историю. Так что Рясной уже ждет нашего путешественника. Тебя же прошу сделать вот что. Переправь его брата в Весленеевскую. Понял?
– Так он же на коне!
– Увезите на грузовике коня вместе с конником, – строго сказал Проскуров. – Ты что, Калюжный, не знаешь, как на грузовиках транспортируют лошадей? Нарастите досками или бревнами борта кузова, поставьте туда коня и увозите его хоть за тысячу километров. Поручи эту процедуру начальнику автоколонны Королеву. Он умеет. И лучше всего погрузку и отправку сделать вечером, без посторонних глаз, – предупредил Проскуров. – Ну, что еще тебе неясно?
– Все ясно, Андрей Андреевич! Будет исполнено!
– Алексею Фомичу, – сказал Проскуров, – от меня поклон. Скажи, что я обязательно приеду. Ну, будь здоров, Калюжный!
Калюжный положил трубку. Ему стало жарко. Снял пиджак, расстегнул ворот рубашки. Платком хорошенько вытер крепкую, как у штангиста, шею, бритую, в испарине голову. Подошел к раскрытому окну. Над станицей сгущался вечер. В окнах полыхал багровый отблеск заката. На небе ни тучки. День на завтра ожидался ясный.
По улице проехал грузовик. Калюжный невольно обратил внимание на борта. «Да, точно, Андрей Андреевич прав: борта низкие, и, чтобы везти в кузове коня, их надо нарастить», – думал Калюжный. И еще он, глядя на завечеревшую улицу, думал о том, что теперь-то ему была понятна одна очень важная мысль, а именно: мысль о том, что Холмов – это уже не Холмов. То есть, собственно, Холмов, но уже не тот, что прежде.
Калюжный подошел к столу, зажег лампу. Свет упал на листы исчерченной бумаги. Какие-то непонятные заметки, слова, фразы. Калюжный имел привычку, разговаривая по телефону, делать записи, понятные ему одному.
Только что записанные слова говорили, что, во-первых, относиться к Холмову так, как раньше, нельзя; что, во-вторых, Холмова надо обязательно задержать в Родниковской, а его брата срочно переправить в Весленеевскую. «Но почему лучше всего это сделать вечером и без посторонних глаз? – думал Калюжный. – Как это надо понимать?..» Наклонился над столом, смотрел в исписанные листы, читал: «Нельзя вступать в спор. Нельзя привлекать к нему внимания…» Снова подошел к окну, смотрел на пустую улицу, думал.
Чем дольше Калюжный думал о том, что говорил ему Проскуров, тем очевиднее для него было то, что Холмов уже не тот Холмов, каким он знал его раньше. Это заставляло задуматься над тем, почему в самом деле Холмов ходит по станицам? И эта хлеб-соль? И этот осмотр огородов? И эта бурка и эта папаха? Да, точно, как ни думай и как ни суди, а это уже был другой Холмов, и отношение к нему должно быть другое.
Недавно, оставив Холмова в своем доме, Калюжный думал, что вот вернется домой, поговорит со старым добрым другом, поспорит с ним, как, бывало, говорил и спорил, спросит у него совета. Теперь такого желания не было. Думая обо всем этом, Калюжный мысленно пожалел, что не отправил Холмова в больницу. Так было бы спокойнее.
Во всех, а особенно в затруднительных положениях Калюжный всегда полагался на свои волевые качества, на свое умение, как он любил говорить, принажать на все педали. Быстрыми шагами подошел к столу, надавил кнопку и вбежавшей помощнице сказал:
– Геннадия ко мне! Быстро!
Геннадий, или Геша, – это шофер Калюжного. Он находился тут же, за дверями. Ждал вызова. Поэтому через секунду молодцеватой выправки парень, ударяя о ладонь ключами от машины, стоял перед Калюжным.
– Геша! Нажми на педали!
– Какой маршрут?
– Поезжай ко мне и привези сюда брата Холмова. Только живо!
Не понимая, зачем его сюда вызвали, Кузьма несмело вошел в кабинет и остановился возле дверей.
– Проходи, проходи, Кузьма Фомич! – приветливо говорил Калюжный. – Вот садись в это мягкое кресло.
– Ничего, постою.
– Как там брат?
– Отдыхаеть.
– А ты не скучаешь у нас?
– Не о себе моя печаль.
– А о ком же она?
– О коне забочусь. Надо бы раздобыть овса.
– Сколько нужно?
– Хоть бы цибарки две.
Калюжный вызвал помощницу и сказал:
– Нужен овес. Позвоните Овчаренкову. От моего имени скажите, чтобы одолжил овса ведра два-три.
– Ну, а хорошо ли ночевали в Ветке? – спросил Калюжный, когда помощница удалилась.
– Спал крепко.
– Говорят, люди собрались, митинг был?
– Сказать, митинга не было. Шум был, это верно.
– Отчего же шум?
– Жалобы. Обиды разные у людей.
– Ну, жалобы и обиды мы рассмотрим. – Калюжный подошел к Кузьме, положил руку на его плечо. – Есть, Кузьма Фомич, пожелание отправить тебя в Весленеевскую вместе с конем на грузовике. Как на это смотришь?
– Зачем же? – удивился Кузьма. – А как же брат?
– Алексей Фомич поживет у нас. Ему надо подлечиться. – Калюжный, поблескивая бритой головой, ходил по кабинету. – А насчет того, что там, в Весленеевской, тебя кто-то обидел, не беспокойся. Уже дано указание. Все будет хорошо. Так что завтра вечерком и поедешь. Езды тут часа четыре. Ночевать будешь дома.
– Не смогу. И рад бы, но не смогу.
– Почему?
– Быстрая езда укачиваеть.
– Тебя?
– Зачем меня? Кузьму Крючкова… это имя моего коня. – В усах и в бороде притаилась усмешка. – Голова у коня слабая, кружится. На пароходе и на машине его сильно укачиваеть – валится с ног.
– Мы его хорошенько укрепим, – сказал Калюжный. – Дадим опытного шофера, чтобы ехал осторожно. Так что готовься. Овес получишь – и завтра в дорогу.
– Так сразу? Дайте хоть подумать.
– Чего тут думать? Поедешь, и все!
Кузьма сказал, что ему нужно подумать, и ушел. Калюжный прошелся по кабинету и вызвал помощницу.
– Воловченко ко мне!
– Вот что, Воловченко, слушай меня внимательно, – повторил излюбленные слова, обращаясь к вошедшему инструктору. – Сейчас же отправляйся в Ветку. Побывай у рабочего РТМ Кочергина, а если будет нужно, то и у его соседей. Там, у Кочергина, ночевал Холмов. Разузнай подробно, что и как было. Установи, был ли митинг или митинга не было. Была ли преподнесена хлеб-соль? И вообще поразузнай. Утром доложи.
Воловченко ушел. Снова была вызвана помощница.
– Куницына ко мне!
– Слушай меня внимательно, Куницын, – говорил Калюжный, когда в кабинет вошел инструктор Куницын. – Завтра утром пойди в автоколонну. От моего имени скажи Королеву, что нужно срочно перебросить в Весленеевскую на грузовике одну лошадь. Станет интересоваться подробностями – скажи, пусть свяжется со мной.
– Когда нужно иметь грузовик? – спросил Куницын.
– Завтра к вечеру.
– Есть! Будет сделано!
Глава 31Домой Калюжный пришел, когда уже стемнело. Усталый, отягощенный заботами, он не спеша снял в прихожей плащ, шляпу. Увидел сидевшего на диване Холмова, крикнул:
– Алексей Фомич! Тебе привет от Проскурова!
– Где ты его видел?
– Только что говорил по телефону. Обком тобой интересуется. Проскуров обещал денька через два приехать. Кузьму Фомича просил отправить в Весленеевскую на грузовике вместе с конем.
– Вряд ли Кузьма на это согласится.
– Я уже с ним договорился. – Калюжный сел на диван рядом с Холмовым. – Как нога?
– Надюша просто волшебница. Я почти здоров.
– И все же полежать тебе придется. Как, Надя? Не отпустим Алексея Фомича? – обратился он к вошедшей жене.
– Ни в коем случае, – мило улыбаясь, ответила Надюша. – Даже и не думай об этом, Алексей Фомич.
– Хорошо, не буду думать, – ответил Холмов. – Ну, как, Григорий, идут дела в районе?
– Выручаю отстающие районы, как всегда, – с гордой улыбкой сказал Калюжный. – Обгоняю соседей и по хлебу, и по мясу, и по молоку. Ты мой характер знаешь, стараюсь, не жалею ни себя, ни других.
Верно, Холмов знал характер Григория Калюжного. Когда-то Холмов рекомендовал преподавателя сельхозтехникума, тогда еще молодого, энергичного Калюжного, избрать секретарем Родниковского райкома. «Побольше бы нам таких молодых и башковитых», – говорил он тогда о Калюжном.
Вскоре Калюжный стал известен на Прикубанье как умелый организатор, у которого слова не расходятся с делами. Его имя частенько мелькало в газетах. В особые заслуги Калюжному ставились его личная библиотека, дружба с букинистами, а также то, что он писал научный труд. О чем был этот научный труд и кому и какую пользу мог принести в настоящем или в будущем? Да и является ли, собственно, трудом научным? Такие вопросы ни у кого не возникали.
Калюжного называли теоретиком и ученым, и ему это льстило. Чтобы показать, что те, кто о нем так говорил или думал, не ошибались, Калюжный, выступая с речами в Южном или в своем районе, наизусть цитировал классиков литературы и видных политических деятелей прошлого. Для пущей убедительности называл страницы, откуда цитаты были взяты. До 1956 года хвастался тем, что основные сочинения Ленина и Сталина знал на память: разбуди и спроси, что говорили Ленин и Сталин там-то и о том-то, и Калюжный, не задумываясь, ответит. Теперь же уверял всех, что помнит на память только сочинения Ленина.
Разговаривая с колхозниками или выступая с речью, что он любил делать и всегда находил для этого причину, Калюжный часто, как бы между прочим, напоминал о том, что он выходец из простого народа: отец – сапожник, а мать – швея; что любит и пошутить и сказать острое словцо, и всякий раз старался показать, что он умнее других и знает больше других только потому, что имеет исключительные природные способности к знаниям. Ему нравилось быть всегда на виду и казаться таким, каким ему хотелось быть, а не таким, каким он был на самом деле, в жизни, и это ему удавалось.
Как редко кто другой, Калюжный умел «перегнуть палку».
– Там, где это нужно, – говорил он, – я эту палку смело перегибаю в другую сторону, чтобы потом, когда она выпрямится, была бы ровная.
Кто-то в шутку назвал его непонятно – «волюнтаристом», кто-то – «мастером силовых приемов». И удивительно то, что рядом с умением «перегибать палку» жило в нем угодничество, умение угодить именно тому, кому требовалось угождать, и угодить там, где это нужно было. Много лет он угождал Холмову, и делал это умно, тактично.
– Подтянут, исполнителен, на Григория можно положиться, не подведет, – говорил о нем Холмов.
Теперь Калюжный с тем же рвением угождал Проскурову…
– Нравится мне в нем эта точность, требовательность, – говорил о нем Проскуров.
И еще Калюжный умел вовремя проявить инициативу, Раньше его никто не мог составить патриотическое письмо-обращение от имени колхозников о взятии районом повышенных обязательств. Бывали случаи, когда повышенные обязательства район не выполнял, но инициатива была проявлена, призыв подхвачен, и сам этот факт ставил Калюжного в выгодное положение. Говорили о нем, что он везуч, что родился в рубашке. Иной секретарь и умен, и деловит, и начитан, и ни днем, ни ночью не знает покоя, а считается плохим секретарем, и только потому, что район, как на беду, не перевыполняет плана ни по хлебу, ни по мясу, ни по молоку.
То особое положение, в котором находился Калюжный, вселило в него мысль о своей непогрешимости. Он был глубоко убежден, что и в области и в районе его не только уважают, но и любят именно той любовью, какая называется всенародной; что и коммунисты и беспартийные в нем души не чают и прямо-таки не знают, как бы они жили и как бы работали, если бы в Родниковском районе не было Калюжного.
– Кстати, когда думаешь освободить широковцев от Ивахненко? – спросил Холмов.
– Такие дела, сам знаешь, быстро не делаются.
– А ты возьми и сделай быстро.
– Создадим комиссию, соберем нужный материал, проведем сессию. – Калюжный подошел к стеллажам и, не глядя, взял книгу. – Еще в древнем Новгороде, когда россияне собирались на свое вече…
– При чем тут новгородское вече? – перебил Холмов. – Мы не новгородцы, и Ивахненко не князь. Или ты хочешь, чтобы я поговорил на эту тему с Проскуровым?
– Зачем же, Алексей Фомич? – живо спросил Калюжный, ладонью потирая бритую голову. – Все будет сделано. Только не сию минуту. Положись, Алексей Фомич, на мое имя, на мой авторитет.
– Имя? Авторитет? – с усмешкой спросил Холмов. – А известно этому имени и этому авторитету, что о нем думают не его подчиненные, а просто люди – и коммунисты и беспартийные? И особенно в минуты досуга, когда остаются одни?
– Вопрос схоластический.
– Плохо, Григорий, ох как плохо, когда иной руководитель, возомнив себя эдаким непогрешимым божком, не желает и знать, что думают о нем те, кем он руководит, кого поучает и кому дает наставления, – говорил Холмов. – Одинаково это плохо и для колхозного парторга, и для секретаря райкома или обкома. Плохо и то, что в свое время кое-кто, находясь повыше нас, тоже не знал, что о нем думают и коммунисты, и просто люди.
– Странно рассуждаешь, Алексей Фомич, – сказал Калюжный, теперь уже платком вытирая бритую голову. – Возможно, те «кое-кто» – я догадываюсь, о ком ты говоришь, – и не знали, что о них думали коммунисты и беспартийные. Но я-то в своем районе знаю!
– Ничего ты не знаешь, Григорий!
– Как же так – не знаю?
– Как же так? – Холмов строго посмотрел на Калюжного. – Если бы знал то, что тебе надо знать, ты не помогал бы произрастать такому сорняку, как Ивахненко. Не хмурься, не ломай брови! То, что я говорю тебе, касается, к сожалению, не одного тебя. Было время, когда и я вот так же, как ты, восторгался собой и был убежден, что любим и почитаем народом и что все, о чем я говорю и что делаю, приносит людям одно только благо, а поэтому и достойно восторга. И у меня были свои Ивахненки, я помогал им произрастать, и они мне нравились… А ты – «вопрос схоластический»… Нет, Григорий, вопрос весьма и весьма жизненный. Разумеется, жить так, ни о чем не думая и не подвергая свою персону критике, спокойнее и легче.
– Извини, Алексей Фомич, но я совершенно тебя не понимаю, – сказал Калюжный. – Таким ты не был, и, веришь, я не могу понять, что с тобой случилось. Даже трудно выразить…
– А ты выражайся свободно. Не обижусь.
– Верно, конечно, что народ – первоисточник жизни. – Не глядя на полку, Калюжный взял другую нужную ему книгу. – Но верно и то, что над народом стоит руководитель, вожак, тот, кто ведет, кто идет впереди. – Раскрыл книгу. – Еще в античной Греции, на заре демократии, сильная личность…
– Зачем же забираться в дебри древней истории? – перебил Холмов. – У нас и своих примеров достаточно. Ивахненко – тоже ведь, по-своему, «сильная личность». Жители Широкой проклинают эту «сильную личность», а она сидит в станичном Совете и самочинствует. А ты в это время сочиняешь трактат о демократии в античной Греции! Вся беда в том, что Ивахненко по душе не жителям Широкой или Ветки, а тебе, Калюжному. И Калюжному не хочется расставаться с удобным для него человеком.
– Расстаться можно.
– Так почему же не расстаешься?
– А кем заменить? – Калюжный поставил обе книги на полку. – Толковые руководители на дороге не валяются.
– Поищи хорошенько, может, и найдешь замену, – сказал Холмов. – Побывай, к примеру, в Ветке. Там живет рабочий парень Кочергин. Коммунист. Молодой, думающий. Вот бы кому по праву занять то место, которое занимает Ивахненко. А то что же получается? Мил тебе тот, кто тобою руководит, или противен, а ты терпи, помалкивай. Вот о чем нам надо думать, Григорий. А ты «античная Греция»…
В это время в белом переднике появилась Надюша и сказала:
– Гриша, Алексей Фомич, прошу к столу. – И к Холмову: – Ну, Алексей Фомич, попробуй встать и пройти.
– Могу! – невесело ответил Холмов.
Поднялся же он с трудом. Нога отяжелела. Боль отзывалась не только в ступне, а и в колене, и даже в бедре. Калюжный подставил плечо, и Холмов, опираясь на него, прохромал в соседнюю комнату.
Глава 32Погожий денек стоял над Береговым. Желтели листья на асфальте. Кипарисы своими шпилями подпирали низкое небо. В окнах похожего на санаторий здания отражалось море. К подъезду подкатили завьюженные пылью «Чайка» и «Волга». На «Чайке» приехал Проскуров, а «Волга» предназначалась для Холмова. Проскуров решил сделать то, что, как полагал он, обязана была сделать и не сделала Медянникова: дать Холмову машину и этим прекратить, по выражению Проскурова, «смешное и никому не нужное пешее хождение».
Направляясь в Родниковскую, Проскуров попутно заехал в Береговой, чтобы повидаться с Медянниковой и навестить жену Холмова. Из машины он вышел без картуза. Рукава по-летнему засучены до локтей. Молодое лицо повидало и встречные горячие ветры, и жаркие степные солнцепеки и загорело до черноты.
Медянникова проводила Проскурова в приемную с большими окнами на море, пододвинула к столику низкое, удобное кресло, предложила сесть. По суровому взгляду Проскурова она поняла, что приехал он не в настроении. Гость остановился у окна, давая понять, что у него нет времени садиться и вести длинные разговоры. Продолжая смотреть на море, спросил:
– Известно тебе, Елена Павловна, почему Холмов отправился в свою станицу?
– Известно.
– Почему?
– В Береговом надоело сидеть без дела.
– Опять ты свое? А почему пешком?
– Очевидно, за последние годы ездил он много, а ходил мало, – ответила Медянникова. – Вот и решил попутешествовать пешком. Да и что в этом плохого? Пошел – и пусть себе ходит.
– А известно ли тебе, что он не просто ходит, а вмешивается в колхозные дела? – с упреком спросил Проскуров. – Устраивает беседы, митинги, дает указания, принимает жалобы.
– Знаю и об этом. В Усть-Малюгинской, например, вмешался в дела «Авангарда» и поступил правильно. Поправил нас. Ничего плохого в этом тоже не вижу.
– Не видишь? – Проскуров скупо усмехнулся. – Плохо, Елена Павловна. Это – еще наше счастье, что об этом пешем переходе не узнали газетчики. Попадись им такое на карандаш – и готовый фельетон. Позор на всю страну! А ты: «Ничего плохого в этом не вижу». Как же так? Ведь это же чистейшее донкихотство! В затрапезной одежонке, смешон и жалок, едет на коне. И кто едет? Холмов! В Широкой он даже нарядился под абрека – в бурку и в папаху! Я уважаю Алексея Фомича, но пойми, Елена Павловна, он компрометирует не только себя, а и нас. Могла бы дать ему свою машину.
– Не просил. Видно, не нужна ему машина.
– Я уже говорил тебе, Елена Павловна, о необходимости окружить Холмова заботой, вниманием, – резко сказал Проскуров. – Просил дать ему возможность отдохнуть, отрешиться от всяких дел. А что получилось?
– Холмова надо по-человечески понять, а не осуждать, – сказала Медянникова. – Нет ничего плохого, а тем более страшного в том, что он идет пешком и что вмешивается в колхозные дела. Для тревоги или беспокойства нет никаких причин.
Проскуров не стал слушать. Направляясь к выходу, сказал:
– Вижу, Елена Павловна, ты неисправима. И ничего не понимаешь. Ведь этот «пешеход» с больной ногой лежит сейчас у Калюжного в доме. И я еду к нему, чтобы прекратить этот никому не нужный «туризм». На минуту загляну к Ольге Андреевне, возьму для Холмова одежду. А тебя прошу, позвони Калюжному и скажи, чтобы ждал меня в райкоме. Часа через три я буду у него.
И Ольгу, войдя в ее дом, Проскуров предупредил, что торопится и заскочил к ней только для того, чтобы сказать, что едет к Холмову. Но от чая не отказался. Он подумал, что за чаем сможет поподробнее узнать от Ольги и о причине, заставившей Холмова отправиться в Весленеевскую пешком, и о том, что тот говорил, когда уходил из дому.
Чай пили на веранде. Проскуров сказал, что Холмов еще не пришел в Весленеевскую и находится в Родниковской у Калюжного. О болезни Холмова и о том, где он уже побывал и что делал, умолчал. Дружески пожурил Ольгу за то, что она, как жена, не убедила Холмова отказаться от далекого и столь рискованного для его здоровья путешествия. Желая подчеркнуть свое по-прежнему доброе отношение к Холмову, он сказал, что бросил все дела и специально едет в Родниковскую.
– Если сказать откровенно, то спешу на выручку, – с улыбкой на загорелом лице добавил он. – Нельзя ему ходить, как страннику, пешком. Посажу в машину, и пусть едет, куда пожелает! Приготовь для него одежду. Представляю себе Алексея Фомича в лыжном костюме! Смех, честное слово!
Ольга печально смотрела на веселое лицо Проскурова.
– Андрюша, горе мне с Холмовым, – сказала она. – Я, жена, и не узнаю его. Вот ты спросил, почему не отговорила. А разве это возможно? – Лицо ее стало еще грустнее. – Ты же знаешь его натуру. Если что задумал, то не остановится ни перед чем. А тут, в Береговом, это его упорство утроилось. Говорила тебе, Андрюша, а ты не поверил. Ведь правда же происходит с ним что-то непонятное.
– Меня сейчас интересует другое, – сказал Проскуров. – Какая у него была цель? Не мог же он так, без всякой цели, взять да и пойти пешком? Тебе-то он, надеюсь, говорил, какая у него главная цель?
– Брат к нему приехал, пожаловался насчет коня. – Ольга тяжело вздохнула. – Вот Холмов и вздумал помочь брату. И еще говорил, что нарочно пойдет пешком, чтобы посмотреть белый свет. Так и сказал: белый свет. Будто раньше не видел этот белый свет. – Она приложила платок к глазам. – Только все эти разговоры, Андрюша, о белом свете, как я понимаю, ничего не значат. Главная его цель, как я вижу, не в этом.
– А в чем же?
– Главная цель, как я понимаю, – наша соседка. Ты видел эту развеселую Верочку, когда приезжал к нам летом. – Ольга снова приложила платок к влажным глазам. – Не смотри на меня так, Андрюша, не удивляйся. Никому об этом не скажу. Совестно. Но тебе-то обязана сказать. Вникни, Андрюша. В тот день, когда ушел Холмов, вдруг исчезла и Верочка. Куда? Никто не знает. Как сквозь землю провалилась! Думаешь, это – случайное совпадение? Нет, Андрюша, чует мое сердце, что его «белый свет» сошелся на Верочке. Она всему виной. Ты видел бы, как она возле него вертелась! И эти ее песенки, и эти ее улыбочки! А он при виде Верочки, веришь, становился веселым и как-то весь даже молодел. Все это я-то видела.
– Ну что ты такое говоришь, Ольга Андреевна? – сказал Проскуров, не в силах сдержать улыбку, понимая, что это может обидеть Ольгу. – В его-то годы? Ни за что не поверю!
– Седина в голову, а бес в ребро…
– Да нет же, Ольга Андреевна, поверить в это невозможно, – стоял на своем Проскуров. – Это – лишь твое подозрение, не более. Я хорошо знаю Алексея. Он не такой.
– Не защищай, Андрюша! Все вы, мужчины, одинаковы.
– Такое не в характере Холмова, – говорил Проскуров. – Нет, влюбиться он не может. Даже смешно!
– Беда, Андрюша, в том, что характер-то у него переменился. Холмов тут, в Береговом, стал совсем другим человеком.








