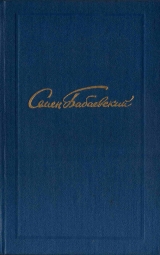
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 3"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц)
– Чудак ты, Алексей Фомич! – Мошкарева так удивили слова Холмова, что он рассмеялся. – Даже как-то не верится, что ты был на таком высоком посту. Пост занимал большой, а житейскую истину не познал. А тебе бы надо небось знать, что наш районный начальник милиции с Антоном Мошкаревым и разговаривать не станет! Кто я для него? Да никто! Отсюда и вытекает мой прямой долг – сигнализировать выше. Мои сигналы подписаны моим именем. И когда поступит сюда из области официальный документ, вот тогда начальник милиции сам меня пригласит для беседы.
– Опять не согласен с тобой, Антон Евсеевич, тут ты не прав, – заявил Холмов. – Ведь ты же еще никуда не ходил, ни с кем еще не встречался, а уже утверждаешь, что с тобой не станут разговаривать.
– Можешь не верить и не соглашаться, твое дело, – возразил Мошкарев. – Но я-то знаю, как на местах относятся к простому человеку. А к тому же сам хочу, чтобы не я ходил, а ко мне бы приходили, чтобы не я просил, а меня бы просили.
– Вот как! Это уже совсем иной разговор. Ну, а еще какие у тебя есть примеры? – после некоторого молчания спросил Холмов.
– Пожалуйста, еще пример, самый свеженький, живо отвечал Мошкарев. – Тому назад с неделю я послал письмо лично первому секретарю ЦК нашей партии.
– Почему лично первому?
– И согласно Уставу нашей партии, дающему это право коммунисту, и согласно велению сердца.
– Понимаю.
– По счету это письмо уже третье, – пояснил Мошкарев. – Первое в виде хлесткого фельетончика я отправил в «Известия». Эта газета любит острые моментики. Второе адресовал в «Правду». Результатов пока еще не последовало. Вот почему я быстренько обратился к первому секретарю нашей партии.
– О чем жалоба?
– Не жалоба, а сигнал об идейной ущербности, – тем же смелым голосом отвечал Мошкарев, – а короче говоря, об улыбочках и украшательствах Медянниковой. Этот сигнал политический, очень и очень серьезный. Ведь что происходит у Медянниковой? Ты еще не знаешь? А то происходит, что под видом демократии и внимания к простому человеку в райкоме партии процветает идейная неразбериха. Цветы, улыбочки. И это где? В партийном учреждении. Не я буду Мошкарев, если не выведу на чистую воду это новаторское штукарство Медянниковой…
Глава 16В комнату вошла Верочка, и разговор оборвался на самом важном месте. Она принесла полную тарелку черешни. Черешня была крупная, ярко-желтая, будто вырезанная из янтаря. Промытая под краном, она еще хранила на себе свежий блеск воды и сверкавшие, как росинки, капельки.
– Мужчины! Хватит вам разговаривать. Угощайтесь. – Она поставила на стол, ближе к Холмову, тарелку. – Алексей Фомич, белая черешня самая вкусная. Попробуйте, Алексей Фомич! У нее и особенный вкус, и необыкновенный запах. Чудо, а не черешня!
– Ладно, ладно, Веруха, – сказал Мошкарев. И попробуем черешню, и оценим, а ты уходи, не мешай нам. Это хорошо, что догадалась угостить соседа черешней. Иди, иди, у нас важный разговор. Ну чего стоишь и глазами играешь? – спросил он сердито, видя, что Верочка не сводит блестящих глаз с Холмова. – Или не слышала, что тебе было сказано? Так я могу повторить!
– Слышала, не глухая! И перестань бурчать, старый буркун! – со смехом говорила Верочка. – Уж и постоять возле вас нельзя? Да у меня дело не к тебе, а к Алексею Фомичу.
– Какое там еще дело? – спросил Мошкарев.
– Такое, какое меня касается, – так же весело отвечала Верочка. – Алексей Фомич, можно к вам обратиться по одному важному вопросу?
– Что ты придумала? – уже с гневом спросил Мошкарев. – Какие могут быть у тебя важные вопросы?
– Алексей Фомич, можно к вам обратиться? – не слушая мужа, снова спросила Верочка.
– Да, да, пожалуйста, – сказал Холмов. – Я слушаю…
– Возможно, мой вопрос покажется вам не очень серьезным, так вы на меня не обижайтесь, – смутившись и покраснев, сказала Верочка. – Алексей Фомич, это правда, что вы умеете играть на баяне? Правда, а?
– А кто вам об этом сказал?
– Вот именно: кто? – усмехнувшись, спросил Мошкарев. – Или сама придумала? Придет же такое в голову!
– Один человек сказал. – Верочка искрящимися, просящими глазами смотрела на Холмова, ждала ответа, не видя мужа и не слыша его слов. – Вы только скажите, это правда?
– Да, правда, – ответил Холмов.
– Ой, как это удивительно! – воскликнула Верочка. – И не думала, что вы любите музыку!
– Почему же не думала?
– Вот именно: почему? – спросил Мошкарев.
– Вы такой человек – и играете на баяне? Даже странно!
– Что же тут странного?
– Вот именно: что? – поддержал Мошкарев.
– Видите ли, Верочка, я играю весьма посредственно, без нот, по слуху, – как бы оправдываясь, ответил Холмов.
– Это ничего, что без нот! Значит, я могу спеть под баян? – вдруг радостно спросила Верочка. – Я хорошо пою! Особенно современные песенки. Подтверди, Антон!
– Подтверждаю, Алексей Фомич, – нехотя ответил Мошкарев. – Точно, Веруха – первейшая певица. Еще когда выступала в городской самодеятельности, то ей все завидовали.
– Как хорошо петь под баян! – задумчиво говорила Верочка. – И легко петь.
– К сожалению, у меня нет баяна, – сказал Холмов. – Да и, честно говоря, аккомпаниатор из меня никудышный. Вряд ли я смогу.
– Вот именно: вряд ли сможет, – вставил Мошкарев.
– Так это же просто! – уверенно сказала Верочка. – Любую песенку можно быстро разучить. Только вот баяна у вас нет. Как же так? Играете, а баяна не имеете?
– Да вот так. Не довелось приобрести.
– Ну, ладно, ладно, Веруха, хватит с пустяками приставать к человеку, – косясь на жену, сердито сказал Мошкарев. – Получила ответ на свой глупый вопрос и уходи. Дай спокойно побеседовать.
Обиженная, Верочка ушла.
– Ну, Алексей Фомич, принимайся за черешню, – сказал Мошкарев. – На вид бледная, а на вкус – красавица! Как-то лет пять тому назад дружок из Крыма, а точнее, из Симеиза, прислал два деревца. Не знаю, как такой сорт называется по-научному, а по свойски его окрестили «Ранняя радость». Рано созревает…
Черешню Холмов ел с удовольствием, хвалил и за сочность, и за вкус, и за аромат. Косточки и хвостики клал в пепельницу.
– Веруха помешала продолжить мысль, – сказал Мошкарев, тоже кладя черешню в рот. – Так на чем же я остановился?
– На Медянниковой, – напомнил Холмов.
– Да, да, на ней. Только вернее будет сказать: не на Медянниковой, а на ее украшательствах и неуместных в ее положении аполитичных улыбочках, – уточнил Мошкарев. – Как же так можно, Алексей Фомич, райком – это в высшей степени политическое учреждение – превратить в какой-то, извините, цветочный салон? Разумеется, я не мог пройти мимо такого безобразного факта и счел своим долгом коммуниста написать жалобу.
– Зачем же жаловаться? – спросил Холмов, продолжая есть черешню. – Тут, Антон Евсеевич, я с тобою решительно не согласен. Я был в райкоме, видел и красивую мебель, и светлые, чистые комнаты, и ковровые дорожки, и много цветов. Какие же это безобразные факты? Мне такой райком нравится. В нем есть что-то новое, то, что радует.
– Нравится? Новое? – удивился Мошкарев. – Странно это слышать от тебя! Видный партийный деятель, как же такое украшательство могло тебе понравиться? А, к примеру, в твоем кабинете были цветы? И, к примеру, ты улыбался, когда к тебе приходили коммунисты и беспартийные?
– Не было у меня в кабинете цветов, и я редко улыбался, – с грустью в голосе ответил Холмов. – И это плохо! И я, извини, никак не могу понять, что же плохого в том, что в райкоме цветы, а секретарь райкома улыбается коммунистам и беспартийным? Ты даже это назвал безобразным фактом!
– Конечно безобразный! Вот документ! Чтобы не быть голословным, я зачитаю выдержки из своего сигнала, направленного лично первому секретарю ЦК. – Мошкарев взял из коричневого шкафа папку, быстро полистал ее, отыскал нужную бумагу. – Вот копия моего сигнала. Раньше я писал карандашом, под копировку, а теперь пишу на машинке. Техника шагает вперед!.. Ну, преамбулу, короче говоря, общую политическую оценку этого, я снова утверждаю, безобразного факта, я опускаю… Начну вот отсюда, с четвертой страницы: «…хотя, дорогой товарищ первый секретарь ЦК, я могу, допустить, что внешне не только вежливая, улыбающаяся личность секретаря райкома, но и окружающая его обстановка, как-то: мебель, цветы и прочее – тоже имеют на посетителей определенное психологическое воздействие. Но какое? Вредное, разлагающее. Если неглубоко брать вопрос, то в какой-то мере правильно и то, что красивая мебель, ковровые дорожки, цветы как летом, так и зимой украшают облик руководителя. Но как? Исключительно с безыдейной стороны. И тут встает главный вопрос: а не рано ли мы в погоне за эдакой показной демократией встали на путь попустительства и внешнего украшательства? И всегда ли и везде ли, где надо и где не надо, мебель и цветы играют для жалобщиков облагораживающую роль? И верно ли то, что попустительство под видом демократии дает человеку идейную закваску? Тем более в делах политических? Отвечаю: отнюдь нет и нет! Как нам известно из художественной литературы, цветы, красивая мебель всегда в прошлом играли положительную роль в женской, извините, „политике“ в кавычках, а также в будуарах молодых графинь. Мы же воспитываем, извините, не графинь и, извините, не женских кокоток, а, короче говоря, нашу целеустремленную, героическую молодежь. И снова встает вопрос: могут ли в наше время те же цветы и та же шикарная мебель, которые служили для буржуазии предметом роскоши, всегда и повседневно быть нужными, как воздух, в стенах райкома? Отвечаю резко отрицательно: нет и нет!»
Мошкарев читал и, любуясь слогом письма, слушал свой голос, радовался своему умению, как ему казалось, умно и красочно излагать мысли. Оторвавшись от чтения, он уставился на Холмова. Взгляд его как бы говорил: вот, мол, хоть ты и Холмов, а такое тебе никогда не написать.
– Далее я бросаю беглый взгляд на героическую историю нашей партии, – говорил Мошкарев, перелистывая рукопись. – Тут идет экскурс в прошлое. Читать это тоже не буду, Продолжу вот тут, на восьмой странице. Можно с этого места… «Партийная жизнь – это воплощение марксистско-ленинской диалектики. И улыбаться секретарю райкома среди стильной мебели и ярких цветов по всякому поводу и без всякого повода, при всех случаях и без случаев совершенно не подобает. Это есть идейное заблуждение Медянниковой, и его следует еще в зародыше категорически запретить. Медянникова не дипломат из ООН и не посол, а секретарь райкома. А секретарь райкома должен знать, что в нашей жизни, в ее повседневном течении, есть еще немало теневых сторон и очень много таких наболевших вопросов, при решении которых секретарь райкома улыбаться просто не имеет права, ибо он должен быть идейно подтянут, по-деловому суров и даже, если нужно, по-деловому гневен. Зачем же, спрашивается, Е. П. Медянниковой понадобилось на практике насаждать и пропагандировать такую идейную аполитичность и такой утопический райком? Наши великие вожди учили нас: украшением большевика являются отнюдь не цветочки, а деловая скромность и суровая деловитость. Так неужели Е. П. Медянниковой эта простая истина неизвестна? Неужели она не знает, хотя бы из примеров художественной литературы, что всякие цветы, как правило, не обладают скромными расцветками? Если ей и это неизвестно, тогда совершенно не попятно, как такой политически близорукий человек мог стать во главе райкома? Поэтому, дорогой товарищ первый секретарь ЦК, я уверен, что для пользы нашего общего дела нужно, чтобы Медянникова незамедлительно прекратила свои безобразные выходки и познала бы прошлое из жизни нашей партии. Я сам мог бы рассказать ей, как в тысяча девятьсот тридцатом году в городе Нерчинске, чему я сам был свидетелем, райком партии размещался не в хоромах с высокими окнами, а в двух маленьких комнатках и без нужной мебели. О цветах и прочих атрибутах никто и не помышлял. Главное было не цветы и не улыбочки, а ожесточенная классовая борьба как в городе, так и в деревне, а также борьба за быстрейший переход страны на рельсы социализма. В этих комнатушках было все: и приемная, и кабинеты, и общая канцелярия…»
Мошкарев выпрямился, расправив богатырские плечи.
– В таком духе, Алексей Фомич, мною изложена главная суть вопроса, – сказал он, любовно перелистывая рукопись. – Далее я даю подробный анализ, в каких трудных условиях находились партийные работники в те еще не так далеко ушедшие от нас годы, и делаю вывод: действия Медянниковой, стиль ее работы наносят вред нашей партии, ее революционной теории и практике… Ну как, Алексей Фомич? Что теперь скажешь?
Пока Холмов ел черешню и слушал Мошкарева, особенно поначалу, до чтения копии жалобы на Медянникову, у него было, в общем-то, доброжелательное отношение к своему не в меру правоверному соседу. Холмову хотелось и поговорить с ним по душам, и поспорить, и постараться доказать, в чем он прав и в чем не прав. Но теперь это желание пропало. Когда Мошкарев кончил читать и сказал, что действия Медянниковой «наносят вред нашей партии», Холмов невольно подумал: то, что изложено в письме, мог написать человек с не совсем уравновешенной психикой.
Видя, что Мошкарев все еще ждет ответа, Холмов сказал:
– Мне трудно говорить что-то определенное. Хотелось бы только узнать, давно ли это?
– Что «давно»?
– Ну, это… Желание обо всем писать.
– А-а… Хочешь знать, давно ли я занимаюсь искоренением всяческого зла?
– Вот-вот.
– Давненько! Короче говоря, всю сознательную жизнь, – не без гордости заявил Мошкарев. – Моя борьба за справедливость взяла у меня много сил и здоровья, много тревог и бессонных ночей. А сколько я натерпелся всяческих бед! Два раза под судом был. Из партии меня исключали. В тюрьме сидел. Но не сдался и не сдамся до тех пор, пока в груди моей бьется сердце. – Он подошел к шкафу. – Здесь у меня собраны интереснейшие исторические факты. Прошу взглянуть. Даже просто так, ради любопытства. Тут хранятся живые свидетели моих дел, горестей, моих побед и радостей.
Мошкарев распахнул коричневый, из крепкого мореного дуба шкаф. В нем Холмов увидел потемневшие от времени, заботливо, по-хозяйски сложенные папки, разные по размерам и толщине. Одни пухлые, затянутые тесемками, как располневшие воины поясами, другие тощие, худенькие, без тесемок. Тут же, на полках, стояли ящики, в каких обычно хранится картотека. Они были забиты письмами и почтовыми открытками. Одну открытку, не выбирая, Мошкарев выдернул, как карту из колоды, показал ее Холмову и сказал:
– Это – уведомление. – И сразу же пояснил с такой готовностью, как будто хотел чему-то важному научить Холмова: – Письма, Алексей Фомич, надежнее всего отправлять заказными, но с обязательным приложением к ним вот такой уведомительной открытки. Можешь спросить: для чего? Какая надобность при заказном письме иметь это уведомление? Делается это исключительно для надежности доставки. Как говорится, чем черт не шутит. Как известно, почтовая связь не везде у нас работает четко. Особенно много безобразий творится в нашем Береговом. Но я спокоен. Мое уведомление, то есть вот такая открытка, имеющая мой домашний адрес, непременно вернется ко мне. В точности, как возвращаются к своему хозяину почтовые голуби, – с улыбкой на постном небритом лице добавил Мошкарев. – Этот мой голубь, вернувшись, говорит мне, когда, какого числа очередной сигнал доставлен адресату и кем он получен. И я не волнуюсь. В моих руках имеется надежный документ с почтовым штемпелем. К примеру, берем и смотрим этого голубя. – Он снова, не глядя, выдернул открытку. – Что он нам говорит? Он нам говорит, что пакет, вот смотри сюда, послан мною двадцать четвертого октября тысяча девятьсот тридцать четвертого года, получен отделом писем газеты «Правда» двадцать восьмого октября того же года. Я спокоен. Дату подтверждает и эта неразборчивая подпись, и почтовый штемпель.
Мошкарев говорил не спеша, толково, с большим знанием дела. В голосе его звучала такая поучающая нотка, точно его молчаливый сосед специально пришел сюда, чтобы тут, стоя перед шкафом из мореного дуба, познать нехитрую премудрость пересылки почтовых отправлений.
Холмов же, слушая Мошкарева, загрустил еще больше. Он стоял перед шкафом, смотрел на ящики с письмами, на груды папок и думал о том, как бы ему отсюда уйти и уже никогда больше не встречаться со своим соседом. Когда Мошкарев говорил о силе и значении открытки-уведомителя, Холмов почему-то вспомнил, что сам он редко когда отправлял письма. За него все это делали другие. Может быть, поэтому, прожив жизнь, он только здесь, возле открытого шкафа, узнал, что есть письма не только заказные, простые, доплатные, но и письма с уведомлением, и грустно улыбнулся. «Мошкарев это знает, а я не знаю, и он рассказывает об этом так, как будто для человека главное в жизни – уведомление, – думал Холмов. – Нет, зря я сюда пришел. Неудобно как-то так ни с того ни с сего уйти. Надо хоть немного постоять, ради приличия, а потом уже уйти».
Мошкарев же, понимая молчаливую задумчивость Холмова как проявление живого интереса к рассказу и содержимому шкафа, продолжал:
– Смотри сюда! В папках – копии моих жалоб, собранные почти за сорок лет. Ответы я храню не в папках, а в конвертах. Конверт – это тоже документ. Ответ без конверта, – это уже ответ неполноценный. В августе тысяча девятьсот двадцать второго года я получил ответ от Владимира Ильича Ленина…
– Неужели лично от Ленина? – как бы очнувшись, спросил Холмов.
– Не лично от него, но, короче говоря, из его секретариата, – уточнил Мошкарев. – Но это все одно! Как сейчас помню, это был сигнал о неправильной практике в распространении периодической печати. Не было в этом главном деле классового подхода. На газету «Беднота» запросто могли подписаться кулаки. И я написал об этом безобразии лично Владимиру Ильичу. Два ответа храню от Анатолия Васильевича Луначарского – тоже не лично от него. Сигналы были насчет безобразий в создании изб-читален. Книги закупили, а хранить их негде, о помещении никто не позаботился. Есть ответы и из приемной Николая Александровича Семашко – по линии медицины. В медицине были и есть разные безобразия. По этой линии у меня много было успешных сигналов… Э! В этом шкафу целая история моих посланий. Вот эти два ящика – ответы от Иосифа Виссарионовича Сталина, Короче говоря, не лично от него, а из его секретариата. Это были что не ответ, то и гроза! Как только вернется мой сигнал из секретариата Сталина, так сразу переполох. В тот же день меня приглашают те, кого это касается. Обходятся со мной вежливо, ласково, заискивают, как будто, веришь, перед ними не я, Мошкарев, а сам Сталин. «Присядьте, Антон Евсеевич». – «Ничего, я и постою». – «Может, вам, Антон Евсеевич, чайку с лимоном?» – «Чай не пью». – «Антон Евсеевич, зачем же вы так сразу и написали лично Иосифу Виссарионовичу? Пришли бы к нам, и мы бы все устранили…» – «А чего мне к вам приходить. Нужен буду – пригласите…» – «Так вы хоть, Антон Евсеевич, в другой раз, просим вас, умоляем, не пишите Иосифу Виссарионовичу, а приходите к нам запросто, как к себе домой…» – «И не просите, не умоляйте, говорю, писал и буду писать лично…» А эти ящики хранят ответы и уведомления из разных центральных газет. А в этом ящике – ответы из нашего Прикубанского обкома и облисполкома. Есть ответы и на те жалобы, что тебе посылал. Хочешь взглянуть?
Холмов не знал, что ответить. И как же кстати в комнате снова появилась Верочка! Она принесла, держа за ремень, что-то тяжелое, в матерчатом черном чехле, похожее на ящик.
– Веруха! Чего прешь? – крикнул Мошкарев. – Поговорить из-за тебя нельзя!
– Вот, Алексей Фомич, – сказала Верочка, не слушая мужа и ставя на стол ящик в чехле. – Возьмите!
– Что это? – спросил Холмов.
– Вот именно: что? – повторил Мошкарев.
– Баян! Я взяла его у вдовы Макаровны. Она живет напротив, через улицу. – Верочка с тоской посмотрела на Холмова. – Баян, как память, остался ей от мужа. Муж погиб на войне, а баян, как и муж, вот уже сколько годов молчит. Макаровна все эти годы никому не разрешала даже притрагиваться к баяну, частенько наклонялась к нему и плакала. Но я сказала, что баян я прошу для вас. И она согласилась. Возьмите, Алексей Фомич, попробуйте. Может, он уже не играет?
Холмов присел к столу, снял с баяна чехол. Это был инструмент отличной работы, с пятью рядами басов. Видно было, что мастер вложил в свое дело не только мастерство, но частицу своей души.
Холмов поставил баян на колени, и мехи, слежавшиеся за столько лет, по-человечески тяжко вздохнули. Когда же Холмов прошелся пальцами по клавишам, баян не заиграл, а запел – нежно, ласково. Радовали не изумрудные мехи, не перламутровая отделка корпуса, а напевность баяна, его мягкий и отзывчивый голос. Холмов хотел сказать, что баян очень хорош, но что поиграет на нем как-нибудь в другой раз, и не сказал. В дверях появился деловитый, подтянутый Чижов.
– Алексей Фомич, я пришел за вами, – сказал он. – Нас ждет какой-то человек. Я говорил ему, что вас нету дома. Уселся на веранде и заявил, что просидит хоть до ночи, а вас дождется.
Выйдя за ворота, Холмов спросил:
– Виктор, это ты сказал Верочке, что я играю на баяне?
– Пришлось сказать… Я спросил у нее, не знает ли она, где бы достать баян. Вижу, скучновато вам, вот и хотел. Пристала: кому да кому? Ну и сказал. А она, выходит, быстрее меня раздобыла баян! А что? Не надо было говорить?
– Ни к чему. А кто тот человек, что меня ждет?
– Не говорит. Какой-то поэт, но фамилию не назвал. Что-то в лицо будто и знакомый, а кто – не знаю.
– Что ему нужно?
– Принес стихи. Собственного сочинения.
– Мне? Зачем?
– Не могу знать.








