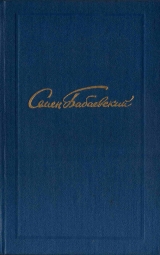
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 3"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)
Вволю наевшись меда, они сидели, вытянув ноги и привалившись спинами к стенке. Курили. А между тем начинало вечереть. Солнце припало к земле, на прощание заполыхало в подсолнухах и скрылось. Еще лежали по горизонту багряные полосы, но и они постепенно погасли. Сгущались сумерки, а темнота так и не наступила. Как бы на смену солнцу над степью поднялась луна, и под ее слабым светом все вокруг преобразилось.
Где-то совсем близко урчал мотор. Тягучее его гудение, то усиливаясь, то ослабевая, казалось, шло под землей. Близ куреня высвистывала какая-то резвая птичка, а может, и две, – трудно было понять. Далеко-далеко замычала корова. Долетали сильные и слаженные голоса, – верно, женщины возвращались в бригаду, и с песней идти им было веселее. А возле уха рождались и гасли то комариные писки, то жужжание, похожее на звук басовой струны. Ночные жуки пролетали над головой, иные, не рассчитав, шлепались о курень, и тогда басовая струна рвалась и умолкала. Разошлись, разгулялись лягушки. Радовались, что в пруд смотрела луна. Нестройный хор затянул еще с детства знакомую песню, и она навевала грусть и рождала воспоминания. Холмов слушал ночные звуки и сознавал, что давненько уже не испытывал такого душевного волнения.
– А хорошо здесь! – мечтательно сказал Холмов. – Просто удивительно, как хорошо! И эти жуки, падающие на курень, и этот нестройный лягушачий хор, и эти далекие, как детство, песни женщин, и этот где-то в подземелье урчащий мотор – все, все прекрасно! А небо! Днем оно исписано пчелиными нитями и рябит в глазах, а ночью залито лунным светом, так что звезды еле-еле приметны. Эдакая лунища! В городе она, честное слово, совсем другая. Да, чудесно в степи в любой час! Сиди вот так возле куреня, дыши и наслаждайся природой. Что еще нужно человеку?
– А заседания? Собрания? – спросил Монастырский. – Тоже ведь нужны?
– Нужны, не спорю. Но что нужнее и что важнее? – так же мечтательно продолжал Холмов. – Я вот смотрел на пчеловодов. Люди как люди. Но у каждого из них за плечами большая и нелегкая жизнь. В прошлом они, да и ты, Афанасий Лукич, занимали видные посты, были вершителями важных дел и без заседаний и собраний, конечно, не могли жить. Но то, что было, ушло. И по лицам их видно, что жизнью своей они довольны и те прежние свои высокие посты и важные дела давно забыли, а от заседаний отвыкли. Ведь так же, Афанасий Лукич?
– Да как сказать? Оно вроде бы и так и вроде бы нет, – уклончиво ответил Монастырский. – Газеты, верно, читают не так жадно, как читали раньше. Тут много причин. И возраст, и глаза уже не те, слабые. Во всем же прочем – дело сложное. В том-то и беда наша, Алексей Фомич, что те высокие наши посты и наши важные дела не забываются и от заседаний мы никак не можем отвыкнуть. Тянет, как пьяницу к рюмке. Трудная, Алексей Фомич, штука – прошлое. Сидит оно в тебе и не умирает. Кольнет где-то внутри и напомнит, что делал прежде и что теперь. И через то в душе боль. Так что спокойные лица у пчеловодов – это одна видимость. Подумал, почему каждый пасечник сидит в своем жилье, как в укрытии?
– А почему?
– Думки одолевают. Сидит, бедолага, и перебирает в памяти все, что было у него в жизни, как жил, с кем дружил, какие у него были мечты. – Монастырский прислушался к жужжанию жука; думал, что он ударится о курень, а жук пролетел мимо. – Ворошит память, ищет в себе, что было в нем плохое и что было хорошее, и мысленно, как на весах, взвешивает. К тому же каждый и душе сознает, что уход на пенсию – это ближе не к свадьбе, а к смерти. Вот и мучится всякими думками. Живой же человек без думок не может. А ты – лица спокойные. Сверху, верно, покой, а внутри буря.
– А как же пчела? Как шалфей? – спросил Холмов. – Значит, не успокаивают?
– Пчела, не отрицаю, увлекает, успокаивает, а шалфей – точно, лекарство отменное, – подтвердил Монастырский. – Часто бывает, когда ты занят пчелами и ни о чем таком, что когда-то было и что тревожило душу, не думаешь. Забываешься. Это верно. И я утверждаю, что для физического здоровья находиться возле пчел очень полезно. Есть наглядная выгода, есть. Но иной раз такое творится в душе, такие кошки скребут, что хоть карабкайся на стену! И никто этого не знает. Помучится человек и успокоится. Бывает, ночью сидишь вот так возле куреня, как сурок близ своей норки, и ничего тебе не мило, ничто тебя не радует. Слушаешь эту противную лягушачью музыку, глядишь в небо, и вся твоя жизнь стоит перед очами, а сердце щемит, щемит. А известно ли тебе, отчего оно, разнесчастное, щемит? Думаешь, оттого, что лягушки буйствуют, что падают на курень жуки, что луна сияет? Нет! Оттого, Алексей Фомич, щемит сердце, что отлучен от привычного дела насильно, как отлучают малое дите от материнской груди. И пожилой человек как то дите: и плачет, и переживает, и сознает, что возврата к былому не будет. И еще пожилой человек сознает, что будет неизбежный конец и его радостям, и его горестям.
– Я понимаю, что человеку трудно смириться с тем, что он остался не у дел, – сказал Холмов. – Но надо ж находить радость, и пчеловоды, надо полагать, нашли эту радость для себя.
– Точно, нашли, только не совсем то, что нужно, – возразил Монастырский. – Пчелы – занятие спокойное, и идет оно размеренным шагом. А человеку нужны волнения. Вот через то сердечко и щемит, через то и ноет и просит, чтоб вернули ему привычные волнения и тревоги. Ведь многие из нас могли бы еще ворочать делами, и еще как! Многие еще послужили бы отечеству, как говорится, верой и правдой. Разве я, к примеру, не смог бы справляться с председательской должностью? Смог бы! И разве я один такой? А нас куда? На покой, на отдых! Уходи, уступай место. И мы потянулись куда? К природе! Нашли себе дело. Забавляемся пчелкой и едим шалфей. Веришь, Алексей Фомич, во сне видишь себя эдаким орлом в полете, и то ты сидишь в суде на каком-то важном процессе, то ведешь разбирательство, то участвуешь в каком-то заседании. Вот ты сказал: от заседаний отвыкли. А почему же больше всего нам снятся именно заседания? То открываешь заседание, то закрываешь, то выступаешь с речью… Вот она как укоренилась, привычка! Так что на лица пасечников не смотри. Лица, Алексей Фомич, бывают обманчивы. А вот в душу загляни, ежели можешь.
– В душу, верно, заглянуть нелегко, – Холмов угостил Монастырского папиросой, зажег спичку, дал прикурить и сам прикурил. – Я ведь тоже с трудом прилаживаюсь к своей новой жизни. И не сплю по ночам. Все думаю, все приглядываюсь, как живут пенсионеры. И к вам приехал, чтобы посмотреть, как вы тут живете. Посмотрел и в душе порадовался: вот, думаю, нашли же люди себе дело и успокоились, смирились с судьбой. Неужто и я, думаю, как эти пчеловоды, обживусь в Береговом, найду себе какое-нибудь занятие, со временем успокоюсь, удовлетворюсь тем, что есть, и то, прошлое, забуду? А ты говоришь, оно не забывается? Заседания снятся? Признаться, и со мной все это происходит.
– Тебе что! Ты еще можешь выбраться из пенсионной житухи, – глядя на луну, грустно сказал Монастырский. – Ты помоложе, да и авторитет у тебя. О тебе еще вспомнят и сами позовут. А вот мне – беда! Придется тут, среди пчел, и помирать. Как-то я написал в Москву. Получил ответ. Вежливый, но с отказом… Никому, брат, уже не нужен. Прошу тебя, Алексей Фомич, когда получишь работу, возьми меня отсюда. Вызволи. Любое дело поручи – не раскаешься. Обещаешь?
– Трудно мне обещать. Ведь я и сам в твоем же положении.
– Не теперь, а в будущем. Обещаешь?
– Если будет возможность – обещаю. С радостью.
– Спасибо, Алексей Фомич, на добром слове. – Монастырский глубоко вздохнул. – Буду ждать. Ведь я только и живу надеждами да снами. Приснится собрание или заседание в суде – радость на весь день.
– А говорят, что человек ко всему привыкает, – заметил Холмов. – И к хорошему и к плохому.
– К хорошему, верно, привыкнуть нетрудно, но, видно, и до могилы не отвыкнуть от того, к чему привык за многие годы. – Монастырский сладко зевнул. – Уже ко сну тянет. Видишь, выработалась новая привычка – рано ложиться. Сумерки на землю, и ты – в балаган. По-куриному.
– А есть такие, кто привык к своему новому положению? – заинтересованно спросил Холмов. – Ну, те, у кого не щемит сердце?
Вместо ответа Монастырский перекосил рот и широко, протяжно зевнул.
– Чего это я так раззевался? Или на дождь? Так ты интересуешься, есть ли среди пенсионеров такие, у кого не болит душа? – Монастырский помолчал, подавил зевоту. – Есть. Иного слабого духом на старости лет качнет, к примеру, к жадности. Не устоит, бедняга, перед соблазном, и погонит его к наживе, как ветром в спину. А она, жадность, такая гадюка, что даже из старого человека легко может веревки вить. Для примера беру нашу пчеловодческую практику. К осени у каждого пасечника наберется меда бочонка два, а то и три. Смотря по тому, какое выдастся лето и какой у пчелы взяток. И тут возникает вопрос: куда девать такую массу меда? Сам ты его и за десять лет не съешь. Ну, оставишь на зимний прокорм пчелам. Ну, наградишь родичей, знакомых, соседей. Ну, конечно, и сам ешь вволю. А куда девать излишки? Те, кто не тянется к наживе, отдают излишки в детский дом или в детсад. А что делают жадюги? Отправят свои бочонки домой, а потом всю зиму на базарах и в Береговом, и в других курортных городах торгуют свежим медом. Наживаются! А то и самогон из меда гонят. – Монастырский скривился, как от зубной боли, с трудом подавил зевоту. – Вот у такого сердце не защемит, могу поручиться. Все, что было у него хорошего в прошлом, – да и много ли было, и было ли? – выветрилось из него, а плохое выкарабкалось наружу. И он спокоен. И думка у него одна: побольше бы накачать меду да повыгоднее его продать.
– И много таких?
– В нашем точкé есть один, – ответил Монастырский без особого желания. – Может, приметил того трудягу, что сидел, как волк, возле своего жилья и ложку выстругивал из яблони? Это Нефедов, бывший управляющий банком. Финансист. К нам на побережье приехал откуда-то с Севера, кажется, аж из Магадана. Ну, этот Нефедов – жила! Ему заседания не снятся. Он рад, что дорвался до пчел. В лесу спилил дикую яблоню, приволок на точок мертвое бревно и начал из него выстругивать ложки. Живет молчком, нелюдимо, как крот. Ничего его не влечет, ничего не интересует. Кроме меда. Мед качает, ложки из яблони выстругивает. И то и другое – на базар. Покупаешь мед – покупай и ложку. Ею удобно мед черпать. Хитер! Курортники охотно берут и мед, и самодельную ложку. – Снова шумный и продолжительный зевок. – Пойду-ка в балаган и задам храповицкого. Беда как давит сон… Или рюмка повлияла, или быть дождю… Желаю, Алексей Фомич, спокойной ночи в кучмиевском курене. Поспи на свежем воздухе. Благодать! Ну, пока! До завтра!
Глава 32В темном и душном курене тесно. Без привычки трудно устроить постель. Холмов долго копошился, умащивался, как птица в гнезде. По совету Кучмия постелил сена, покрыл его буркой, под голову положил тощую, видавшую виды подушку – не из пера, а из комковатой каты. Лег, вытянулся и облегченно вздохнул.
Но лежать было неудобно. Сказывалась привычка спать на мягкой постели. А тут и подушка твердая, и бурка под боками жесткая, и ноги торчат из куреня. К тому же в кровле, как раз над головой, шелестела и затихала, карабкалась и замирала не то мышь, не то ящерица. К самым ушам, как старые добрые знакомые, подобрались кузнечики и запели беспечно и по-степному привольно. Холмов вслушивался в их голоса и улавливал слова: «Ах, Холмов, Холмов, как же долго ты не заглядывал к нам. Мы уже думали, что и не встретимся. Хорошо, что ты пришел, не забыл нас и что лежишь в курене, как, помнишь, лежал в детстве, и слушаешь нас так же, как слушал тогда… А может, ты уже забыл нас и не узнаешь наши голоса?..»
«Как же вас можно забыть и как же не узнать ваши голоса! – думал Холмов, затаив дыхание. – Не только узнал ваши монотонно-грустные напевы, но и порадовался тому, что снова услышал вас. Напевы-то ваши не изменились, не стали ни громче, ни тише, а остались точно такими, какими слышал я их еще в детстве, когда ночевал с дедом – сторожем бахчи – вот в таком же курене. Только теперь ваши напевы почему-то навевают тоску и будоражат воспоминания. Может быть, потому, что прошли годы, и какие годы! Но вам-то ни годы, ни время нипочем. Тут, в степи, так ничто и не изменилось. Так же стоит курень, и кузнечики звенят так же, как звенели много лет тому назад… Удивительная музыка, не стареет!»
В просвете, как в дыре, виднелся светлый лоскут неба и две неяркие звезды на нем, как пришитые на бледном полотне две желтые бусинки. Поворачиваясь, Холмов чувствовал боль в боку: уж очень жесткой была постель. Лежал на спине, заложив руки за голову, и вслушивался в ночные звуки. «Не по мне, оказывается, эта постель, – с сожалением думал Холмов. – Отвык. И бока болят, и уснуть не могу. Буду лежать и слушать песню кузнечиков. Тоже полезно, ведь давно не слышал. В курене и душно, и темно, и эти тревожные шорохи над головой. Как тут спит Кучмий? Может, лечь головой к выходу?»
Холмов переложил подушку и снова лег на спину. Теперь из куреня выглядывала его белая голова, и видел он не один лоскут неба с двумя звездочками. Все оно, огромное, озаренное луной, высоким шатром поднималось над ним. А он смотрел на небо и думал, что вот так, высунув голову из куреня, пролежит всю ночь с открытыми глазами; что будет ворочаться на жесткой постели и мучительно ждать рассвета; что в затылке опять возникает нестерпимая боль.
Опасения Холмова оказались напрасными. Уснул он неожиданно и спокойно, – обычно так засыпают дети или здоровые люди после дневного труда. И сон был крепкий, глубокий, со сновидениями, и спал бы он еще долго, если бы не ударили в лицо жаркие лучи вставшего над степью солнца. «Вот как убаюкали меня кузнечики, – радостно подумал Холмов. – Молодцы! Такая приятная музыка. Отлично поспал!»
Поднялся быстро, молодцевато, как, бывало, поднимался, когда еще служил в отряде Кочубея. Энергично взмахнул руками, чувствуя бодрость и прилив сил. Даже попрыгал возле куреня, намочив росой босые ноги, и был этому очень рад. Потом взял полотенце, мыло и, почему-то напевая песенку про синенький скромный платочек и вспоминая, как хорошо пела эту песенку Верочка, быстрым шагом направился к пруду.
Умывшись, Холмов постоял на берегу. Тихая гладь пруда была обметана камышом, как молодое лицо бородкой. Небо над прудом сверлил жаворонок. Тревожный всплеск рыбы на стеклянной поверхности пруда, простор полей в сизой дымке, желтое покрывало цветущих подсолнухов, роса на траве, идущая с полей прохлада и жаворонок в небе – все, все говорило Холмову, что это и есть настоящее летнее утро в степи и не радоваться, но восторгаться им нельзя. И, может быть, потому, что настроение у него было приподнятое, что к сердцу прильнула радость, какой он давно уже не испытывал, ему казалось, что и лекция, которую он готовил с таким трудом, и его мысленные беседы с Лениным, и его раздумья о жизни здесь, рядом с природой, становятся еще более важными и еще более значительными. И ему вдруг захотелось остаться на пасеке, подружиться с пчеловодами, научиться делать то, что делали они, и зажить той жизнью, какой жили они. Захотелось перевезти сюда, на пасеку, все нужные ему книги, и тут, сидя возле куреня, изучать и узнавать то, что раньше не изучил и не узнал…
На точкé давно уже текла своя, ничем особенным не примечательная жизнь. Курились очаги. Вместе с дымом к пруду тянулся запах подгоревшего сала. Кто готовил для себя завтрак. Кто нес к себе в курень воду в ведре. «Живут артелью, а едят каждый свое, – подумал Холмов. – Организовать бы общую столовку. Было бы и вкусней и дешевле…» Тот мужчина, что вчера выстругивал ложку, осматривал мотоцикл, наверное собираясь ехать по какому-то своему делу. Монастырский в тех же спадающих трусах ходил по пасеке и осматривал ульи. А пчелы уже торопились к цветкам. Снова, как и вчера, рябило небо, и снова тянулись по нему нити, поблескивая под лучами солнца, и снова недоставало челнока.
Боясь показаться в глазах пчеловодов бездельником, Холмов отправился в поле. Без всякой цели, просто так, побродить. Шел мимо скошенной пшеницы. Она лежала в валках и просила подборщика. Видно, прошло немало дней, как она лежала на стерне. Ее уже прибило к земле дождями, она уже начала прорастать травой, и колосья кое-где почернели. «Какое безобразие, ведь гибнет хлеб – и какой хлеб! – думал Холмов, остановившись перед валками. – Кто они, эти бесхозяйственные руководители, что не могут убрать зерно? Надо узнать, кому принадлежат эти хлеба, и поехать в райком. Это же черт знает что». Шел и думал о том, как он сегодня же узнает, какому колхозу или совхозу принадлежит эта пшеница, и сам примет меры, чтобы ее убрали.
С этими мыслями он подошел к подсолнухам. Они стояли стеной, как один, повернув к солнцу свои нарядные головы, и на их шершавых листьях-ладонях еще хранились росинки. Холмов раздвинул руками стену, сверху желтую, а снизу серую, и пошел по рядку. Ему в глаза смотрели ярчайшие шляпки с золотистой кашкой и с оборочками желтых лепестков. Пчелы, не боясь Холмова, липли к шляпкам, хоботками отыскивали чашечки-цветки. Оттого, что вокруг было столько цветов и столько света, на сердце у Холмова стало покойно, и он от радости, как ребенок, прижался к подсолнуху небритой щекой, ощутив приятную свежесть.
Сколько раз за свою жизнь Холмов бывал в поле и сколько раз видел подсолнух в цвету! И ни разу еще не чувствовал ни того душевного волнения, какое поднялось в нем, ни той радости, какую ощущал он теперь. В ту минуту, когда щека коснулась цветка, сердце его тревожно забилось и повлажнели глаза… «Что это со мной? – подумал Холмов, шагая по рядку и раздвигая руками и грудью упругие стебли с яркими шапками. – Слезы? Что это я вдруг растрогался? Такого со мной еще не бывало…»
Он ускорил шаги. Шляпки, одна краше другой, качались, толкали его. Огоньками падали под ноги лепестки, и пыльца от них, как тончайший желтый туман, пудрила лицо и оседала на его белую голову. Идти было тяжело. Он опустился на сухую комковатую землю. Лег навзничь и ощутил тишину. Необычную, такую тишину не встретить нигде. Покой, безмолвие. От земли поднимался густой, настоянный на солнечном тепле запах подсолнечных цветов. Утолщенные у корня стебли были прошиты лучами, нижние листья пожухли и шелестели, как бумага. Шляпки, яркие с лица, с тыльной же стороны были бледные, будто слеплены из стеарина.
Над цветами высокое синее небо, и плыл по нему, вращаясь по кругу, беркут. Не сгибая крыльев, не взмахивая ими, он кружил и кружил, и красное оперение, попадая под луч солнца, точно вспыхивало. «Вот кому от души можно позавидовать! – думал Холмов, не отрывая взгляда от беркута. – Какая высота и какой перед ним простор! Гордая птица! А я вот лежу… Покой и на земле, покой и в теле. Может, так и остаться одному в этом царстве цветов и тишины? Слиться и с покоем, и с этими солнечными бликами, и с этим идущим от земли теплом? Слиться и уже никогда не подняться? А тогда что? Всему конец?..»
И впервые здесь, в подсолнухах, его испугала мысль, что никогда уже он не вернется к тому делу, каким занимался всю жизнь, никогда не испытает того душевного волнения, какое испытывал раньше, и что уже никогда не будет тем Холмовым, каким люди знали и любили его. А будет Холмов пасечником. Станет смотреть за пчелами, качать мед, и потечет его жизнь ровно, спокойно, и не будет на душе ни радостей, ни печалей. «Нет, нет, и пасека, и мед из цветков шалфея, и все, что тут есть прекрасного, что успокаивает нервы и лечит от всех болезней, не для меня, – с затаенной надеждой думал Холмов. – Я еще больше понимаю теперь Маню Прохорову, ее слова о том, что мы не можем жить без дела и без душевных тревог. Как ни хорошо на пасеке, но и эта устоявшаяся тишина, и этот мирный покой, вижу, не для меня, и жить тут я не смогу. Мне надо вернуться к своему делу, обязательно вернуться. Без этого мне не жить, и люди еще должны увидеть того, знакомого им Холмова. И непременно увидят!»
Он устало смежил глаза, и в тот же миг мысли унесли его далеко-далеко. Не стало ни беркута в синем поднебесье, ни подсолнухов с их дурманящими запахами, ни тишины, ни идущего от земли тепла.








