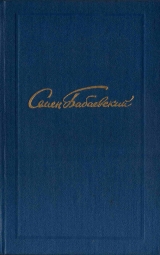
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 3"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц)
Холмов весело посмотрел на озабоченное, небритое лицо Работникова и сказал, что ни горючего, ни другого чего им не нужно. Он пожал руку сперва Работникову, потом молодому человеку в комбинезоне, обоих поблагодарил, сел в машину, и «Чайка» покатила. Следом, с трудом поспевая, понеслась «Победа».
Чижов загрустил, и не без причины. Ему всегда становилось не по себе, когда он сталкивался с личной неудачей. Вот и теперь его огорчило то, что он, Чижов, не смог заставить Работникова выдать камеру, а Холмов это сделал удивительно легко и быстро. «Да, умеет проникнуть в душу, умеет, – думал Чижов. – И что он шепнул на ухо этому скряге? Что заставило Работникова так мгновенно переродиться? И что он говорил этому Работникову, положив руку на плечо?»
Ехали молча. Каждый был занят своими мыслями.
– Еще и еще раз удивляюсь, Алексей Фомич, и все думаю и думаю, – нарушил молчание Чижов, повернувшись к Холмову. – Думаю о том, какое же волшебное слово вы шепнули Работникову на ухо? Чудо, да и только! Человек вмиг переродился, сделался шелковым да послушным.
– Не удивляйся, Виктор, – сказал Холмов. – Есть в русском языке и волшебные слова, есть. Их только надобно знать. Ты начал кричать на Работникова, а этого делать не надо.
– Все же интересно, как вы могли так быстро уговорить человека? – спросил все время молчавший Игнатюк. – Ведь он заявился таким хмурым!
– Меня тоже удивила эта быстрая перемена, – сказала Ольга. – Что за причина, Холмов?
– Я знаю! – За Холмова ответил Чижов: – Любовь и уважение! Ведь так же, Алексей Фомич?
Снова шуршали колеса, и в стекло посвистывал ветер. Как бы прислушиваясь к этим звукам, Холмов откинул голову, закрыл глаза и сказал:
– То, что ты говорил с Работниковым грубо, кричал на него, это, Виктор, никуда не годится. Вообще нельзя так разговаривать с людьми, а тем более с Работниковым, человеком заслуженным, всеми уважаемым. Это же наш колхозный самородок. Обычный казак, не имея образования, он уже много лет руководит «Авангардом». Что же касается моего волшебного слова, то оно, если хочешь знать, было простое. Я спросил, как он живет, как жена, дети, внуки. Потом сказал, что резину мы просим взаймы или за деньги. Но об этом он и слышать не пожелал. Вот и весь наш разговор.
Ехали молча. Продолжая лежать с запрокинутой головой, Холмов стал припоминать случаи из своей жизни, когда именно уважение и любовь людей к нему исходили от полноты сердечных чувств.
И его обрадовало то, что как раз таких случаев, где были уважение и любовь, в его памяти сохранилось немало. «Зачем же припоминать, когда есть самый наглядный пример – Чижов, – думал он, чувствуя боль в затылке. – Сколько лет находится рядом со мной, работал не за страх, а за совесть, и я всегда видел в нем самое доброе и сердечное ко мне расположение. Вот и сейчас он со мной. Разве же все то, что Чижов делал и делает, не есть выражение уважения ко мне? Разве не те же искренние и сердечные побуждения заставили Чижова поехать со мной в Береговой? Кто я для него теперь? Новоявленный пенсионер. И Чижов мог бы не ехать со мной, а вот поехал. Что это? И уважение, и даже любовь».
Холмов подложил ладони под болевший затылок и начал думать о том, что нельзя из случайного факта делать поспешные выводы и какие-то далеко идущие обобщения, и успокоился. Полулежал с закрытыми глазами, слышал, как на поворотах попискивали тормоза, как порывисто шумел ветер. Когда открыл глаза, то увидел ущелье, узкое как корыто, все заросшее лесом. По ущелью изгибалась дорога. Вдали был виден синий-синий клин моря.
– Алексей Фомич, ну вот мы скоро и приедем, – сказал Чижов. – Еще два небольших перевала, а там уже и Береговой.
Глава 6Антон показывал родителям дом, хвалил, говоря, что стоит он на высоком месте, что и со двора, а особенно с веранды, море видно от берега до горизонта. Холмов был скучен и к рассказу сына безучастен. Он даже не взглянул на море. Когда осмотрели комнаты, родник у ивы и снова вошли на веранду, Холмов сказал, обращаясь к жене, что у него болит голова и что он хочет остаться один.
Ольга прошла в комнату, налила в стакан воды, взяла таблетку и снова вернулась к мужу. Он полулежал в шезлонге, и лицо его было мертвенно-бледным. Ольга заставила Холмова принять таблетку. В комнате она молча посмотрела на сына такими грустными глазами, словно взглядом этим хотела сказать: вот, мол, какой стал твой отец, приехал, уселся на веранде, и ничто его не радует, ничего ему не нужно.
– Как себя чувствует Алексей Фомич? – внося чемодан, спросил Чижов. – Опять ему нездоровится?
– Видно, совсем заплошал наш рыцарь. – Ольга тяжело вздохнула. – Жена Проскурова назвала его рыцарем, а рыцарь-то совсем сдал…
– Извините, Ольга Андреевна, но рыцарь – это не то слово, оно не дает точной характеристики. – Чижов присел на стул, положил на колени свои мясистые ладони. – Есть, Ольга Андреевна, слово точное: талант! Да, именно талант! И вам и Антону надобно знать, что в натуре Алексея Фомича как раз и есть все то необходимое, что зовется талантом и что от рождения дается не каждому. Сама природа наградила Алексея Фомича даром вожака, талантом организатора и вдохновителя масс.
– Не надо, Виктор, об этом, – перебила Ольга. – Да еще теперь, когда он никому, кроме меня и сына, не нужен…
– А что «теперь»? И почему «не нужен»? – Чижов поднялся, поправил под поясом гимнастерку. – Алексей Фомич и теперь нужен всем! Суворов, как вы знаете, тоже был не у дел…
– Ни к чему это сравнение, – сказал Антон. – И к отцу оно никак не применимо.
– Я уже говорил и опять скажу: плохо, Антон Алексеич, знаешь своего отца, – стоял на своем Чижов. – А я-то его знаю! И верю: придет время, вспомнят еще об Алексее Фомиче, вспомнят.
– Знаю, Виктор, ты влюблен в Холмова, и твоя преданность ему меня радует и поражает, – сказала Ольга. – Но сейчас, когда Холмов уже не тот, кем он был, твои восторги кажутся смешными.
– Я не восторгаюсь, а говорю только то, что есть, – ответил Чижов. – И мои чувства, и мое отношение к Алексею Фомичу зиждутся не на какой-то личной выгоде, а на…
– Скажи, Виктор, – Ольга на полуслове перебила Чижова, – скажи, почему и теперь, как и раньше, ты так же усердно служишь Холмову? Мог бы и не ехать с нами, а ты поехал. Почему?
– Исключительно потому, дорогая Ольга Андреевна, что для меня не то есть уважение и преданность, которые исчезают, точно дым, как только тот, кого уважал и кому был предан, остается не у дел. – Чижов широко улыбнулся, и эта улыбка говорила, что только наивные люди не могут понять того, что понимает Чижов и что понятно всем. – Потому-то я и приехал с вами, что для меня есть то истинное уважение и та настоящая преданность, которые никогда не пропадают и исходят из глубины сердца. И если бы меня не послал Проскуров, то я сам бы поехал. Поймите, не могу я оставить Алексея Фомича одного, когда ему трудно. Вы улыбаетесь и мысленно говорите: он-де не один, рядом с ним его жена, сын… Это так, это верно. Но он привык всюду быть со мной.
В это время послышался голос Холмова.
– Вот! Слышите? – У Чижова радостно заблестели глаза. – Меня зовет! – И он побежал на веранду. – Слушаю, Алексей Фомич!
– Угадай, Витя, о чем я сейчас думаю, – Холмов по-прежнему полулежал в шезлонге с устало закрытыми глазами. – Сумеешь угадать, а?
– Трудно, но постараюсь. – Из нагрудного кармана гимнастерки Чижов вынул потертую, видавшую виды записную книжку и, сияя глазами, приготовился записать все, что ему будет сказано. – Надо полагать, Алексей Фомич, вы думаете о том, как будете жить в Береговом?
– Верно! Молодец, Виктор! – Холмов даже приподнялся, держась рукой за затылок. – Чужие мысли читаешь, Виктор?
– Не чужие, а ваши, – польщенный похвалой, уточнил Чижов, не сводя радостных глаз с Холмова, – Ваши мысли для меня не чужие.
– Ты всегда, Виктор, преувеличиваешь.
– Это, Алексей Фомич, образ! Сказать, метафора!
Холмов смотрел на своего бывшего помощника и видел его добрые, доверчивые глаза. Стало неприятно оттого, что раньше глаза Чижова были обычными глазами, а теперь вдруг приобрели это странное, умиленно-ласковое выражение.
– Да, Виктор, точно, я думаю о Береговом, – сказал Холмов. – И не вообще о Береговом, а конкретно о том, есть ли в городе хорошая библиотека. Как думаешь, есть?
– Непременно! – ответил Чижов. – Вы же знаете, Алексей Фомич, что в нашей стране нет такого города, в котором не было бы хорошей библиотеки. Но у вас же есть и свои книги.
– У меня только сочинения Ленина и еще кое-что, а мне потребуется много книг. – Он морщил лоб, прижимал ладонь к затылку. – Еще в Южном я собирался посмотреть, что говорит Ленин о значении личности в истории и о роли масс и вождей. – Переменил ладонь, подождал, пока Чижов записывал. – Подбери нужные страницы.
– Понимаю. Будет сделано! – Чижов не отрывал карандаша от записной книжки, ждал. И опять его угодливо-ласковый взгляд смутил Холмова. – Еще что?
– Пока все.
– Как ваша голова, Алексей Фомич?
– Затылок раскалывается. – Болезненно усмехнулся: – Беда! Уже и таблетки не помогают.
– Может, примете нашего лекарства? – Чижов облизал губы. – «Юбилейный», как вы помните, помогал.
– А ты припас?
– Как же! Имеется в «Чайке». «Юбилейный» расширяет сосуды.
– Неси!
Чижов побежал к «Чайке», взял корзинку, сплетенную из тонкого хвороста, и принес ее на веранду. Вынул из корзинки бутылку «Юбилейного», завернутые в бумагу рюмки. Но тут на веранде появилась Ольга. Зло покосилась на Чижова и на мужа, молча взяла бутылку, рюмки и удалилась. Тотчас вернулась и, стоя в дверях и с трудом удерживая слезы, сказала:
– Стыда у тебя нет, Виктор! Нашел чем поить больного человека!
Чижов слегка наклонил голову и ушел. А Ольга прислонилась к стене и беззвучно заплакала. Холмов видел ее вздрагивающие плечи и не знал, сказать ли ей, что Чижов тут ни при чем, или утешать ее, или лучше всего промолчать. Поплачет и успокоится. Он хорошо знал, что Ольга любила держаться независимо и имела привычку, желая подчеркнуть эту свою независимость, называть мужа не по имени, а по фамилии. И дома и на людях как бы хотела показать, что и она, его жена, как и те, кто подчинен ему по работе, считает Холмова тем человеком, к которому нельзя обращаться по имени – Алексей или Алеша, а следует называть его либо Алексей Фомич, либо Холмов. Она говорила: «Вот и Холмов приехал!», «Холмов, садись обедать», «Холмов, ты когда сегодня вернешься с работы?» Холмов терпеть не мог этой привычки жены.
– Оля, ну что ты все – Холмов да Холмов? – говорил он. – У меня же имя есть!
– Знаю. Но мне так нравится! – отвечала она. – А ты не сердись, Холмов. Называть тебя по фамилии – Холмов – просто и красиво!
За всю их длинную совместную жизнь Ольга не раз упрекала мужа, или давала ему какие-то советы, или что-либо подсказывала.
Холмов считал, что лучше не говорить с Ольгой теперь, когда она стояла рядом и плакала. Начнет корить, упрекать, и, чего доброго, тут, на новом месте, и в первый же день они поругаются. И он не стал ни говорить с плакавшей женой, ни успокаивать ее. Склонился, обнял руками голову, чувствуя, как тупая, непрерывная боль от затылка переходила к ушам, так что ушные раковины нельзя было тронуть. Ему казалось, что вот так, согнувшись в шезлонге, он успокоит боль и успокоится сам. Но он слышал всхлипывания жены, ее частые вздохи, шумное сморкание в платок, и оттого, что он это слышал, боль в затылке не только не уменьшалась, а усиливалась. «Уснуть бы, уснуть бы, – думал он, сжимая руками голову. – И проснуться где-то далеко-далеко, на незнакомом берегу, в хижине, и чтобы на десятки верст вокруг ни души. Одно только море да я…»
Глава 7Вот и сбылось то, чего Холмов ждал и чего боялся: ночь, и он один в чужом доме. В комнатах было душно. Его кровать Чижов поставил на веранде. Сюда залетал ветерок не то с гор, не то с моря. Отсюда был виден город в редких огнях. Луна гуляла в чистом небе, и на море лежала широченная, вся в искрах лунная дорога. Уснуть же Холмову на новом месте не давала радиола, игравшая в доме Мошкарева. Нельзя было понять, почему сосед заводил одну и ту же пластинку – поставит, отыграет и снова ставит. Это была развеселая песенка с припевом о том, как «Ивановна за рулем сидит», и звонкий голос певицы заглушал все окрест.
Холмов смотрел на лунную дорогу и невольно, сам того не желая, мысленно повторял: «А Ивановна за рулем сидит». К полуночи радиола смолкла, в наступившей тишине кузнечики затянули свою унылую мелодию, а бодрая песенка о том, что какая-то Ивановна за рулем сидит, так въелась в сознание, что еще долго не покидала Холмова. О чем бы он ни думал, а в голове: «А Ивановна за рулем сидит…»
Он стал думать о сыне. Ему казалось, что Антон не был рад приезду родителей. Поэтому и уехал домой еще засветло, сославшись на то, что жена его нездорова и что обещал ей сразу же, как только вернется, приехать домой. Они же поспешный отъезд сына поняли так: не захотелось ему на ночь оставаться с родителями, вот и уехал. Прощаясь, Антон просил приехать к нему в гости. Ольга обняла сына и расплакалась. Холмов, стараясь быть спокойным и даже веселым, сказал:
– И без приглашения непременно приедем. Надо же нам внучат повидать… Ну чего ты, мать? Уезжает-то Антон недалеко, жить-то теперь будем, считай, рядом. – Обнял сына, наклонил к себе его чубатую голову. – За жилье, за кровати и все прочее, Антон, спасибо. Только не знаю, как мы тут приживемся.
– Еще как хорошо будете жить! – сказал Антон. – Климат здесь, вы же знаете, прекрасный…
Думая о сыне, Холмов в который уже раз пожалел, что в Антоне ничего его, отцовского, не было ни в помыслах, ни в делах. Ему не нравилось, что его сын избрал себе специальность винодела, что жизнь у Антона ничем не была похожа на жизнь отца и этой жизнью Антон был доволен. Еще в институте он женился, рано обзавелся семьей, получил работу, квартиру и жил так, как живут все, ничем не выделяясь и не стремясь к чему-то большему. В его-то годы Алексей Холмов был мечтателем, с душой горячей и беспокойной. Антон же отличался характером спокойным, уравновешенным… А в голове: «А Ивановна за рулем сидит…» «Наши дети не похожи на нас, как и наше время не было похожим на нынешнее, – думал Холмов. – И все же обидно: мой сын – винодел, мастер по изготовлению вина. Такого в роду Холмовых еще не было. Как-то даже странно об этом думать. Винодел Антон Холмов…» А в голове: «А Ивановна за рулем сидит…»
Потекли, наперегонки побежали думы, раздумья. Не стало ни Ивановны, что сидела за рулем, ни душной ночи, ни лунного следа на море… Молодой паренек Алеша Холмов шел по Весленеевской. Он был одет в новенький полувоенный костюм цвета хаки, армейский пояс с портупеей затянул его осиную талию. Гордо подняв русую голову, Алеша шагал вблизи дворов, шагал и слышал, что говорили ему вслед стоявшие у дворов казачки. Слушал и в душе посмеивался: пусть судачат, пусть говорят.
– Погляди, кума, в какую обмундированию нарядился казацкий сынок!
– Так то он не сам нарядился… Комсомол приодел.
– Как же не приодеть. Ить стыдно сынку Фомы Холмова ходить в тряпьях.
– Эх, горе, горе… Трех сынов Фома оставил, и все пошли в работники.
– Лежит казак в земле, а казачьи сыны гнут хребтину, батрачат.
– Пусть знают, какую счастливую жизнюшку завоевал им их батя.
– А чего им знать? Они сами с батьком ту жизнь завоевывали. Говорят, все три сына в боях были отчаюгами, а особенно этот, младший.
– Он, этот младший, и зараз бедовый. Всем станичным комсомолом управляет. Башковитый парень.
– А какой гармонист! На всю станицу.
– Зато старший, Игнат, смирный… Говорят, в зятья пристает к Фортунатовым.
Фома Холмов в гражданскую войну служил в отряде Ивана Кочубея. Храбрый, лихой был рубака. Не один белогвардеец пал под ударом его сабли. Левша, он с одинаковым проворством рубил с любой руки. Но не сохранил Фома свою буйную голову: погиб в сабельном бою под Надзорной. В этой же станице, на площади, под серым, из необожженного кирпича обелиском и лежит Фома Холмов в братской могиле. А три его сына – три кубанских казака – и жена-казачка, чтобы не умереть с голоду, пошли по найму.
У казаков есть свой неписаный закон: не годится казаку ходить по найму. Если работал у казака сын иногороднего, то это считалось делом обыденным, привычным. А если у казака батрачил сын казака, то это уже считалось позором. Сколько стерпел Алексей Холмов и насмешек, и упреков, и обид! Игнат избавился от позора тем, что пристал в зятья к богатому казаку Фортунатову. Житуха тоже была не из сладких, тоже терпел и унижение и упреки. Но Игнат не батрак, а зять. Средний брат, Кузьма, весельчак и песенник, ушел в горы и там поступил на работу табунщиком на только что созданный коневодческий завод. Любил Кузьма коня под седлом, любил поджигитовать, покрасоваться в седле – видно, осталась эта любовь от покойного отца.
Алексей Холмов избрал свою дорогу. Его потянуло не к верховой езде и не к жизни в зятьях. С тем же юношеским пылом, с каким Алексей вместе с отцом воевал, он стал укреплять в станице молодую советскую власть. Ему не исполнилось и двадцати, когда он, комсомольский вожак Весленеевской, вступил в партию. В тот год молодой коммунист Алексей Холмов еще батрачил у казака Веселовского. Тогда он умел и сыграть на двухрядке, и сплясать, и сказать зажигающее слово, и горячо взяться за дело.
Вскоре его батрацкая жизнь кончилась. Алексей Холмов пошел по жизненной лестнице – все вверх и вверх, все выше и выше. Сперва комсомольская ячейка и станичный батрачком, потом изба-читальня, райком комсомола, рабфак, курсы пропагандистов – лестница была крутая, подниматься по ней было нелегко. Но энергии Алексея Холмова можно было позавидовать. Ему неведомы были ни лень, ни усталость. Учеба давалась легко. Читал много и прочитанное умел не только понять, но и запомнить.
Теперь, на веранде, мучаясь от бессонницы, он хотел мысленно и как бы со стороны посмотреть на себя, на всю свою жизнь. Каким был и каким стал. Как жил и что делал. Почему-то раньше такого желания у него никогда не возникало. То ли не было досуга для размышлений, то ли считал, что самому на себя смотреть нечего – пусть смотрят другие; что жизнь его сложилась удачно и вспоминать прожитое не было нужды. А что же теперь? Возникла такая нужда? Да, оказывается, возникла, и возникла потому, что где-то в глубине сердца хранилась тайна о том, что с той высокой лестницы, на которую за многие годы взошел, его попросили сойти не потому, что он стал стар и болен. Пятьдесят семь лет не старость, а бессонница и боль в затылке не болезнь…
Было обидно сознавать, что так рано оказался не у дел. Но нигде и ничем не выказывал он эту свою обиду. Хотелось, чтобы никто и никогда не узнал истинную причину его ухода от дел и чтобы те, кто любил и уважал его, навсегда сохранили о нем самые добрые чувства.
Ворочаясь на скрипучей железной кровати, Холмов понимал, что только сознание своей ненужности и заставляло его так критически относиться к себе, и так много думать о том, как жил, где шел прямо и смело, а где не прямо и не смело. Раздумья его были похожи на то, как если бы он заново стал переписывать и переделывать свою, но не им написанную биографию. Прочитал страницы и удивился: все в этой биографии было изложено, в общем, правильно, и все было, в общем, неправильно. Описана будто бы его жизнь и будто бы не его, и ему теперь надо все заново переписать, все заново переделать, все уточнить, снабдить нужными фактами, примерами. «А Ивановна за рулем сидит…» «Черти бы ее взяли, эту Ивановну! – раздраженно думал Холмов, спуская с кровати костлявые ноги. – И надо же так прицепиться этой песенке… Да, шалят, сдают нервишки. Ночь опять пропала – не усну. Даже кузнечики уже отыграли свое и умолкли, а я все еще не сплю. Как же мне уснуть? В голове-то какая тяжесть…»
Голый до пояса, в узких трикотажных исподниках, высокий и худой, он прошел в комнату. Нечаянно ногой опрокинул стул. Стул загремел и разбудил Ольгу.
– Ох, Холмов, Холмов, опять ходишь? – сказала она, вставая. – Опять не спишь?
– Опять не сплю.
– Хочешь принять таблетку?
– Хочу.
– Возьми на столе. Там и стакан с водой.
Он положил на язык горькую, горше хины таблетку, поспешно запил ее и ушел на веранду. Луна уже низко повисла над морем и тоскливо смотрела ему в глаза. Он сел на кровать, оперся руками о костлявые колени и задумался. В это время появился Чижов. В одних трусах, плотно сбитый крепыш, похожий на штангиста легкого веса. «Вот кому спится хорошо, – подумал Холмов. – Молод, здоров, чего же ему не спать?..» Чижов, зевая, сказал, что на новом месте снится ему хорошо, что никаких снов не видел. И, глядя с укоризной на Холмова, добавил, что возле моря и в тиши не спать даже грешно.
– А я вот не сплю, – ответил Холмов. – Видно, еще не привык к новому месту.
– На фронте, помните, Алексей Фомич, любое место для вас было привычным.
– То, Виктор, на фронте. И помоложе был, и вообще…
Холмов полулежал на пружинной кровати, а Чижов сидел рядом, в ногах. Курили и негромко говорили о том, что нужно сделать завтра. Первое дело – прописать паспорта и зарегистрировать пенсионные документы. Холмов сказал:
– Это ты сделаешь.
– Не беспокойтесь. Будет полный порядок, – ответил Чижов. – Сперва зайду в милицию, а потом в райсобес. А как с партучетом? Давайте заодно схожу и в райком.
– В райком пойду сам. Может, даже сегодня. А уж завтра обязательно. Заодно повидаюсь с Медянниковой. – Холмов помолчал. – Знаешь, что еще не давало мне уснуть? Как ни странно, консервный комбинат. Не могу, Виктор, понять, почему в Москве тянут? Почему до сих пор не утверждена проектная документация? Если построить в Южном такой комбинат, то этим раз и навсегда разрешилась бы для всего Прикубанья проблема сбыта овощей и фруктов. Ведь сколько этого добра пропадает каждое лето!
– Алексей Фомич, окончательно перестаю вас понимать, – с сожалением в голосе сказал Чижов, – Давно вас знаю, а все одно загадочный вы для меня человек! Ну зачем вам думать о консервном заводе? Да разве без вас некому о нем подумать?
– Как – зачем? Помнишь, это большое дело было начато еще мной и не окончено.
– Все помню. Помню, как мы с вами ездили с этим проектом в Москву. Верно, при вас началось, а при Проскурове пусть завершится. Вы же теперь в Береговом, и у вас одна забота – отдых.
– Мне, Виктор, виднее, какие у меня заботы и какие печали, – сердито ответил Холмов. – Меня Проскуров уверял, что позвонит в Москву и все разузнает. Позвонил ли? Жаль, что нет у меня здесь телефона. Обязательно попрошу Медянникову, чтоб поставила аппарат.
– Вот еще новость! – И Чижов насильно рассмеялся. – Все добрые люди убегают от телефона, а вы сами к нему тянетесь. Алексей Фомич, да забудьте обо всем. Живите спокойно. Вот и сон наладится.
– Забыть обо всем? Жить спокойно? А как?
– Очень просто! Ни о чем постороннем не думайте, и все!
– Хороший ты парень, Виктор, да только мало смыслишь в житейских делах… Запиши еще одну мою просьбу. Пойди на почту и позвони Проскурову. Спроси, звонил ли он в Москву. Если звонил, то что узнал об утверждении проектной документации. Скажи, я беспокоюсь.
– А если не звонил и ничего не узнал?
– Тогда придется мне послать телеграмму в Москву, – твердым, знакомым Чижову голосом ответил Холмов. – Может, Проскуров побаивается бюрократов, может, ему не хочется портить с ними отношение. А мне бояться нечего… Да, вот еще что. Не читал еще газеты, не слушал радио. Купи все газеты, какие достанешь. Что там делается в мире? И еще. Купи конвертов с марками. Надо написать письма Игнату и Кузьме.
Поручение «позвонить Проскурову» было записано Чижовым в его блокноте под первым номером, «газеты» – под вторым, а «письма и марки» – под третьим.
– А еще, Виктор, мешала мне уснуть соседская радиола. – Холмов снова прилег на кровать, подбив под голову подушку. – Певица так распевала, что слышно было и на море. Небось тоже слышал?
– Я спал крепко.
– Эх, счастливая душа! Отличный у тебя сон, Виктор. Сегодня же скажи соседу, попроси его, чтобы ночью не заводил радиолу.
– Будет сделано! О чем эта песенка? Запомнили?
– О какой-то Ивановне. За рулем сидит та Ивановна.
– Трактористка? Больше вы ее не услышите!
– Вот и утро скоро, утро первого дня, – мечтательно говорил Холмов. – Утро первого дня моего безделья. Первого, потом второго. Сколько же их еще впереди? А уснуть бы надо. Хотя бы немного поспать. Хотя бы часик.
Чижов пометил в блокноте под четвертым номером: «Радиола. Ивановна за рулем».
Пожелал Холмову спокойного сна и ушел.








