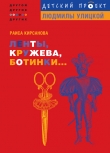Текст книги "Каменная баба"
Автор книги: Семен Бронин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
Она пошла по главной дороге поселка. Ей все было здесь знакомо, но она смотрела вокруг себя новыми глазами: будто в первый раз увидела. Жительницы поселка здоровались с ней, она им с задержками отвечала, они замечали состояние ее духа и, кажется, читали ее мысли, которые ей самой были неподотчетны. Она свернула с шоссе и пошла по тропке в степь, к каменному истукану: будто наперед знала, что там станет легче. Первобытная скульптура стояла на месте, только окружена была не желтой, пожухлой травой, как в прошлый раз, а новой изумрудной зеленью. Каменная баба смотрела мимо поселка, в сторону садящегося за степью солнца. От прямого освещения черты ее, в прошлый раз стертые и смазанные, сделались отчетливей, рельефнее, словно ожили: стали хорошо видны низко опустившиеся груди и врытые в землю ноги, а в верхней продолговатой, яйцевидной части прорисовалось подобие лица, грубого, бесформенного и упрямого. Впереди, в направлении ее слепого взгляда, алело, краснело, желтело и голубело закатное небо, и женщина, сама лишенная красок, казалось, любовалась ими: не молилась на уходящее светило, но прощалась с ним, чтоб назавтра увидеть снова. Ирине Сергеевне и в самом деле стало легче: не она одна здесь маялась и томилась – в душевной грозе ее наступило затишье, она вернулась назад в ином, более спокойном и собранном состоянии духа...
Но в тот день она твердо решила, дала зарок: отработать в Петровском положенные два года и вернуться затем на родину.
* ВТОРАЯ ЧАСТЬ *
АЛЕКСЕЙ
29
Алексей Григорьевич появился в Петровском одновременно с новой заразой – но прежде надо рассказать, хотя бы вкратце, о том, что предшествовало им обоим.
Порвав с Иваном Александровичем и решив через год уехать, Ирина Сергеевна внешне мало переменилась и продолжала вести прежний размеренный образ жизни. Инстинкт самосохранения, живущий в нас, в случае моральных потрясений в особенности старается сохранить наружное постоянство и ввести всех в заблуждение. Она и не могла вести себя иначе: не нашла бы сочувствующего слушателя, ей не с кем было поделиться. Она не была ни вдовой, ни женой, оставленной ветреным мужем: это те могут плакаться и жаловаться на судьбу, но супружеская неверность доброй славой у населения не пользуется, он под нравственным запретом – хотя все миновали или могут пройти через его бурные пороги и тихие омуты. Ирина Сергеевна не притязала на иное отношение к себе и ни на что не сетовала – трудно было поэтому вывести ее из застывшего, хотя и шаткого равновесия, но иным это удавалось. Особенно обидны бывают в таких случаях предательства друзей: кого любишь и не можешь не задумываясь списать в убыток. Иван Герасимыч, забывшись как-то, съязвил в ее адрес самым дешевым и плоским образом:
–Что это Пирогов сюда ходить перестал?
Она оторопела, спросила:
–А вы по нему соскучились?
–Да нет...– Он развел руками.– Просто пасся здесь прежде. Торчал как на привязи...
Это была совершеннейшая ложь. Иван Александрович никогда не торчал, как он выразился, в поликлинике, и она к нему не ходила: встречались они как правило на ничейной земле, на нейтральной территории – словно предчувствовали подобные попреки в будущем. Она мельком глянула на него, ничего не сказала, а Иван Герасимыч осекся, поперхнулся собственной дерзостью, поодумался, стал похож на нашкодившего ребенка и весь день потом странно похмыкивал и покряхтывал, тяготясь собственной глупостью, а она еще три дня потом говорила с ним самым официальным образом – потом только смягчилась, вернулась к прежнему тону и то не сразу, а постепенно, уступками и лишь потому, что он сказал это ей с глазу на глаз, без свидетелей...
В июне судили Ивана. Милиция не отстала от него, довела процесс до естественного завершения: действительно, если б он не закончился судом, зачем было затевать его? Приговор, как это сплошь и рядом бывает, был предрешен и согласован заранее: надо было не переборщить с возмездием, но и не оставлять воровство безнаказанным. Вмешательство Ирины Сергеевны в судьбу Ивана не могло иметь никаких последствий: она решалась интригой, в которой были замешаны, ни много ни мало, самые значительные в районе лица, и Лукьянов был среди них за крайнего. Первый секретарь Зайцев никак не мог уйти со своего поста: метил теперь на должность в Москве, а она освобождалась с большим скрипом, с задержками. Его место было обещано второму секретарю, Воробьеву: чтоб старался и работал вдвое, а что дальше было ведомо лишь высшему начальству. Воробьев поверил на слово и с нетерпением ждал отъезда своего хозяина. Проволочки раздражали его, само ожидание и неопределенность положения обесценивали в его глазах фигуру руководителя, не то бывшего, не то нынешнего, и он поднял голову и начал вести себя так, как никогда бы не позволил себе в обычных обстоятельствах. Внимательный читатель должен помнить, что Лукьяновы тесно примыкали к кружку второго секретаря, а Пирогов слыл за человека первого. Зайцев вначале хотел спустить на тормозах лукьяновское дело: оно не стоило выеденного яйца и могло породить ненужные сплетни, но, столкнувшись с нелюбезностью и противостоянием наследника, решил проучить его, наказав одного из его подручных. Областная милиция, знавшая подоплеку дела, устранилась и передала его в район для рассмотрения не по месту совершения преступления (какого, никто по-прежнему не знал), а по месту жительства правонарушителя. Здесь Лукьянова решили отдать под товарищеский суд: это был как бы реверанс в сторону Воробьева – на слух товарищеский суд приятнее, чем суд областной и даже народный. На деле же, хоть он и был товарищеский, ничего дружественного в нем для Лукьянова не было: суд есть суд, как его ни назови, и люди в нем ожесточаются от одного сознания причастности к вершению чужих судеб, прокуроры взывают к мести, а судьи – к нелицеприятности.
Заседание проходило в стенах школы, освободившейся к этому времени от занятий. Отношение к Ивану как со стороны юристов, так и сидевшей в зале публики было самое предвзятое. Анна Романовна и в этом видела происки Ивана Александровича, но тот, пустив первый шар и положив начало делу, потом в нем уже не участвовал. В этом не было нужды: у милиции и суда своя хватка однажды вцепившись в кого-нибудь, они выпускают из объятий разве только покойника. На суде Пирогов сидел особняком, в уединении, молчал и не мог влиять на правосудие. Лукьянов сам был во всем виноват: поскольку держался, по обыкновению своему, свысока и вызывающе. У нас на суд надо идти с низко опущенной головой, бия себя в грудь, разрывая на себе рубаху и каясь: если не за нынешние свои грехи, то за прошлые, не за свои, так за все человечество – такова уж наша отечественная презумпция и всеобщей вины, и невиновности, а Лукьянов от всего, как иностранец, отпирался, открещивался и тем задевал и попирал нравственные устои зрителей. Один из них даже не выдержал и публично, с места опроверг его показания:
–Как же не торговал, когда я у тебя за чирик колбасы палку еле выпросил?!.
В пылу разоблачения он пренебрег главным законом улицы, запрещающим под страхом смерти всякое доносительство, но никто в зале не осудил его за это: он выразил общее настроение. Иван даже не сразу сообразил, чем ответить.
–Как же я продать ее мог, когда конфисковали ее у меня?– нашелся он, но тот отмахнулся от казуистических тонкостей:
–Не в этот раз, так в другой – какая разница?..– Ему было все равно, судят ли Ивана за какой-то один особенный день или за всю биографию: русский человек не любит делить жизнь на части и склонен оценивать ее огульно...
Рассматривался в самом деле эпизод, приведший к задержанию, но это ничего не значило: сам по себе он был ничтожен, едва не выдуман и мог иметь лишь символическое значение. Иван вез на базар (или, как он утверждал, с базара) мясо для продажи, используя для этого казенную машину, преступление в наших краях неслыханное: в том смысле, что никому еще в голову не приходило останавливать и судить за это водителя. Но Россия не Англия, не страна прецедентов: раз судят, значит, пришла такая пора и от тюрьмы, по известной аксиоме, не отказываются. Супруги вначале хотели нанять адвоката, но Иван в последний момент раздумал, запретил жене делать это: чтоб не смешить людей и не позориться. Голос с места подтвердил правильность его решения: глас народа – глас божий. После него процесс утратил интерес: как решенная школьным классом задача – пошел на убыль, покатился под гору. Судьи, получив подтверждение правоты с места, заторопились, зачастили в своей скороговорке, и не прошло и десяти минут, как Ивану влепили год условно и еще год принудительных работ по месту службы – с выплатой половины заработка. Большего за вмененные ему пустяки никакой бы районный суд не дал – не то что товарищеский, а на товарищеский еще и нельзя было пожаловаться: в этом и заключалась соль выбора – чтоб не тянули время в апелляциях, дожидаясь смены районного руководства. Супруги встретили приговор ледяным молчанием: хоть они и ждали беды, но она застала их врасплох – надежда в суде умирает последней. Удар по ним был нанесен жестокий и, по их мнению, несправедливый – они долго потом от него отряхивались, приходили в себя и собирались с мыслями. Пирогов: если он приложил к делу руку и стоял у его истоков – мог быть доволен; но если так оно и было, он этого не показывал. Что же до Ирины Сергеевны, то она в школу не пошла: не то не любила судов вообще, не то избегала эту школу в особенности...
Зато в мае она переехала на новое место жительства. Ирина Сергеевна сама нашла его на рынке – или, точнее, в кооперативном магазине, расположенном на его территории: тут все стоило на пять-десять копеек дешевле, и народ здесь толпился с утра до вечера...
Она стояла в очереди – впереди нее была женщина лет пятидесяти, которой она прежде не видела, но которая расположила ее к себе: как и почему это происходит, никто еще не выяснил. Одета она была не по погоде: в теплое длинное черное пальто и шаль, хотя на дворе было пятнадцать градусов, держалась особняком и ни с кем не заговаривала – лишь обсуждала, с собой же, планы предстоящих закупок, изредка и мельком взглядывая на Ирину Сергеевну и приглашая ее не то в свидетельницы, не то в участницы расчетов:
–Картошку я, конечно, куплю: если не мерзлая, морковь тоже можно взять, а вот лук, наверно, на рынке лучше: этот вялый слишком... А свекла маленькая...– и снова взглянула на Ирину Сергеевну: сообразуясь с ее мнением. Та улыбкой дала понять, что вполне с ней солидарна.– А вы что будете покупать?– спросила незнакомка.– Я всегда спрашиваю в очереди. Всего не купишь и не узнаешь, а если спросить одного-другого, можно составить впечатление.
–Квашеной капусты возьму,– отвечала ей, сама не зная почему, Ирина Сергеевна.-Остальное в больнице есть, а капуста квашеная не положена.
–Лежит кто-нибудь?
–Сама лежу...– и поскольку та недоумевала, пояснила:– Живу при больнице. Не то сторож, не то ночная сиделка... Врачом работаю, детским...
Собеседница от этих объяснений поняла еще меньше, проницательно поглядела на нее, но и этим ничего не добилась.
–При районной больнице нашей?
–При Петровской...– и Ирина Сергеевна объяснилась: держать ее в неведении и дальше было бы неучтиво.– Живу там. Не было другого жилья. Квартиры никто сдавать не хочет.
Та поджала губы, скорчила недоверчивую физиономию.
–Но там шумно, наверно? Кричат по ночам?..– Она произнесла это в самом гадательном и предположительном тоне, как если бы ей не приходилось бывать в больницах.
–Почему? Тихо... Родильное отделение у нас отдельно: там, правда, кричат, но с этим свыклись... Другая беда: ночью будят, когда кому-то плохо. К этому привыкнуть труднее.
Теперь та все себе уяснила. Признания Ирины Сергеевны почему-то привели ее в замешательство, и она притихла.
–Не думала, что можно на рабочем месте жить,– сказала она только.– Это как если бы я на заводе ночевать стала.
–Где вы работаете? Или работали?
–На сталелитейном. Но это давно было. И не здесь. Я приезжая...– и задумалась.
Тут подошла ее очередь, она купила того-другого-третьего, причем сделала это наскоро, без того выбора, какой обещала на подступах к прилавку, подождала у входной двери, но когда Ирина Сергеевна подошла к ней с капустой, засуетилась и сбежала от нее – они так и не попрощались...
Поговорили – и ладно. Ирина Сергеевна забыла о ней, но на следующий день в амбулатории снова увидела ее в коридоре возле кабинета: она сидела среди мамаш в том же длинном, до пят пальто, но с развязанной шалью и скучала в ожидании. С Ириной Сергеевной она едва поздоровалась. Та решила, что у нее проблемы со здоровьем внуков и что она решила воспользоваться новым знакомством, и пригласила ее к себе, но та сказала, довольно безразличным и сторонним тоном, что дождется своей очереди:
–В магазине же стоим, вперед не лезем?– и в этом разъяснении прозвучало некое неодобрение и назидание. Ирина Сергеевна не стала настаивать и вернулась на прием.
Когда пришла ее очередь, незнакомка вошла в кабинет, села, расстегнула пальто, выпростала из-под воротника шаль, уложила ее на коленях – все молча и аккуратно, на Ирину Сергеевну же взглянула лишь однажды и как бы ненароком. Та решила ей помочь:
–Неприятности какие-нибудь?.. Вы говорите, не стесняйтесь...
–Да я, собственно, не по своему делу, а по вашему,– сказала та и посмотрела на нее в упор, оценивая последним взглядом.– И долго вы в больнице вашей жить думаете?
Ирина Сергеевна отличалась порой тугим соображением. Она не сразу переключалась с врачебного приема на собственные заботы.
–Сколько скажут. Это не от меня зависит... Вы что-то другое предложить можете?
Это было сказано ею из вежливости, потому, что так говорят в подобных случаях, но оказалось, что попала в самую точку:
–Могу,– веско сказала посетительница.– Переезжайте ко мне. У меня изба, я одна. Тепло и никто не кричит, не будит... Если, конечно, вас удобства мои устроят...– и поглядела внушительно и даже вызывающе на предполагаемую жилицу.
Та не сразу собралась с мыслями, но, не сообразив еще всех обстоятельств дела, уже почувствовала непонятное ей душевное облегчение.
–Теплая изба – какие еще удобства?– произнесла она очередную дежурную, подходящую к случаю фразу и с робким любопытством покосилась на волхва, приносящего столь неожиданные подарки.– Надо главному врачу сказать... Это надо оформить все. Если вы и в самом деле взять меня хотите. Вам за это платить должны.
Формальности произвели странное действие на квартиросдатчицу:
–Еще не хватало! Деньги за это брать!
–А как иначе?..– Ирина Сергеевна растерялась.– Это не мои деньги, а райздравотдела...– но та упрямо стояла на своем:
–Никаких денег! Это мое условие!..
Ирина Сергеевна, помешкав, отступилась:
–Как скажете, конечно... Я, простите, не знаю даже вашего имени и отчества?
–Прасковьей Семеновной меня звать. А вас Ирина Сергеевна – я уже все про вас выяснила...– поглядела со значительностью, решила затем, что наговорилась вдоволь и пора кончать с пустой болтовней:– Здесь не будем решать – посмотрите апартаменты мои, там и скажете. Может, они еще вас не устроят... Адрес мой запишите, я вас дома ждать буду,– и встала из-за стола.
–Хотите, я с вами?– не подумавши предложила Ирина Сергеевна.
–Не нужно,– отрезала та.– Что это мы с вами по Петровке под ручку ходить будем? Может, не сладится ничего... Поселитесь у меня – тогда и будем дружбу водить...– и ушла, невнимательная и независимая...
Иван Александрович идею переезда воспринял скептически: может быть, все еще питал иллюзии в отношении ее дивана, а к тому, что будущая хозяйка не хочет брать денег за постой, отнесся куда легче ее собственного.
–Да не хочет, и слава богу! Сумасшедшая какая-нибудь – вроде нас с тобою...– Он имел в виду, наверно, ее одну, а себя приплел для счету и из приличия.– Прасковья Семеновна, говоришь? Не знаю такую. Хочешь, справки наведу?
–Не надо... Зачем?
–Как скажешь,– равнодушно согласился он.– Тебе машину для переезда дать?..– и поднял на нее глаза: до того глядел все вкривь и вкось – теперь же смерил известным ей взглядом: как раньше, когда приступался к любовному сближению – она невольно отпрянула. Теперь при встрече она, раз от разу все больше, чувствовала, что охладевает к нему физически, и уже не знала, смогла ли сойтись с ним снова, если б надумала сделать это, но, странное дело, это нисколько не мешало, а, напротив, лишь помогало ей тосковать по нему и мечтать о той же близости в его отсутствие.– Если нужно, подброшу.
–Рано пока,– оградилась она от него: как крестным знамением от наваждения – и встала.– Ни о чем еще не договорились...
Но справки она навела: попыталась сделать это, зайдя к амбулаторной регистраторше Авдотье Никитичне, которая, как было сказано, знала в Петровском всех и каждого. Хозяйки в картотеке не оказалось, да и Ирине Сергеевне тоже показалось, что она в поликлинической обстановке – человек самый неопытный и несведущий.
–Адреса даже такого нет. Может, вообще нет его? Кто ж это за всю жизнь ни разу у врача не был?.. И зрительно ее не помню. Вы мне ее в следующий раз покажите – может, скажу что, а пока, убей бог, не знаю...
Никто не знал – выходило, что по городу ходит и предлагает бесплатное жилье никому не известная, но постоянно живущая здесь пятидесятилетняя особа в длинном, не по сезону теплом пальто, любительница овощей и даже домовладелица. Потом ее, конечно, вычислили, но задним числом, напоследок: она была из поскребышей – из тех, о ком вспоминают в последнюю очередь, когда переберут всех прочих – да и то не сразу. Пока же вся история принимала нереальный и почти вымышленный оттенок. Дом, однако, соответствовал адресу и оказался самый настоящий, рубленый и сравнительно новый – только стоял во втором ряду, заслоненный другими, такими же, и, наверно, поэтому был не очень известен.
–Комната ваша там будет, здесь сготовите, что надо, все прочее на улице,– стала с внешним безразличием, но и не без гордости перечислять хозяйка, едва Ирина Сергеевна вошла и огляделась: дом показался ей чистым и уютным.– Я вам шкаф освободила – все равно старьем завален: таскаешь за собой лишнее, не помрешь пока... Вещи не привезли? Что так?
–Вы ж сами сказали, дело пока не решенное?
–Мало ли что я скажу? Куда вам еще деваться?.. Сегодня и перевозите.
–На руках донесу,– обрадовалась та.– Здесь недалеко совсем.– Дом еще и расположен был рядом с больницей.
–Приданого не нажила?
–Не успела.
–Давай старайся... А я вот заработала, да не сгодилось... Может, оно и к лучшему... Ты только на меня не смотри: я поначалу, не привыкну пока, волком глядеть буду, будто ты мне в тягость, а на самом деле это я так: на себя, а не на тебя дуюсь... Что смотришь?
–Смотрю, как бы вам плату за квартиру всучить.
–Вот те раз. Обговорили же все?.. Тебе-то что?
–Может, я хоть за свет и налоги платить буду? Неудобно очень.
–А врача без жилья оставлять – удобно?.. Больше жалей всех... Налоги ладно, плати,– смилостивилась она.– Я этих денег касаться не буду. И мне легче – лишний раз в сберкассу не ходить, в их окошко не всовываться... Вот тебе ключ, располагайся и не обращай на меня внимания...
Вечером, когда Ирина Сергеевна перебралась в дом, они сели пить чай в ближайшей к сеням и, так сказать, общей их комнате, предварявшей две небольшие спальни.
–Живу одна, смотрю телевизор... Тебе телевизор мешать не будет?..
Она легко перешла на "ты", но Ирина Сергеевна не могла и представить себе этого. Ей мало кто помогал в жизни, она к этому не привыкла и, позволив Прасковье Семеновне участвовать в ее судьбе, смотрела на нее как на существо иного и высшего порядка.
–Нет конечно.
–Я тихо включать буду. После работы шум вреден... Соседи тут – ничего. Которые в соседнем доме живут. Я с ними особо не знаюсь, они со мной тоже здороваемся только, но люди вроде порядочные. Ребенок у них есть, а сам он, не знаю, где работает, врать не буду... Вот так. Будешь у меня за жилицу. А то я совсем, с одиночеством этим, с ума свинтилась... А с другой стороны...-помедлив, словно передумала она и посмотрела на нее едва ли не с укором,-может, так и лучше. Никто перед глазами не вертится...
Ирина Сергеевна сробела, но хозяйка ее урезонила:
–На свой счет приняла? Я ж тебе говорила: не слушай меня. Разве я б тебе серьезно это сказала?.. Ты не в счет: от тебя симпатия какая-то исходит... И вообще: не обращай на меня внимания – я теперь месяц еще дуться буду. Почему, сама не знаю... Пей чай давай. И закусывай сушками...
В эту ночь Ирина Сергеевна заснула тихим и сладким сном, какого давно не знала. В доме было в меру тепло и свежо и легко дышалось. В больнице воздух был стоячий и прелый, насыщенный запахами лекарств, чужого и дальнего пота и тысячу раз стиранного белья, испарения которого преследовали ее в особенности и не отпускали от себя ни на минуту...
На этом ее собственные принудработы по месту основной службы кончились. Работать в больнице можно, но постоянно жить в ней и врагу не пожелаешь...
30
Что касается Алексея Григорьевича, то она сама вытребовала его в Петровку.
Любовь любовью, а дело стоять не может. Она, вполне уже официально, обратилась к Ивану Александровичу по поводу непонятных ей случаев инфекции в Тарасовке, протекавших с лихорадкой, ознобами и небольшими белыми язвами в ротовой полости.
–Надо будет снова в Тарасовку съездить,– сказала она, разыгрывая его не то нечаянно, не то умышленно.
–Да ну?!– удивился он, не зная что и думать: решил, что она напрашивается к нему на дачу, и не знал, соглашаться или отказываться: ему без нее было и скучно, и спокойно.– Там печку топить надо.
–Какая печка в июне? Кости греть на старости?.. Я не об этом. Вы все об одном... Там дети с непонятной инфекцией.
Он, попав впросак, озадачился:
–Опять?.. Я говорил, ты меня до гроба доведешь этими инфекциями... Что там?..– Хотел он, или нет, ехать с ней на дачу, все равно было досадно.
–Так вообще – грипп. Но с какими-то афтами.
–Во рту?
–А где еще афты бывают?
–Не знаю: может, ты другое что ими называешь... Инфекциониста вызывай. Я здесь при чем?
–Его чтоб звать, надо самой диагноз знать. А я не знаю...
Сотрудница кафедры, приезжавшая к ним из области для консультаций, начинала обсуждение каждого случая с вопроса:
–А вы что об этом думаете?..– и услыхав мнение докладчика, соглашалась с ним, говоря, что местные врачи лучше других знают свою патологию, или же, когда у того мнений не было, глубокомысленно и торжественно заявляла, что тоже не знает, что у больного, и произносилось это всякий раз так, будто они набрели на новую для человечества заразу и стоят перед мировым открытием.
–Отчего вы постоянного инфекциониста себе не возьмете?– спросила она Ивана Александровича.– Или эпидемиолога – какая вакансия пустует?..– и снова подразнила:– Может, хороший доктор попадется?
Он привычно приревновал ее: это чувство уходит из любви последним если вообще когда-либо проходит.
–Тех, что есть, тебе мало?
–Конечно. Женщине никогда много не бывает: выбор иметь хочется.
–А кого просить? Чтоб знать примерно.
–Неженатого, лет тридцати и лысого.
–Издеваешься все? – потом прибавил серьезнее:– Эпидемиолог, Ирина Сергевна, – это не шутка: не терапевт и даже не рентгенолог. Самая важная после главного врача фигура. Тут нельзя рисковать: не дай бог, дурак окажется. Уже был один.
–Михал Ефимыч?– Она была наслышана о колоритном и компанейском докторе, который не ужился с главным.– А вы умного возьмите.
–Я их с первого взгляда не различаю... С новой хозяйкой все в порядке?
–Все. Молюсь на нее.
–Оно и видно. Веселей стала... Ладно, Ирина Сергевна,– преодолевая внутреннее сопротивление, уступил он ей.– Без эпидемиолога обойтись можно, а инфекционист не помешает... Чего для тебя не сделаешь? Ты ж знаешь: я отказать тебе не в состоянии...
Это была правда, но не вся, а лишь ее половина: потому и не мог отказать, что с ней расстался – оба они именно так друг к другу теперь и относились. Иван Александрович мог бы поэтому забыть о разговоре, но он, надо отдать ему должное, старался держать данное слово. Будучи в области и зайдя в отдел кадров облздрава, он не то чтобы открыто попросил себе инфекциониста, но сказал, что неплохо было бы иметь специалиста такого рода и что ему трудно, в дополнение к прочим своим обузам, брать на себя и эту обязанность, связанную с особой ответственностью, – так что, если подвернется кандидат на эту должность, пусть его препроводят к нему для предварительного ознакомления. Все это было сказано в самых несерьезных, почти шутливых тонах и, казалось, ни к чему его не обязывало: выйдя из облздрава, он был уверен, что его демарш останется без последствий, что его примут за очередную жалобу районного главного. Те, действительно, имели привычку плакаться, как наемные причитальщицы, представлять положение в мрачных красках и рисовать едва ли не конец света, вызывая у чиновниц естественное чувство протеста: едва они выходили из кабинетов, как те, с ядом в лице и в голосе, без всякого уважения к их персонам, сопоставляли их сетования с цветущим видом и хорошо выглаженными костюмами и подсчитывали вслух их негласные, но почему-то им хорошо известные доходы и поступления.
Просьба между тем не осталась не замеченной. То ли она с самого начала была необычна и Иван Александрович, при всем своем административном лоске и обходительности, не смог отделаться от чувства принуждения и словно не сам говорил, а передавал чужое пожелание, то ли вся страна наша, во всех отношениях непредсказуемая, такова, что в ней даже в самом малом деле нельзя совершать оплошностей, допускать невнятицы в речах и оставлять зацепки, способные остановить на себе внимание начальства, где не надо бодрствующего и бдительного. Так или иначе, но когда через неделю в тот же областной отдел кадров явился некий московский студент, оканчивавший институт и приехавший сюда для прохождения последней в его жизни практики, немедля вспомнили про Ивана Александровича. Студента в область никто не звал, как он попал сюда, было неясно, толку от него быть не могло, а надо было еще руководить его учебой – с тем большим удовольствием переправили его Пирогову: чтоб впредь не жаловался. Звали студента Алексеем – или, как он настаивал, Алексеем Григорьевичем, и числился он конечно эпидемиологом, а не инфекционистом. Привезли его в Петровское как по этапу: с вещами, с сомнительными документами – и без предупреждения.
–А зачем?– проворковал в ответ на недоуменный (читай, недовольный) звонок Пирогова ангельский голосок из облздрава.– Он на месяц всего,– и положила трубку: с главными врачами здесь не церемонились.
Одного этого хватило бы, чтобы восстановить против новичка кого угодно, но и он сам никак не способствовал успеху своего дела, а, напротив, только усиливал досаду, родившуюся без его вины и участия: рослый, с румянцем во всю щеку и самонадеянный. Пирогов не любил пышущих здоровьем молодых людей из зависти, а нахальных юнцов – как всякое начальство, лишь за собой оставляющее право задирать нос, повышать голос и вообще – куражиться. Он помянул недобрым словом Ирину Сергеевну и почти отказал москвичу в приеме, сославшись, в качестве уважительной причины, на чрезмерную занятость и головные боли – но не удержался, спросил все-таки, чего ради москвич отправился учиться в такую даль: не было места поближе?
–Хотел дальние края поглядеть,– отвечал тот самым естественным тоном, бесцеремонно оглядывая кабинет и как бы прицениваясь к обстановке: так покупатель торгует дом, не спросясь у хозяина.– Так-то не выберешься. Дорого слишком.
–А здесь государство платит?– завершил его мысль Иван Александрович, и в голосе его прозвучали невольные осудительные нотки.
–Конечно!– и москвич взглянул выразительно: будто слов было недостаточно.– Потом, я тут одну аферу провернуть хочу,– доверительно прибавил он, не желая тратить времени попусту и беря, что называется, быка за рога.– Со справкой...
"Началось!"– подумал Иван Александрович, а вслух сказал:
–В Москве нельзя было ее "провернуть"?
–Сказали: чем дальше от Москвы, тем лучше.
–И напрасно сказали! На самом деле все наоборот: чем от вас дальше, тем все сложнее. Бюрократизма больше... Знаешь что? – походя придумал он.-Иди-ка ты в санотдел и займись там ответами на запросы. Тоже вот – справки!..– и разразился затем многоэтажной тирадой, плохо согласующейся с недостатком времени и головной болью, на которые только что жаловался: его уже томили предчувствия грядущих неприятностей:– Шлет каждый кому не лень! Домой стали звонить: сколько здесь, понимаешь ли, выгребных ям и не садятся ли на них мухи. А мне откуда знать, спрашиваю: у меня дом со всеми удобствами... Таська там!..– продолжал он с возрастающей досадой, будто москвич на время стал его доверенным лицом и наперсником и он изливал ему душу.– Пройдоха та еще. Все знает – не хочет только на запросы отвечать. Пусть, говорит, пишут те, у кого высшее образование – для этого их и учили. А здесь поработаешь сам так думать начнешь. Давай! Санотдел рядом совсем – как выйдешь из корпуса, направо...– и сбежал от него на больничный двор: чтоб глаза не видели...
Молодой человек остался сидеть, выдерживая: не то паузу, не то характер – затем пошел, с высоко поднятой головой, к Таисии. На нем были диковинные, невиданные в этих краях джинсы, в которых он не то терся о забор, не то лежал на солнце – но не на открытом месте, а под деревьями, отчего они выгорели не сплошь, а пятнами, частыми проплешинами.
Таисия ждала его: Иван Александрович успел известить ее звонком о предстоящем визите. Она приготовила на столе веер из почтовых конвертов и расплылась в улыбке при его появлении, но он и ее поставил в тупик, объявив с порога, что он, хоть и эпидемиолог по диплому, но по призванию не кто иной, как хирург – в санитарию попал случайно и ищет теперь возможности расстаться с нею: сунулся с этим к главному, а тот ушел в кусты и сделал ему ручкой. Таисии было все равно, кем он станет в будущем, но за настоящее было обидно, и она разочарованно протянула:
–А я в больнице расхвасталась: с новым доктором работать буду. Все сестры при врачах – одна я сирота казанская!..– Ни с кем она в больнице не говорила: и времени на это не было и не в ее это было правилах, но какая-то истина в ее словах все-таки присутствовала.
–Месяц-то я с вами покукую,– успокоил он ее.– Мне только справка нужна, что я хирургом был, а сидеть где угодно можно. Особенно в таком обществе... Только вряд ли ваш главный даст мне ее. У него, я понял, зимой снега не выпросишь...