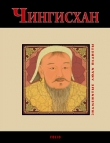Текст книги "Полет на спине дракона"
Автор книги: Олег Широкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 39 страниц)
И навалился на него чёрный плащ тоски, ибо, что бы ни имел в виду мрачный шутник хан – всё было только мираж, мираж. Он не стал переспрашивать, уточнять, знал – тупая, наперекор всему, надежда скрутит его в узел, а потом – раздавит разочарование. И всего этого уже не избежать.
Да, что ни говори, всё-таки диавол – этот «добрый» хан.
От небрежных слов повелителя то, о чём Олег приказал себе не вспоминать никогда, вырвалось, как долго сдерживаемая запрудой вода каракорумского фонтана. И родная Старая Рязань, которой нет уже на свете (ведь город отстроили совсем в другом месте, а на прежнем, говорят, даже тела по сей день не убраны). И его скромные хоромы, и конюх-мордвин с заботливым, истыканным оспой лицом, и... И даже не молодость, а юность, сожжённая песками безбрежного, как вечность, восхода.
А самое главное – ОНА...
Годы развернули коней – стремительно метнулись назад, в прошлое.
Даритай и Боэмунд. Кечи-Сарай. 1256 год
– Видишь ли... всё встаёт на свои места, если допустить, что и сам Бату считал, что он живой мешает тому делу, за которое боролся всю жизнь, – освобождению от опеки Каракорума. Хорошо всё свалить на нетерпимость мусульман Булгара и Сарая, подвластных Бату, но где же она раньше-то была? Пряталась в мелком шипенье?
– Это верно, Бамут, – согласился Даритай. – Я понимаю здешних людей. Тут и без нетерпимости голову сломаешь. Попробуй-ка останься в стороне, когда пару лет назад халиф Багдада объявил против монголов священный джихад. И все знающие понимали – дело не в монголах. Монголы – это ширма. Мог ли халиф и дальше наблюдать, как христиане-несториане всё больше и больше становятся хозяевами востока империи.
– Ты и такое понял... – удивился Боэмунд.
– Сколько ни утверждай, что все веры «одинаково любимы», но Мунке вырос в семье христианки... – продолжил хозяин. – А недавно случилось самое страшное: волхвы Креста уговорили его огласить «жёлтый крестовый поход» на Багдад в ответ на джихад халифа. А куда бы он делся? Тогда от него сюда, в Кечи-Сарай, послание пришло, странное такое послание.
– Наверное, уверял, что не на земли Бату с походом идёт, а только на Багдад. Бедный Мунке, каково ему пришлось, – без иронии вздохнул Боэмунд.
А каково Бату? Дружба дружбой, клятвы верности в те же тороки на запасного коня, но: мусульмане в городах по Итилю требуют у своего хана порвать с Каракорумом, поддержать Багдад против христиан, снова сверкающих саблями.
Бату всю жизнь хотел освободить своих подданных от ярма империи. Вот он, случай! Поддержи ислам, халифа – и освобождай. Чего же ты ждёшь? Но кривая палка прямой тени не даёт.
Прежде в Каракоруме клубились враги: убийца отца великий дед Чингис, наследники дедовой свирепости – Джагатай и Гуюк. Мунке – дело другое. Ведь он великодушен и справедлив, не чета выродку Гуюку. Он лучше халифа, Бату всем сердцем на его стороне. И потом – белоголовые первыми объявили джихад.
Но что же делать с его урусутскими друзьями, с джурдженями, с выходцами из Вечерних стран? С теми монголами, которые остались верны вере отцов, верны Тенгри и Этуген?
Пожертвовать ими всеми ради халифа? Братец Берке, похоже, готов на такое.
Как бы хан ни поступил – это стало бы обманом доверившегося, – обманом той главной веры, которой Бату следовал всю жизнь.
– Брат мой, как же случилось, что жизнью своей ты укреплял ненавистное, и только смертью можно достичь желаемого, – говорил ему запутавшийся Берке. Он тоже не мог бороться с друзьями своего брата, пока тот был жив, – этим бы он его предал.
А улемы нагнетали: пора сделать выбор – Аллах или узы родства.
– А отрава во время пира?
– Баурчи под строгим наблюдением, все яства вкушают сами, прежде чем подать, – пояснил Даритай очевидное.
– Но, может, всё-таки?
– Нет, не может...
– Никто не смог бы прорвать сеть моей охраны, – задумался Даритай, – даже если бы подкупили одного, этот один под наблюдением остальных. Ты же знаешь мою охрану?
Впрочем, всех тургаудов той смены уже пристрастно допросили... так, как умеют допрашивать монголы.
– Остаётся только колдовство, – перебрав, что можно, развёл руками Боэмунд и вдруг, насупившись, медленно проговорил: – Да, именно колдовство.
Друзья переглянулись. Оба знали, что именно они подразумевают под этим словом. После долгого суеверного молчания Даритай вкрадчиво прошелестел:
– Я знал только одного человека, способного на такое. Но его уже нет в живых.
Оба, конечно, поняли, о ком речь.
– Но, – встрепенулся Боэмунд, – по здравом размышлении, разве он такой один на свете? Впрочем, – вздохнул он мгновением позже, – и Маркуз бы не справился тут.
– Можно заколдовать одного, но... столько человек охраны?
«Одного, одного», – крутилось в голове Боэмунда, и вдруг – как прожгло.
Он пристально взглянул на соратника, потом медленно, вкрадчиво, с бьющимся сердцем произнёс:
– Всё, что я скажу, конечно, глупости. Но поведай, друг мой, тем утром у тебя были причины для ненависти к Бату?
Даритай уставился на Боэмунда сначала недоумённо, потом его голос задрожал от обиды, удивления, растерянности. Таким его не видел никто...
– Значит, ты думаешь, что... что я бы... – сбивчиво забормотал он. – Но как ты... – Он стал багроветь. – Даже Берке, даже он не взял меня на подозрение... Может, позовёшь палачей с железом? Давай, давай... – Губы Даритая стали жёсткими.
Боэмунд мягко положил руку на плечо:
– Успокойся. Тут дело даже не в том, что я тебе верю, как себе, тут в другом дело. Ваши разговоры с ханом не слышны, но они – видны. Как бы ты мог, убив хана, выйти незамеченным своими же людьми? Но, но всё-таки припомни, не пробежала ли между вами тень... накануне?
Стало слышно, как в цветное стекло бьётся мотылёк.
– Нет, Боэмунд, не тень, чёрная туча, – неохотно признался Даритай после тяжёлого молчания. – Но об этом не расскажешь в трёх словах.
– Так расскажи в ста словах, – мягко нажал Боэмунд.
– Придётся начать очень издалека, – смутился начальник охраны и лучшей в войске сотни, – но... зачем тебе? Ладно, хватит изображать удивление. Её ненаглядный князь Олег не погиб тогда, а прозябал в заложниках у Гуюка. Вот ты слушал мою боль, а ни одной ресницей не пошевелил, змей. А ведь знал, что Олег – жив.
– Что жив – знал, ну и что? Мне важен сейчас твой душевный порыв, не прерванный ничем. Продолжай.
– Так вот Евдокия теперь с ним, в Новой Рязани. А он – рязанский князь, ибо получил от Бату грамоту на княжение вместо Ингваря. Неужто и это не знал?
– Знал... про князя, но не про Евдокию твою. Погоди-погоди, дай теперь угадать. Стало быть, Мунке-хан после гибели Гуюка отпустил его заложников, в том числе – Олега. Он явился к Бату... и тот пожаловал ему рязанское княжение. А чтобы обеспечить полное верноподданство, хан подарил ему счастье... Да, это очень в духе нашего повелителя. Вернул жену, которую тот считал погибшей. Долго ли? Просто приказав тебе отдать невольницу, слишком для тебя роскошную. Получается, ты был сундуком, в котором спрятали жемчужину... – Во взгляде Боэмунда промелькнула не обидная жалость, он вздохнул: – И про благоговение твоё перед ней Бату тоже наверняка знал. Вот и не забирал её у тебя. До поры до времени.
Даритай затрясся мелкой дрожью.
– Да, Бамут. Ты всё рассказал так ясно, как и я этого не видел. Пришли нухуры в сопровождении коназа Олега и передали мне приказ: её... вывести. – Даритай чуть ли не всхлипнул. – Понимаешь, тут ещё так совпало, что стала она за последний месяц оттаивать, замечать меня стала как-то по-особенному. И ещё... появилась эта самая улыбка вполгубы. Голова после той улыбки совсем у меня загудела. А надежда как дрофа, бредущая в силки – только бы не спугнуть, и вдруг... Видел бы ты их встречу.
– Лишилась чувств твоя звезда...
– Если бы. Увидела его... и спокойно так говорит: «Ну вот, наконец-то, а я уж заждалась». А я смотрю, она на ступеньке на одной ноге стоит, а вторая как была на весу (чтобы ниже спуститься), так и замерла.
– А он?
– Ну, просветлел весь. Стоит, молчит. Тут его сопровождающий нухур тронул за плечо: проснись, мол. И мне с нажимом говорит: «Даритай, тебе повеление хана Бату. Невольницу эту отдать князю немедленно. Завтра получишь из казны за неё, как за урусутскую княжну».
– И...
– И тут она подошла к Олегу, тихо, медленно. Они взялись за руки... как слепые, как дети. И пошли от дверей моего дома,– мрачно закончил Даритай. – А я стоял как побитый пёс... Она не оглянулась даже... в мою сторону не взглянула. Будто я и всё, что со мною было, – просто чёрный морок.
– Счастье – вещь слепая, несострадательная. Чужие судьбы калечит не хуже войны.
– Да, Боэмунд. Я тоже о чём-то таком подумал. И впервые рассердился на повелителя. Столько я для него сделал, а он так со мною поступил.
Боэмунд напрягся, спина натянулась струной:
– Встречался ли ты после этого с ним?
– Да, он вызвал меня этим же вечером, и мы долго говорили о случившемся. Надо же, кто я и кто он?
– Помнишь ли ты этот разговор? – резко нажал Боэмунд. – Не бойся. Я знаю, что ты не убивал хана.
– Да, я всё прекрасно помню... почти. Кажется, он оправдывался. Но легче мне не стало. Представь себе мышь, перед которой оправдывается тигр.
– Пили архи... – всё более заинтересованно налегал Боэмунд.
– Не так, чтобы опьянеть, но... да. Великая милость пить с ханом...
– Многого ли ты не помнишь с того вечера?
– Не очень. Н... но... Мы встречались и потом.
– А теперь, Даритай... о другом. Приходил ли кто-то неизвестный к тебе ещё? В тот последний день.
– Нет.
– Вот так дела. А ну-ка вызови тех, кто стоял тогда на охране твоих ворот.
Вызвали стражу. Нет, ничего такого, вот разве длинный вонючий старик-пилигрим. Вещал и причитал, жаждал видеть хозяина, кричал что-то невразумительное.
– И что, вы решили не беспокоить меня по пустякам? Мало ли бесноватых, – сердито спросил Даритай опешившего нухура.
– Ты забыл, господин. Шума было слишком много, и ты вышел из дома... Вы отошли в сторонку и о чём-то говорили. Недолго... Потом ты рассердился и прогнал его прочь.
Даритай вдруг похолодел и переглянулся с Боэмундом... В глазах прыгал испуг. Он ухватил Боэмунда за руку и прошептал:
– Я этого не помню... НЕ ПОМНЮ.
Боэмунд стремительно бросился к нухуру в надежде, которая не должна была сбыться:
– Этот, старик... Его можно найти?
И гром грянул...
– Нет ничего проще. Я тогда, на всякий случай, послал проследить. Он и сейчас там, среди паломников, за рынком, в землянке для рабов... с какой-то женщиной... Схватить? Привести сюда?
– Нет, ничего такого. Покажи мне его... Покажи мне эту хижину. И... и всё... дальше я сам. А вы... издалека. Скорее всего – это мираж, моя глупость. Моя досада, что не могу взять след.
Дождавшись, пока женщина с кувшином скроется внутри хижины, он последовал за ней. Откинув верблюжье покрывало, прикрывающее саманный вход, осторожно вошёл.
Она сидела на земляном полу. Лицо – наглухо закутанное арабской куфией, только глаза. Что-то знакомое в глазах. Но нет, этого не может быть.
Боэмунд выпрямился, как барс перед прыжком... И вдруг голос, который он ни с чем бы не спутал, едва не сбил его с ног:
– Здравствуй, Бамут... Я ждала, что ты придёшь... Ждала и не ждала. Да, ты всё правильно понял, про Бату. Но лучше уйди сейчас.
– Почему, Прокуда, почему?
– Что у тебя осталось в жизни? Только воспоминания... Если ты откинешь полог за моей спиной – лишишься воспоминаний. Стоит ли истина того, чтобы лишиться воспоминаний?
Не узнавая своего голоса, он прошелестел:
– Прокуда, ты ли это? Раньше ты не умела говорить ТАК.
Родной звонкий голос. А интонация – чужая, жёсткая, как сушёная кожа.
– А теперь – научилась...
Белый смерч перевернул его и властно закружил, вытер им, как тряпкой, белопыльные улицы Кечи-Сарая. Маленьким, словно песчинка, понёсся Боэмунд за красные горы, за жёлтые песчаные реки, путешествующие как люди, за колючие леса. «Я ещё стою, но где я, где?»
– Ты в прошлом, – усмехнулись сквозь куфию, – сладко ли?
Ватными ногами он шагнул, отдёрнул вторую завесу... Постаревший, всё с теми же мятущимися волосами и бородой, перед ним стоял Маркуз.
– Ты удивлён, забыл ли главное? Я не умею ничего, только одно мне даром дано: усилить ту страсть, которая есть и без того.
Боэмунд был не в силах произнести ничего внятного, слишком потрясён.
– Давным-давно, в горах иртышских говорили мы с Бату о смерти. Я сказал: «Слово владеет всем, душа лучше знает час ухода, чем разум. Хочешь ли, чтобы я подчинил твою душу колдовскому слову?
Кто произнесёт его в должный час, отодвинет твой суетный разум в сторону будто глупого тургауда, не пускающего в юрту важного гонца? Кто произнесёт его – откроет тайники судьбы твоей. Мягкое, как шёлк, мудрое беспамятство окутает тебя, и ты выпьешь тот яд, что будет с тобой всегда, яд блаженной смерти. Я дам тебе такой.
Не пугайся. Это слово не предаст, как перекупленный слуга. Ибо только в одном случае действенно будет: если все нити отрезаны. Останутся ли стремления, друзья, любимые – ничего не получится. Тварный мир не отпустит в небытие, и заклятье скользнёт по душе, как капля воды – безвредно.
Но зато... блажен, кому вовремя уйти удалось. Не заберёт он с собой в Верхний Мир тоску. Очищенный, быстрее возродится дух его для новой жизни. Не станет он неприкаянным духом скитаться по ночам».
Боэмунд, убаюканный проникновенным голосом Маркуза, умиротворённо кивнул:
– Заманчиво умереть так, и не каждому это удаётся. Все мы уходим в небытие либо раньше должного срока, либо позже. Но скажи, Маркуз, трудно ли насадить душу на колдовское слово?
– Трудно. Тогда, в горах, мы с Бату целый день не выходили из шалаша. Тут нужен мой колдовской дар, его доверие, а ещё – узы отеческой любви. Потом нужно сделать так, чтобы человек обо всём забыл – иначе тоже не будет толку. Но ещё труднее другое: тот, кто скажет это слово потом, должен в этот миг сам желать смерти того, кому он его говорит. Либо из сострадания, либо из неприязни. Иначе – ничего не выйдет. И ещё – нужно доверие к тому, кто это слово произнесёт.
– Но ты не мог не замыслить слово заговорённое достойному передать.
– Это верно, Бамут. Тогда, в иртышских горах, Бату был молод, я почти стар, но не дряхл. Потом, когда ты и Прокуда появились в Каракоруме, подумывал отдать это слово тебе.
– Отчего не отдал?
– Всё изменилось. Жертва, на которую ты шёл ради погибели Гуюка, не делала твою душу способной взять на себя ещё и эту ношу.
– Но видишь, я вернулся. А как же вам удалось спастись тогда?
– Люди Мунке подоспели вовремя... Почти вовремя.
– Отчего «почти»? – встрепенулся Боэмунд.
– Это ты узнаешь после, от Прокуды.
– Хорошо. Но как же Бату?
– А что ты понял сам? Ведь всё-таки нашёл нас? – Маркуз говорил просто и чётко. Без придыхания, без надрыва, даже немного с лукавинкой, не по-чародейски. Сколько знал его Боэмунд, эта манера Маркуза никогда не менялась. Но за напускным легкомыслием скрывались истинные переживания и радости, не заметные окружающим, даже друзьям.
– Сейчас уже многое, учитель... – вздохнул Боэмунд. – Ты решил, что Бату пора сказать заветное слово, проверить, не пришло ли время его. Для этого нужен человек, которому Бату доверяет. И ещё такой, который испытывает к Бату смертную обиду. Кто же это может быть? Только Даритай. Бату отдал его любимую наложницу рязанскому князю. Отдал по справедливости, может быть, но Даритаю от того не легче. «Можно только усилить ту страсть, которая уже есть». – Ты усилил обиду Даритая. Заколдованный тобой, он пришёл на встречу с повелителем и сказал ему то самое слово. И после – ничего об том не помнил, как и быть надлежит.
– Что ж, не зря тебя учил, говори ещё...
Боэмунд нахмурился, продолжил:
– После ухода Даритая повелитель выпил яд, который всегда носил с собой. Получается, что убил его ты. Чужими руками, но всё-таки...
Слишком резко, слишком властно отчеканил Мир куз ответ, чтобы не разглядеть осадок сомнения в его словах.
– Нет. У Бату, кроме меня, много убийц.
– Даже я, – охотно согласился бывший соглядатай, – потому как, если бы я не покинул повелителя, он не выпил бы яд. Привязанность ко мне могла удержать неотвратимую руку.
– А ещё – болезнь. Кричащие ноги не давали покоя.
– Иначе уцепилась бы воля к жизни за стремя.
– Но самая сердцевина не в том, – с несколько растерянной назидательностью нажал чародей, – Бату хотел примирить непримиримое: людей разных богов. Но ревнивы боги, как ни поступи, всё равно напорешься на предательство, будто на ветку в тесном стланике. Он жил и умер как хан, настоящий хан, неспособный дышать без такой ноши. Потому выпил яд.
После сказанного долго молчали.
– Если бы хоть что-то оставалось, хоть маленькая привязанность, он был бы жив сейчас. А там – тучи разбегаются от свежего тепла.
– Мрачна погода над землёю, не осилить пустыню одиночества без верблюда надежды. С душой, омрачённой предательством, испятнанный струпьями тоски, оказался бы он там, где и ныне пребывает. Лучше ли?
Снова налегла чугунная тишина. Потом Боэмунд произнёс, как сундук закрыл:
– Одному Всевышнему известно, Маркуз, – убийца ты или спаситель.
– Я был для Бату – вторым отцом. И держать буду ответ перед Богом, какой он там ни на есть. Но, – просветлел он вдруг, – остаётся ещё одна возможность. Бату выпил яд – не из-за заклятия — а своею волею.
– Да, мы никогда не узнаем.
Боэмунд и Прокуда. Кечи-Сарай. 1256 год
– Увидела и растаяла вновь, зачем нашёл?
– Обманул. Бросил тебя в ваалову пасть, нет мне прощенья.
– Не так всё. Знала, что на погибель иду, всё одно было.
– Отчего так?
– Ты смотрел на меня, будто на сестру... а то – на лик Богородицын. А я жалела тебя... всего: грешным делом, грешным телом. Как мы ехали тогда по лесу после Пронска... с тех пор. Ещё туры выскочили, все в снегу. Помнишь ли? Я призналась тебе легонько, отмахнулся.
– Нет же, нет, – задрожал Боэмунд, – это ты ко мне так. А я – скопец, урод.
– Да разве ж в том дело, глупый? И поздно – красоты моей уж нет.
Они сидели у саманной землянки. Жаркий воздух обволакивал их неуютным теплом. Почувствовав чуть ли не кожей, с каким горестным усилием скинула она куфию (чтобы спустя мгновение закрыть), он не испытал ни ужаса, ни отвращения.
Вся нижняя половина её лица была изрезана и обожжена – хорошо постарались кешиктены-дознаватели. Раны стали рубцами, и только глаза и нетронутый лоб, на который падали поседевшие космы, были прежними.
Но вдруг глаза, лоб, эти нетронутые локти с гладкой кожей... дай не в них даже дело. Может, голос... Да и голос ли? Словно отвалился камень той сырой пещеры, где он бродил с тех пор, как они расстались.
Солнце – беспощадный глаз монгольского Мизира – ворвалось в проем нагло, весело. Боэмунд неожиданно улыбнулся, как не улыбался с тех пор, когда покинул сожжённый папистами родной город Безье, счастливо и беззаботно. Он сжал её руки (палец один неправильно сросся) и откинул куфию. Она вскрикнула невольно.
– Нет, теперь мы вместе... Мука твоя позволила мне подняться смело в твой роскошный терем.
– Нет, тебе ко мне спуститься, – задохнулась она от пробившей запруду радости и снова вдруг смутилась: – Вот только не одна я... с сыном...
– Сыном? – отшатнулся Боэмунд. – От кого?
– Знали бы от кого – не было бы мне покоя, удавили. Монгольская кровь в нём, царская. Как Мунке-хан власть захватил, всю родню Гуюкову до младенцев истребили – у них теперь так. Всю... да не всю.
– У тебя сын?! От Гуюка?! Великий тайджи?
Прокуда улыбнулась покореженным ртом, но Боэмунд ясно вспомнил ту, прежнюю улыбку.
– Так ведь ночь-то была у нас с этим иродом твоими трудами. Но никто про ребёнка не знает. А про себя решила: не он отец – ты. Бамутом назвала. Думала, уж не увижу тебя боле, прости.
Мальчик посапывал на мерлушковой подстилке, а Боэмунд непослушными губами пробовал на вкус новое, запретное, наглухо запретное для него, скопца, слово – «сын». Он повторял его на всех языках, какие знал, хоть и не ведал уже – через столько лет, – какой из них родной.
Рядом, прижавшись – как не было у них в той жизни, – стояла сияющая Прокуда.
Вот ведь как судьба закрутила. Жертва та, главная, последняя (на которую ради Бату пошёл, ради которой от Бату ушёл), причудливой змеёй извернувшись, его укусила ядовитыми зубами счастья, простого, мирского.
Он вышел из землянки под прозрачный безбрежный купол. Залихватски запрокинул бледное лицо. Там, в Небесах, – или показалось ему – одобряюще улыбался его друг и повелитель, ушедший из жизни ВОВРЕМЯ.
И, может быть, сбросивший с себя все заботы.