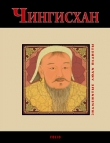Текст книги "Полет на спине дракона"
Автор книги: Олег Широкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 39 страниц)
И вот теперь Боэмунд и сам имеет раба – это было совсем новое ощущение. Как себя вести с рабами? Большой вопрос. Вот разговаривают два свободных человека, а рядом бегает собачка. Собачку можно приласкать, дать ей косточку, и это будет жест доброты – она для такой роли и рождена. Не то с человеком...
Хочется с ним поговорить, узнать, откуда он родом... Но нет, Боэмунд не будет жесток, не будет вынимать из этого мальчика его самого, старательно запрятанного.
Всё же, когда раб снимал с него гутулы, не выдержал – дёрнулся помочь. Мальчик поднял на него глаза... В них плясало... плохо замаскированное презрение.
Злые чудеса продолжались.
– Ты стал совсем важным нойоном, Бамут, – окликнул смеющийся голос, ставший узнаваемым за долгое путешествие от стен Бухары до Прииртышья. Бату решительно шагнул из темноты. Без приглашения – как у себя – преодолел короткое расстояние до хаймора – почётной части юрты у стены, противоположной порогу.
– Брысь, – махнул он мальчику-рабу. Потом, церемонно уселся, скрестив ноги. Но тут же, забыв о достоинстве царевича, растянулся плашмя, на покрытом шёлком ширдэге.
– Ты слишком усердно изображаешь бодрость, тайджи, чтобы я в неё поверил. Налить тебе кумыса? – озабоченно поинтересовался Боэмунд.
– По случаю того, что говорить мне откровенно больше не с кем, жалую тебе высокое право звать меня просто по имени... – Бату устало зевнул. – Не надо мне кумыса, Бамут. Я сегодня только и делаю, что пью. Не за тем пришёл. Пришёл поболтать, не думая о правильности слов.
– А я-то думал, что у вас, монголов, говорят открыто.
– Может, и открыто... да уж. Лучше вязь сартаульскую плести, чем изображать эту самую открытость...
– Видать, дела невесёлые.
Бату сжал своей округлой ладонью искрящийся новизной пояс:
– «Невесёлые», хорошо бы так. Ты не смотри, что эта юрта будто бы стоит, не шевелясь. На самом деле мы все летим...
– Куда?
– А куда летят, не имея крыльев. Ты пощупай у себя... может, они есть. Уже отрезали? Какая жалость! Прости меня, друг, я не то имел в виду. Всё мой проклятый язык, вот и не думай тут о правильности слов. Прилетев, мы уже не узнаем – куда летели. Отец поднимает мятеж против Темуджина. Нравится? А не поднимет – нас поднимут на копья его враги, будем вместе с тобой в чужих нутугах над аргалом сгибаться. Это в лучшем случае, а в худшем – просто задавят, как волчат в разорённом логове. Я всё пытаюсь говорить с Мутуганом...
– Не часто ли ты беседуешь с Мутуганом?
– Мне больше не с кем – у меня не осталось друзей. Как ты думаешь, Бамут, где он сейчас?
– Если спросить у альбигойцев, которые воспитывали меня в юности, они бы сказали, что он кричит в чьей-то люльке невинным младенцем. В Библии сказано: «Устами младенца глаголет истина». Если это так, есть смысл спросить у него совета. – Увидев, что Бату угрожающе насупился, Боэмунд пояснил: – Прости, я не оскорбляю его память. Всё мой проклятый язык, вот и не думай о правильности слов, – улыбнулся оправдываясь, продолжил: – Крестоносцы скажут, что он лежит в гробу и ждёт трубы Архангела, одновременно с этим не лежит, а жарится на сковородке...
– За что на сковородке? Как это «одновременно»?
– Точнее не объяснишь, это теософия. Наш Бог– Любовь, разве не знаешь, язычник? Он очень добр: все, кто не верил в Христа – варятся в котлах, все, кто верил в Христа неправильно – варятся в котлах. А из остальных – «лишь немногие спасутся». Прочие – варятся в котлах. Вечно, безвозвратно.
– Нет, оставьте это себе. Душа Мутугана будет реять над знамёнами моих непобедимых туменов. У нас такие души называются – Сульдэ.
– А я то думал, Сульдэ – это ваш бог войны.
– Что ж, я горд за свой народ: мы так успешно громим врагов, что души наших умерших героев соседи считают богами войны, – самодовольно сощурился царевич. – Но ты же умён, Бамут, и должен понимать, что не бывает никакого отдельного бога войны. Война – это беда, страдание. Взывать к её Духу – если бы он даже и был – это всё равно что молиться злым красным мангусам. И вообще, ты говоришь как джурдженьский шаман. Посмотри на мир вокруг, – Бату, приподнявшись с примятого ширдэга, сделал быстрое круговое движение, как саблей махнул, – он прекрасен и явно создан одним Творцом... Такого Творца мы зовём Хормуста. Он двуедин – Небо и Земля... А можно сказать и триедин. Есть ещё одно его воплощение – Мизир. Солнце – глаз Мизира. Мир прекрасен, если люди его не портят.
– У нас в Европе не так, – вздохнул Боэмунд, – мир ужасен, греховен и, между прочим, проклят Богом, и лишь немногих, самых «не от мира сего» пришёл спасти Христос. Он принёс себя в жертву за людей. Прекрасны только помыслы людские, если они о Боге и Праведности. Наши священники все ждут конца греховного мира... да никак не дождутся. Но Господь и у нас триедин.
– Я знаю, несториане говорят: «Уч-Ы-дак» – Троян.
– Троица, – поправил Боэмунд.
На тюркском языке, понятном им обоим, объяснять это всё было трудновато. Сюда бы священника-несторианина, он бы быстро сообразил, перевёл и на монгольский. Но Боэмунд со здешними еретиками почти не общался, зато Бату общался много.
– У нас тут есть свои волхвы Креста. Они говорят: Мессия отдал себя в жертву за грехи людей. Так говорит моя мачеха Никтимиш, например. Я у неё всё спрашивал: в жертву – кому? Мы закалываем в честь Хормусты лошадей и быков – это я понимаю. Но чтобы Бог требовал себе в жертву собственного сына? Зачем такая свирепость? Наш Тенгри добрее.
– И поэтому вы спускаете в могилу умершего хана его удавленных наложниц и слуг. Хороша же доброта.
– Нет... вовсе нет. Эти жертвы не Богу, это для самого хана, чтобы в Мире Духов было кому ухаживать за ним, чтобы он не был одинок. А Хормуста тут ни при чём. Впрочем, я считаю, что это неправильно. Это сами люди делают из сострадания к умершему. От жалости и непонимания. Но сострадание – не всегда правильно. Где-то же нужна и жёсткость, разве нет? Я думаю, достаточно бросить в могилу войлочные онгоны... может быть... и тогда некоторые духи из тех, кто неприкаян, будут умершему помогать. А живые – нужны среди живых. – Бату надолго замолчал, уставившись на чёрный треугольник над порогом, соединявший их с ночью, – тоска по Мутугану зазубренной ядовитой стрелой снова впилась в его истерзанное горло, – потом встряхнулся. Его осенила новая идея: – Слушай, Бамут, как всё просто. Я сделаю онгон Мутугана. Очень красивый, ему понравится... И повешу... буду ему губы мазать как близкому родичу. А ещё я сделаю его туг... и мы снова будем вместе.
По румяным щекам царевича поползла капля.
Выспаться после беседы не пришлось. В этот день ленивую зарю разбудили боевые барабаны. Боэмунд и Бату – который так и уснул будучи в гостях, – протирая глаза, выкатились навстречу ещё блёклому рассвету. Толпы заспанных людей бежали к сцепленным повозкам, окружавшим курень не таким уж и плотным кольцом – появления врага здесь, в ставке-орду, никто не ожидал. Молодёжь, выросшая в наступательных войнах и прекрасно обученная к маневренным схваткам в открытой степи, несколько подрастерялась.
Времена, когда приходилось отбиваться от набегов вот так, прячась за кибитками, поросли полынью недавних преданий. Эти люди видели много войн в чужих краях, они знали, что делать под зубастыми стенами, швыряющими сгустки смолы, как поступать в открытом поле, в неумолимой теснине горных проходов, а вот о такой обороне знали... да не на собственной шкуре. Поэтому без лёгкой паники не обошлось.
Общая привычка к жёсткой дисциплине не позволила довести положение до угрожающего. Кыпчаки застряли у заграждения и потеряли ретивость. Они явно рассчитывали на что-то другое – может, ожидали, что в курене окажется меньше защитников. Так или иначе, а на сигнальных вышках уже пылали огни, а значит, скоро подоспеет подкрепление от соседей.
Вражеские всадники неуверенно заметались, их выстрелы лишились опасной прицельности. Уж чего-чего, а этот миг неприятельской нерешительности для каждого участника джурдженьских и сартаульских походов, – а тем более для тех, кто ещё застал предшествующую им Великую степную распрю – отдавался нетерпеливым зудением в ладонях, хватающих рукоятки оголодавших сабель.
Вылазка в этих условиях – вот-вот подоспеют соседи – была скорее молодецкой разминкой, чем необходимостью... И всё же, как и в положениях опаснейших, всадники образовали строй с такой запредельной для Боэмунда ловкостью, как будто в центре построения вдруг закрутилась втягивающая людей в пучину воронка. Они слились в единый, тесный, очень правильный по очертаниям прямоугольник, слегка заострённый впереди. Ещё когда был с Мутуганом, Боэмунд видел это монгольское чудо, но восхищался каждый раз будто впервые. Это совсем не вязалось с представлением о наступлении дикарей, как о некоем хаосе, больше того – Боэмунд и на рыцарей насмотрелся – те так не умели.
«Их не убивали за разгильдяйство», – попытался он оправдать соотечественников, зная что у монголов за потерю места в строю в условиях боя полагается смертная казнь. Однако восхищение, как и раньше в подобных случаях, возобладало над мелкой досадой. Кроме того, общую гармонию очень подчёркивал вороной цвет лошадей, у всех одинаковый, а Боэмунд любил гармонию.
– Почему только вороные? – отдышавшись, спросил он Бату.
Тот гарцевал рядом, сдерживая солового иноходца, рвущегося за чёрными собратьями.
– Так легче управлять с холма, всё видно.
– Вот как. У нас для такого и лошадей хороших не напасёшься. – «Попробуй, заставь рыцарей походить друг на друга», – подумал он об истинной причине.
– А как же отличают в бою своих от чужих у вас?
– Ну... знамёна, накидки на доспехи.
– Знамёна могут упасть, накидки – порваться. Лошади всегда лошади. – Иноходец Бату, похоже, успокоился.
Теперь большинство из участников действа, казалось, не обращало внимания на всё, кроме узкой задачи, поставленной непосредственно ему самому. Они будто бы не видели больше друг друга и на врага внимание не обращали – словно кто-то вынул из людей их мятущуюся душу. Это тоже было странно... Во время сражений на Святой Земле в таких случаях в воздухе стояло воодушевление победы, вот его-то как раз Боэмунд весьма ценил.
А здесь, в осаждённом курене, наверное, стало бы даже тихо, если бы кыпчаки за ограждением не выкрикивали свои боевые ураны, больше подбадривая себя, чем соседа.
– Урагша, вперёд. – Это был не выкрик, скорее какой-то знак. Только теперь, когда литой строй «чёрных всадников», медленно набирая разгон, тронулся с места – будто единое тело, – специально приставленные боголы растащили телеги, давая ему проход.
Не раньше, не позже. Ощетиненный длинными кольями курень будто выплюнул вдруг из себя отряд, как верблюд слюну. И она тут же стала разбрызгиваться веером, * охватывая нападавших. Из соседних куреней, обходя врага с боков и сзади, спешила такая же, расходящаяся веером подмога.
– Почему они не кричат? – спросил Боэмунд, вспомнив, что рыцари, да и сарацины в таких случаях всегда вопили.
– Зачем? Они же не мчатся на смерть! Просто облава, охота.
Царевич и приближенный подскакали к заграждениям. Было видно, что кыпчаков не секли мечами, а ловили арканами. Похоже, Джучи приказал. Разгром был полный.
Среди монголов оказалось трое убитых и полтора десятка поцарапанных стрелами. Неприятельские тела привычно складывали рядком, ловко стаскивая гутулы и отстёгивая сабли и саадаки. Раненых несмертельно деловито – за руки, за ноги – несли к предварительно расстеленным войлокам. Кто побогаче одет – удостоился носилок. Это действо несколько удивляло и несомых, и обитателей куреня. По обычаю, раненых врагов было положено добивать, но уж никак не лечить.
«Отец что-то задумал», – удивлялся Бату. Он, хоть и не был раньше в настоящих боях, о такой милости, выходящий за пределы здравого смысла, никогда не слышал.
Вокруг поверженных кыпчаков, недовольно морщась, вышагивали табибы из сартаулов, волхвы и шаманы, явно не проявляя желания улучшить судьбу страдающих.
Подъехал Джучи. На нём не было ни панциря, ни шлема. Или успел снять? Он прикрикнул на лекарей, чтобы те пошевеливались.
– Зачем нам лечить этих разбойников? – возмутился обвязанный чалмой белобородый магометанин. – Мои руки не могут копаться в червивой плоти неверных.
– Я тоже неверный, – нахмурился хан, – выдумывая причину отказа, следи за языком. Твоё везение велико, табиб, но равен ли ему твой лекарский дар? Делай, как я сказал...
Бату, наблюдавший за этой сценой, удивился металлу, который вдруг зазвенел в голосе отца при этой последней фразе. «Не так уж он, слава Небу, и мягкосердечен».
Джучи сказал это громко, как перед строем, чтобы все слышали. Остальные засуетились быстрее.
Сгрудившись отдельной группой, пряча ненавидящие глаза и поддерживая своих раненых, насупились меркиты. Вечные, как комары, меркиты.
– Этих изрубить, – махнул рукой Джучи.
Подбежавшие кешиктены уже было вытащили свои привычные кривые жала, но хан всё же успел остановить их на полпути.
– Стойте, скажу ещё одно. Всех вас, стоящих предо мной, я знаю в лицо. Меркиты, вы уходите в мир бесплотных духов, и вам надлежит знать, почему я так поступаю. У меня нет ненависти к вашему роду. И во мне, и в детях моих течёт меркитская кровь.
Бату съёжился: «Так вот до чего дошло? Эцегэ теперь и перед войском такого не скрывает. Ого!»
– За другое казню вас: за нежелание понять, что законы кровной вражды – путь в никуда. Вы почитаете за священный долг бесконечную войну с теми, кто не мог поступить иначе. С теми, кто поднимал свою саблю, загнанный в угол обычаями, придуманными не ими. Вы цените долг больше разума, служите закону, а не людям. Казню вас за неумение прощать, за то, что вы на моём месте поступили бы также.
Над толпой пленных героев нависла последняя в их жизни земная тишина. Они молча ждали продолжения.
– Отправьте их к предкам, – вторично махнул рукой хан.
Непримиримые враги молча, без стона, встретили то, к чему упорно шли. Их тела оттащили к остальным погибшим сегодня.
– Эцегэ, их можно было сделать боголами. – Бату грызла непонятная тревога.
– Не нужно нам боголов, готовых ударить в спину. Когда-то Тайр-Усун привёл к Темуджину свою дочь Хулан и своих воинов в придачу. Каган сохранил им жизнь, своих сотников над ними поставил. А они, неблагодарные, восстали. Тогда были жертвы с нашей стороны. – Джучи немного споткнулся, примеры, связанные с благородством его отца, были не очень уместны. Неуклюже вывернулся: – У Темуджина много народа... он мог рисковать так – мы не можем. А меркитов не исправишь. Знаешь почему? Потому что мир с убийцами их друзей, отцов и братьев они считают низостью и предательством.
– Красивые чувства, чувства багатура, – бросил царевич задумчиво.
– Такая красота творит гордую пустыню.
– Следуя этому пути, Темуджин должен был убить и нас.
– Он и так это делает, только медленно, – криво улыбнулся Джучи. Он вдруг подумал, что Темуджин в похожем случае поступил бы также. Джучи не засомневался в собственной правоте, просто не хотелось походить на отца. Ведь он решил для себя раз и навсегда – всё их спасение в том, чтобы поступать не так, как кровожадный Темуджин, и привязывать людей не страхом, а милостью. Однако мысль опять нашла удобную лазейку: «Отец их сам таких, которых только удавить, своей жестокостью создал». Но тут из чёрной дыры выползла мокрая жаба и зашептала: «Ты убиваешь сейчас не их – ты убиваешь меркита в себе...»
Стряхнув с себя ненужные сомнения – самое неприятное, самое тяжёлое было сделано, – Джучи дёрнул поводья и подъехал к кыпчакам.
Их молодой предводитель, поджарый, как гепард, стоял, расставив ноги несколько шире плеч, нарочито устойчиво. Смесь гордости и боязни, что ноги вдруг от волнения откажут. Наверное, он мечтал умереть, совершив достойный подвиг. На его глазах посекли меркитов – мог ли он ожидать для себя чего-то иного?
«Пленные всегда одинаковы... В первый день горды друг перед другом – это ещё горячка боя не прошла. На следующий – наденут на себя овечью шкуру. Что есть воин – овца в волчьей шкуре – посочувствовал ему Боэмунд, он вспомнил, как сам вот также стоял когда-то перед сарацинами. – Одна ночь отчаяния, одна ночь, и с тебя сползает шкура хищника».
– Ну что, Делай, не думал, что так всё кончится? – весело окликнул Джучи. Его приветливость несколько не вязалось с расправой над меркитами. Он пожалел, что начал добрые дела именно с неё – теперь говорить с Делаем будет намного сложнее.
Очень хотелось покончить с самым неприятным, а уж потом... Не стерпел, вырвал, называется, больной зуб раньше времени. Как тут быть, с чего начать? И где же, в конце концов, Маркуз, который придумал всю эту сомнительную хитрость?
– Я верю твоему слову, Делай, верю разуму. Твоих нукеров развяжут и накормят. Раненые получат помощь, ими уже и сейчас занимаются. Скажи, что бы сделали вы, попадись я в ваши лапы. – Последний вопрос Джучи задал неспроста, пусть Делай хоть на мгновение выйдет из своей роли жертвы.
– Мы продали бы вас... в рабство... булгарам, – неохотно, сквозь ровные белые зубы, процедил юноша.
– Правильно, но я знаю, что вы продаёте в рабство и своих. Разве не так? Здоровый народ не будет делать такого. – Глаза хана задорно блестели, он явно дразнил врага.
– Трусов, лентяев, смутьянов, тех, на кого укажут мудрые старейшины! Тех, кто мешает жить народу. – Способность говорить явно возвращалась к пленнику. Но и за воспалённостью этого пламенного выкрика скрывался страх оказаться наедине с думами о смерти.
Бату заинтересованно вникал. Во всех действиях его отца он почувствовал какой-то замысел.
Неужели Джучи знал про это нападение? И не посвятил его в свои планы? Детская обида захлестнула царевича. «Эх ты, мерин кривоногий, – ругал он себя, – думал: взял отца за загривок. Как бы не так».
Джучи между тем прикинул одно к другому и решил: первую стрелу нужно спустить с тетивы уже сейчас, не зазывая Делая в юрту. Пусть слышат все его нукеры.
Вживаясь в кыпчакский способ думать, он смаковал это слово «нукеры». «У нас бы сказали «нухуры». Столько похожих слов в языках, неспроста. Да и вообще – чего нам делить? Ну, Великий Каган, попомнишь ты строптивого сыночка».
– Я ждал вашего набега – одного не ждал...
Он посмотрел на связанных. Как и рассчитывал, Делай поднял голову. Воспалённая гордость сменилась на его лице невольной заинтересованностью.
Вокруг собиралась толпа любопытных. Боголы с вязанками хвороста (в этих краях можно было топить не только аргалом), баурчи в заляпанных передниках, тележники, овечьи стригали, свободные от смены тургауды, ещё не успевшие снять панцирь, нойоны в ярких халатах, сартаульские дервиши в высоких колпаках, женщины, несущие пузатые бурдюки – вся эта толпа невольно сворачивала со своего пути, прислушивалась.
Если бы только не ряды лежащих поодаль неубранных покуда тел, можно было подумать, что не набег сегодня отражали – к празднику готовились.
– Одного не ждал... – повторил Джучи, многолюдность его уже тяготила, – что вы доберётесь-таки до самой моей ставки. Я принял меры, а вы всё равно добрались. Ты не только отважен, Делай, ты ещё и хитёр.
Юность слаба на лесть. Особенно у кыпчаков это должно быть так. Там уже давно не ценят ничего, кроме слепого послушания старейшинам. У них, монголов, раньше тоже было так, и поэтому Темуджин... «О Небо, опять я поступаю, как отец».
– Чего же ты хотел, Делай, а?
Пленник оглядел толпу. Она не дышала враждебностью, развлекалась... «Ну-ка, удалец, скажи что-нибудь весёлое». Было не похоже, что их собираются убивать. Да и страшный монгольский хан мало напоминал то чудовище, каким его представлял Делай.
Оглядывая толпу врагов, как сказитель своих слушателей, он вдруг бросил ей в лицо свои заветные мысли, пусть подавятся. Бесшабашность часто выручала его из беды, может быть, и здесь...
– Я хотел приторочить вашего хана или одного из его сыновей к седлу! Я хотел дать почувствовать медведю: каково быть овцой. – Оглядел зашумевшую толпу врагов, подбоченился: – Я хотел дать понять, что медведя не сделаешь овцой, просто заставив его пастись!
Его голос был звонким и совсем юным. «Мальчишка, – незло подумал Джучи, – какой замечательный мальчишка, но скоро будет опасен».
Пленник понял, что смешон, и снова нахмурился. Однако тот смех, который был ответом на его выкрик, не гремел уничтожающе, нет. Этот весёлый, незадачливый кыпчакский нойон, нашедший в себе мужество шутить, стоя связанным перед победителем, здешнему народу понравился. Тут было много таких, кто всякое повидал в разных невероятных походах. Они умели и мужество ценить, и шутку. В душе Делая творилось необъяснимое, совсем неладное. От этого собрания врагов текла на него какая-то родственная волна... Представил толпу в родном курене – колючую, повторяющую угрюмые назидательные выкрики за седовласыми старцами, что размахивают над головой провинившихся проклятиями Неба, Земли и всего остального. Попались бы к ним в плен монголы – их бы затравили, заорали, затоптали...
Здесь, правда, тоже... так споро посекли меркитов, но эти ожесточённые пришельцы с «восхода», все призывающие их, кыпчаков, к мести, мести, мести за свои обиды, налегая на долг гостеприимства... были Делаю хоть и понятны, но неприятны. Он вдруг поймал себя на предательской зависти к пленившим его людям, на желании вот так же стоять среди них и весело смеяться. А как легко, без видимых усилий, их всех, будто слепых щенят, переловили. Не убили, а переловили. Но полно, наступил его черёд достойно умереть... ведь скажи он такое о своём хане, тот бы побагровел. А этот – смеётся...
Нукеры Делая, поддавшись общему настроению, гордо улыбались, забыв о себе. Своей дерзкой шуткой он вселил в них бодрость. Джучи было видно – этот юноша, похоже, умеет ладить со своими людьми.
И тут наконец показался ОН, долгожданный, – тот, кого высматривал Бату. Пристроившись несколько сбоку от небольшого отряда взмыленных разномастных верховых ехал его любимый воспитатель.
Маркуз перевёл разгорячённую лошадь с рыси на шаг, увидел Бату... несколько мгновений, похоже, сомневался: тот ли это мальчик, тот ли?
Царевич толкнул Солового в бока и понёсся навстречу ушедшему детству.
Они сидели у огня под онгонами вчетвером. Джучи, Маркуз, развязанный Делай и... Бату. Памятуя о недавнем разговоре с сыном, хан всё-таки дал согласие на присутствие здесь бойкого царевича. Да и то сказать, на кого же ещё опереться, как не на наследника? Это был не обычный утренний совет нойонов и тысячников – это была интрига.
Не то чтобы Бату был горд таким доверием, но всё же удовлетворён. Ему воздавали должное. Давно пора. Даже то, что простодушного Орду сюда не позвали, выглядело тоже вполне естественным. Впрочем, обиды для брата в этом, пожалуй, и не было. Тот неохотно влезал даже в те дела, которые его присутствия требовали. Значит, не обидится. Бату любил своего «старшего-младшего» подопечного за это отсутствие гордыни. Она так хорошо и редкостно сочеталась в нём с нежеланием думать больше, чем надо. «Эх, со всеми бы так – и не было бы войн».
– Ну что, Делай, ты ещё не догадываешься, почему ты здесь?
– Я поверил, что ваши основные силы...
– Ушли на перехват хана Инассу в то ущелье, – продолжил за него Джучи, – и, хочешь не хочешь, оставили курени без должной охраны.
Делай молча слушал, его сцепленные ладони ритмично сжимались-разжимались. «Молод, необучен, смятение скрывать не умеет, – снисходительно отметил Бату. – Он, как кречет на руке, стремителен и прямодушен». Царевич улыбнулся, представив вцепившегося в его халат маленького крылатого Делая. «Попрошу этого человека себе. Ещё немного – и мы его приручим».
– Давным-давно, – медленно продолжал Джучи, голосом подражая сказителю, – жили счастливые люди на великой реке Иртыш. Но из дальних земель, из-за синих гор пришёл злой великан Чингис – пожиратель людей. А надо сказать, у здешнего хана Инассу была красавица дочь с лицом, что заря. Многие славные багатуры сватались к прекрасной девушке, но мудрый Инассу сказал: «Склонились травы степные в великой скорби, беда идёт на землю нашу. Тому я отдам в жёны дочь, кто избавит свой род от страшного чудовища». И был в тех краях храбрый джигит по имени Делай... Родился он стремительным, как сайгак, стрелы его волшебного лука срывали хвосты у падающих звёзд. И нагадали Делаю добрые прорицатели, что страшный Чингис-людоед только одну слабость имеет – любит беспомощных сыновей своих, – упоминая про эту трогательную слабость людоеда, Джучи не удержался, саркастически хмыкнул, – и добыл Делай коня волшебного, крылатого...
– Отец, ты бежишь впереди этого самого коня, так нельзя, не перескакивай, – вставился Бату, улыбаясь, – тебе бы, отец, улигеры складывать, родился ханом на свою беду. Как же он коня добыл?
Но тут Делай не выдержал:
– Нечего со мной резвиться, как с малышом. – Щёки удальца зарделись.
Джучи сменил тон:
– Вот-вот, и я про то же. Не пора ли взрослеть? А знаешь, почему поучительного сказания не получилось? Бедный ты, бедный, тебя твой мудрый Инассу просто вышвырнул, как высосанную кость, на погибель послал. Сколько там всего, перечисли?
Маркуз с деловитостью купца стал загибать жёсткие длинные пальцы:
– Шесть кусков тканей зиндани, тангутский меч с рукояткой в виде головы сокола, четыре пары булгарских сапожек сафьяновых в жемчугах... ещё кое-что по мелочи. Это за то, что он тебя сюда направил.
– Я вам н-не верю, он не предатель, – задрожал Делай.
– Он и не предатель, – спокойно согласился Маркуз, – он заботится о покое своего народа, а ты – воду мутишь. Ему бы жить-поживать, ни в каких распрях не участвовать... Меркиты пришли – всё склоняют его куда-то, их приютили как гостей, а они втравливают хозяев в неприятную войну. А ему зачем? Стада тучные, жёны ласковые, пастухи не голодные. Чего суетиться? Лучшие горные пастбища – джейляу – у вашего рода. Обширные зимовники – у доброго Инассу. Что ещё надо для счастья?
– Только слепой не видит, что враги придут и сметут нас. Покатимся вниз, как от лавины снежной, будет, как с меркитами.
Делая так заморочили этими сказками – очень похожими на его настоящие мечты, – что он забыл, где находится. Предупреждать об угрозе лавины эту самую лавину – разве не странно? Но и то, что Инассу хочет избавиться от лучших своих нукеров, руку свою самолично отрубить – вообще в голове не укладывалось. Такое и вовсе глупость. Нет, он не поддастся, ему просто морочат голову. Блики симпатии к пленившим его врагам погасли, душа стала наполняться злостью, вот-вот лопнет.
– Я сказал Инассу: «Чингис сюда не пойдёт, зачем ему? На юге – неразбитые хорезмийцы, на востоке – неразбитые джурджени. Уже и кыргызы восставали. Не слушайте меркитов, они вас тянут на алтарь своей беды – не вашей, – спокойно говорил Маркуз, – отдайте нам ваших смутьянов, отдайте желающих воевать... и живите спокойно». Он согласился.
– Уже втянули – назад не воротишь, – взорвался Делай, – не надо было этих беглецов-меркитов привечать. Кто же знал, что Чингис не прощает тех, кто пригрел его врагов. – Пленнику хотелось крикнуть что-то обидное, чёрное марево слепило глаза – пусть убьют. Только боязнь за судьбу своих людей удерживала его от открытых оскорблений.
– Выпей кумыса, успокойся, – предложил ему Джучи.
– Погоди-погоди, пусть перебесится, – остановил хана Маркуз, – видишь, он готов заглотить всех живьём. Только нас ли надо глотать?
Последнее замечание слегка отрезвило несостоявшегося героя. Ведь ясно, что создан он из горючего материала, из такого, что не только вспыхивает, но и сгорает быстро.
– Так чего вам от меня надо? – ещё дрожащим от возбуждения голосом поинтересовался Делай. – Почему не убили сразу... как меркитов?
– Вот, – поднял Джучи палец, жирный от баранины, – давно бы так. – Он сказал это таким тоном, будто от пленника чего-то ожидали, а он всё упрямился. Этим нехитрым уловкам Бату учили в «яме», а теперь он увидел их в действии. – Ты бы поел, поел, а? Твоих нукеров тоже не обидят.
Делай – как одичавший пёс исхудавшую морду – протянул руку к аппетитным кускам баранины... вот-вот отдёрнет, огрызнётся.
Маркуз дождался, пока он отправит в рот кусок, пока прожуёт. «Ну-ну, успокаивается, больше в лес не убежит», – с интересом наблюдал за происходящим Бату. Его воспитатель медленно, выделяя каждое слово, заговорил. Так говорят с детьми, так он говорил и с ним когда-то. Правда, Делай уже взрослый, в него не новое вставлять, а приходится стирать старое. Предательство – всегда большое потрясение. Этому человеку повезло – не каждому так везёт – в самый трудный миг ему помогут.
– Всмотрись в себя, мальчик. Чего ты хочешь? Зачем рвался сюда, глотая бодрящий ветер? Ты хотел защитить волю, не так ли? – И вдруг глаза Маркуза изменились, как бы почернели, как бы прыгнули из глазниц, будто две маленькие настырные рыси.
– Я хочу, я хочу, чтобы обо мне слагали легенды вольные племена. Хочу сделать так, чтобы храбрые и умные были богатыми, а глупые и ленивые – бедными. Чтобы тех, кто лучше остальных, не отправляли в рабство за строптивость.
– Ты хочешь быть на месте хана Инассу? Для этого нужна его дочь? – продолжал этот странный допрос Маркуз. Теперь его глаза стали обычными.
Зато пленник отвечал легко, без стеснения. Маленькие рыси перегрызли глотку его настороженности и гордыни.
– А как же иначе? – со смешным недоумением по поводу «глупого вопроса» удивился Делай. – Если ты не ханский родич – так и умрёшь в нукерах. Когда шёл сюда с такими же, как я отчаянными, то думал: или привезу ханского сына поперёк седла... или, уж не знаю, как жить дальше. Я не могу! – вдруг закричал он, будто в полусне. – Я устал от этих кругов! Зимовка, низины, джейляу, потом снова – зимовка, низины, джейляу. Ничего не меняется... Я и ханом не хочу быть – я хочу, чтобы что-то менялось.
– Какой ты смешной, Делай, – улыбнулся Джучи, – так бы тебе и отдал Инассу свою дочь. Нужны ему подвиги твои, как овце потник. Стада множить – вот его подвиги. Он тоже хочет, чтобы что-то менялось, да? Бедняга. Жил не тужил, а вдруг меркитов злые духи принесли. Вот он и позволил тебе молодцов бесшабашных набрать, чтоб не нарушить долг гостеприимства. Получите, мол, подмогу... Только если беда в степи, знаешь что бывает? Из бесшабашных голодранцев – ханы получаются. Мы такое уже пережили, когда-то...