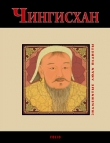Текст книги "Полет на спине дракона"
Автор книги: Олег Широкий
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц)
– Подожди, хан, не о том, – мягко перебил его Маркуз, – я хочу, чтобы этот мальчик понял. То, что называется «вольные племена», на самом деле – неволя. Если он такой, как есть, – ему нужно бороться за «неволю».
– Это как так, «неволя – воля»? – совсем обалдел пленник. С силой его «воли» уже что-то непоправимое сотворили, теперь и с разумом творят. «Колдуны, – металось где то на дне, не в силах всплыть, – они тут все колдуны».
– Меркиты вас чем пугают? Вот были когда-то «вольные племена», а теперь злой Чингис всем в окровавленные рты свои удила засунул, а самые свободолюбивые – меркиты то есть – бежали на реку Иргиз, а потом к вам, кыпчакам. «Не поможете нам, – говорили, – скоро и вас к седлу приторочит. А строптивых – истребит». Говорили такое, Делай?
– Говорили, а что? Разве не истребили? Я сам видел.
– Маленький куст вольно стоит, да корнями к земле прирос, – вздохнул Маркуз, – табун лошадей за вожаком бежит, но земля под копытами разная всякий день. Хочешь быть вольным кустом на родной земле – затопчет тебя табун. Не лучше ли вовремя обернуться жеребцом? И тогда чем быстрее скакать умеешь, тем дальше будешь... от хвоста табуна.
– Разговоры про волю для тех, кто её имеет, для беков с ханами, – подхватил Джучи. – Посмотрите, мол, надо мною никто не стоит, куда хочу, туда и кочую. Они толкают вас, глупых, ложиться поломанными кустами на пути табуна. А в одиночку кочевать – пропадёте, да и зачем оно, одиночество? Это судьба отшельника – не багатура.
Делай напряжённо внимал. Так складно с ним ещё никто не разговаривал. И ведь верно, всё верно... Только чего им всем от него надо?
– Запомни, Делай, если желаешь великого будущего себе, – уводил его хан в неизвестное, непривычное, – разговорами о «воле» тебя к чужому столбу привязывают. Чем короче верёвка, тем больше о ней, о воле, разговоров. Не бывает воли – бывает длина верёвки. Мы, монголы, взяли многих в свою рукавицу, это так. Мы караем за непослушание, как карает лавина одинокие снежные комья. Просто заставляя их двигаться вместе с собой. Но посмотри на судьбу покорённых: они повидали мир от далёких рисовых полей до абрикосовых рощ Хорезма. Были пастухами – стали важными беками, купцами, тысячниками, табибами.
«Тысячниками, – усмехнулся он сам себе, – а большинство стоят, где велено, ни шагу без пристальных глаз».
Пленный юноша напряжённо внимал, он уже был их, с потрохами. Кто бы сомневался? «Эх, заманили дурака», – вздохнул хан. Джучи, конечно же, больше рассказывал не о том, как есть сейчас – впрочем, бывали за эти годы и такие с людьми превращения, – он говорил о том, что ещё сделать предстояло. А для этого надо было всего ничего – свергнуть власть Темуджина. Лгал он тому парню, нет ли? Ему хотелось думать, что нет.
После долгого утомительного прикармливания задорного кыпчакского волчонка отпустили свободно гулять по куреню. Куда он денется под присмотром сотен глаз? Следом за ним из юрты выполз Маркуз – отсыпаться. Отец и сын снова остались наедине.
– Сегодня ночью волчонок будет думать. Завтра – робко шептаться со своими. Мы подождём. В таких делах спешка пагубна. – Джучи был доволен и собой, и Маркузом. С Бату же пришлось, наконец, объясниться. – Кыпчаки опасны только весной, они воюют, когда зеленеют степи. – Джучи сегодня сиял довольством и бодростью. – Эх, сынок, скажешь, что опять плету сартаульскую вязь, но здесь такие тюльпаны – ты немного опоздал, не застал. Они тут красные, как будто впитали в себя цвет тех вечных потасовок, которые расцветают вместе с ними. Ты видел одну из последних сегодня, да. Скоро кыпчакам будет не до того, а я так боялся, что ни одного кречета поймать не успеем. А погляди, какого поймали, залюбуешься. Эх, сынок, дай помечтать о тюльпанах – отдохнуть. Расскажу и остальное. Не выпить ли нам? Раз уж мы воюем против Темуджина, давай-ка воевать и с его любимой трезвостью.
– Согласен, – охотно сдался Бату, – отдыхай, эцегэ, отдыхай. Прости меня за всё моё чванство. Ты – умный, ты самый лучший хан. Готов тебя слушаться, я поверил. Дай палок моей строптивой спине, если ещё сомневаешься.
Они выпили за единомыслие, поговорили о том, о сём. Потом вернулись к делам.
– В эту траву кыпчаки сами не сговорились, не успели. На следующую – мы им не должны этого позволить.
– Всё, как у нас на Керулене. Прости, отец, но если нам правдиво пели про то, как Темуджин боролся за власть в юные годы, – ты делаешь то же самое. Только он там, а ты здесь. Разве не так?
Джучи нахмурился, его не переставало смущать мнимое сходство с Чингисом, но, с другой стороны, это почему-то и льстило.
– Темуджин хорошо начинал, плохо кончил. Шагая по высокому хребту в темноте не вправо, так влево сорвёшься. Но ты не прав. Здесь многое не так, на Керулене жить легче.
– Чем же легче? Те же степи, те же горы. – Бату ехал сюда из «учёной ямы» – как давно это было, – и ему всё казалось: не только родных людей, но и родные степи перенёс услужливый Мизир с Орхона на Иртыш.
– Те, да не те, – улыбнулся Джучи, – зимой столько снега, что лошадь не пробьётся к нему копытом всю зиму. А чуть подтает: в новый мороз корка ледяная сверху – джуд. Погибель живому и вовсе.
В коренных нутугах – где швырял, играя со сверстниками, костяную биту маленький Темуджин, где натягивал свой первый детский лук карапуз Джучи – снега щадили людей. Толщина его покрова – жизнь или смерть для пастуха. Горе любому обоху, если на зимних пастбищах не стихают безжалостные бураны. Но такое бывало редко, такое – гнев Небес.
– Ну, рассказывай, – недоверчиво встрепенулся Бату (он-то воображал, что все степи одинаковы), – как же кыпчаки тут живут зимой? Сами для лошадей траву из-под снега лопатами роют? Не нароешься. – Бату замолчал, подумав обо всём с другого бока. – Удружил нам Темуджин с дарёным улусом. Мало что под ногами полыхает. Я думал, тут степи как степи, а получается, держит нас Каган в кулаке. Захочет – подвезут его люди корм из Хорезма, не захочет – голодом уморит. Сами к нему на карачках приползём. Мало нам врагов, ещё и такое. – Мысль Бату поскакала куда-то в тёмную даль, но он её мягко сдержал: «не увлекайся». – Погоди. Так что, кыпчаки и корм для лошадей покупают у Хорезма? Чудно. А взамен что дают? Как они тут живут вообще?
– Этого мало, – посмеивался хан над сыном, – что там зима? Вот Мизир свой глаз во всю ширь откроет – и высохнет трава, мёртвой будет, жёлтой. Не прокормишь тут скот и летом. Так-то.
Джучи вдруг затосковал. У них там, на Керулене, после весенних дождей зелень держалась до осенних холодов. Летом жиреют овцы и кони – это хорошо. Но именно сытное, счастливое лето – самое время для набегов меркитских и татарских.
Теперь набегов нет. Истребил Темуджин разбойников, но с каждой новой травой поют улигерчи всё более истово о страшных, бесконечных войнах недавних времён, поют о сне в полглаза, об одиночной охоте отважных удальцов (как бы самому добычей не стать), о сабле, что и во сне из рук не выпускали. Поют улигерчи настырно и громко (попробуй не спой), отвлекают народ от сражений других. Чтоб не думал он о малопонятных далёких походах, навеки забирающих у «доителей кобыл» подросших сыновей.
Забирающих, как тяжёлую дань-ховчур[83]83
Ховчур – единоразовый налог.
[Закрыть] за голодный покой в родной степи.
– И что, нам подвозили зимой ячмень и овёс из-под Ургенча?
– В эту зиму – да. Но долго так продолжаться не может, да и сколько нас – монголов, кераитов? С каждой стычкой всё меньше. Вот и сегодня троих потеряли: одного дурбена, двух олхонутов. Олхонуты – обох нашей бабушки.
– А как живут кыпчаки?
– У них интересно. Каждый обох уходит на лето по тайным горным тропам высоко, туда, где Мизир не выжигает траву. Их молодёжь гонит овец и лошадей ещё выше – на сытные пастбища-джейляу, а старики запасают сено для зимовников. У них там укреплённые деревни, в которых они просиживают зиму, есть и тайные ущелья. Молодые – в набег, а женщины и дети надёжно защищены. Кыпчака огнём жги, шкуру дери – ни один из них не выдаст. Не расскажет, где родовые зимовки, где ущелья, где джейляу. – Джучи подался вперёд, заговорил быстрее, будто жалуясь: – Темуджин тут недавно прислал «дальнюю стрелу». Приказал: «Поймай кыпчаков, выведай, где у них джейляу. Иди туда ближе к зиме с отрядами, сожги заготовленное. Тогда кыпчаки на карачках приползут».
– И что?
– Я другое задумал, для того и поймал этого юного кречета. Люди на джейляу разобщены на маленькие группки, их там мало – это одна дыра в кыпчакском шатре. Они там без стариков – это дыра другая. Делая все любят, к словам его молодые уши бегут, как овцы на соль, старых же он раздражает... Это третья дыра.
Голова у Бату работала стремительно, дальше он и сам всё додумал. Люди Делая – это те, кому в скучных кочевьях тесно, такие – колючка в сапоге у старейшин, кость в старом горле у тех, кто по заветам предков живёт.
В монгольских степях таких строптивцев в леса выгоняли, называли «людьми длинной воли». Но в лесах они сколачивали шайки и стали СИЛОЙ.
Не то у кыпчаков. Каждое лето удальцов разобщают горные пастбища, а с новой травы – начинай сначала. К весне же расцветают не только тюльпаны – работорговля тоже. «Лишних людей», тех, кто старейшинам неудобен, объявляют «одержимыми злыми духами» и продают на булгарских и хорезмских базарах.
«Свои своих, отвратительно, – Бату стало приятно, что он всё-таки монгол, а не кыпчак, – в нашем народе низости такой не водится».
Значит, Джучи спровоцировал набег для того, чтобы неудобных людей, наконец, ОБЪЕДИНИТЬ, вырвать на лето из-под скучного кнута пастуха. Он хочет создать кыпчакских «людей длинной воли», СВОЕЙ «длинной воли». Как просто. Их руками нужно захватить, а не уничтожить зимние пастбища. Молодых пастухов, оторванных от старейшин и прорицателей, переманить на свою сторону легко. «Кто хочет, пусть идёт на войну – саблей добудет богатство. Добрый хан Джучи всем найдёт занятье по душе. А что сейчас имеете? Чужие стада без продыху пасёте», – скажет им Делай, вернее МЫ его голосом скажем. А ближе к зиме – свалим их же руками обеззубевших без юной поросли старейшин-беков.
«И будет бескровная победа, – восхитился Бату, – хоть один костерок под ногами погасим. Ущелья для женщин и детей – укрыться при карательном походе Темуджина – тоже не лишнее. Только бы удалось! Только бы Делай согласился!»
Всё это он высказал отцу, чтобы проверить свою способность понимать чужие мысли с полуслова. Однако Джучи даже слегка испугался такой прыти.
– Не так всё безоблачно, но в главном – догадался. Где научился так рассуждать?
– У того, с кем решили воевать, в «яме» Темуджина, – привычно скривил губу царевич. – Чей это план? Твой или Маркуза?
Джучи ждал этого вопроса, но отвечать на него не хотелось. Ответил.
– Это сразу видно... – незаслуженно ткнул он отца, тот сразу сник.
«Что бы сделал на моём месте Темуджин? – привычно пожалел себя хан. – Выбил бы у подчинённых охоту не только задавать подобные вопросы, думать бы в эту сторону запретил. Все люди правителя – его продолжение».
Всё воодушевление разговора улетучилось, как жар О! залитого костра, полыхнуло стоячим белым дымом обиды и злости. А Бату даже не понял, что он жесток. Как всякий юноша, царевич был способен соображать, но не сопереживать чужим слабостям. Он был ещё слишком беспощаден к старшим.
– Не стоит кусать за материнский сосок только потому, что выросли зубки, – не выдержал Джучи, укорил.
– Не стоит выдавать чужой сосок за свой, эцегэ. Не стоит думать о сосках тому, кто не хочет уподобиться женщине.
– Иди, иди к своему Маркузу, – ревниво процедил Джучи, у него вдруг заболела голова.
Бату, Боэмунд, Маркуз. 1223 год
Это горное путешествие запомнилось Бату своим однообразием. Позднее он вспоминал не столько происходившее вокруг, сколько их с Маркузом вечерние беседы. Что до остального – разве это не утомительно? Монголы, сопровождавшие неугомонный отряд Делая, не чувствовали себя надсмотрщиками. Всё шло само собой, без их малейшего участия, от такого было даже не по себе. Казалось, Маркуз заколдовал всё подряд. Чудилось, что покорные враги вот-вот очнутся. И тогда загремит клинками и копытами, разлетится эхом по ущелью бесхитростная привычная резня.
Джучи, однако, настоял, чтобы монголы, принимавшее участие в этом странном бескровном походе, превосходили по численности отряд Делая. Мало ли что! Маркуз же, хоть и считал эту предосторожность излишней, каждый вечер аккуратно вызывал Делая в общий шатёр, где на всякий случай прополаскивал парня в кипятке своих нечеловеческих глаз. А после его ухода они оставались в шатре втроём: Бату, Маркуз и Боэмунд. И это было самым интересным.
– Ты заколдовываешь его, Маркуз. Не страшно, что сорвётся с крючка?
Маркуз улыбался, теребил костяную трубочку для питья из родников – такую тут, в горах, сделал себе и Бату.
– Я его расколдовываю. Со мной он таков, каким хочет быть. Как лук – бесполезная деревяшка без стрелы, так и в человеке нельзя возбудить то, чего в нём нет. Иначе было бы просто: сделал врагов друзьями силой глаз – и никакой войны не надо.
– Значит, ты бы не смог заставить Джелаль-ад-Дина не воевать с монголами? – спросил Боэмунд.
– Я бы не смог погасить его жажду власти и славы. Без неё он сгорит, как солома, и знает это. А как добьёшься власти без войны? Можно заставить не воевать того, кто это делает из страха, а на самом деле ищет покоя.
– Ха. Темуджин на все ветра вещает, что воюет ради покоя, – засмеялся Бату.
– Темуджин воюет от боязни оглянуться назад. Сомнение в своей правоте его убьёт. Это самое тяжёлое дело – свернуть с пути испуганного.
– А чего ещё нельзя? – Бату немного побаивался своего наставника.
Маркуз понимающе усмехнулся:
– Если в человеке нет страсти, если у него сытое сердце, как у простого пастуха, его не сделаешь героем. У героя сердце голодное и беспомощное, с такими легко. Таков Делай, такой твой отец.
– А я? – осторожно осведомился царевич.
– Тебя и Боэмунда лучше доброго панциря защищает великий дар Неба – желание узнавать мир просто так, бесцельно.
– В таком случае я хочу кое-что узнать бесцельно. Вот мы сейчас тут, в кыпчакских горах, с горсткой воинов. А в низине – ещё несколько тысяч с семьями. А против нас – весь мир.
За тонким пологом шатра, мало разделяя тревогу царевича, «приручённые» Маркузом кыпчаки горланили беспечные песни. Это Бату слегка раздражало. Невольно подражая отцу, он заговорил иносказательно. Подступить к главному напрямую было всё-таки боязно. Тем более – ночью.
– Я знаю, если ручеёк умеет правильно стекать с высокой горы, он превращается в широкий Керулен. Что бы там про Темуджина ни говорили, но это ему удалось. А другие – впадают ручейками в чужое многоводье или сохнут, задыхаясь от бессилья. Я не гордец, как сумасшедший Джелаль-эд-Дин, по мне хватило бы и того, что вольюсь в чужую реку.
Лицо Бату стало испуганным. Из темноты тревожной боевой трубой завыли волки. Уже второй день эта нахальная стая пыталась умыкнуть у них какую-нибудь отставшую лошадь. Бату отпрянул от очага. Может быть, этот вой – предупреждение свыше: «Не посылай свои мысли в эту сторону? »
Но он давно хотел поговорить с Маркузом обо всём. Пока не поздно, пока не совершил по глупости необратимого. В этот поход – сопровождать Делая, помогать новоиспечённому союзнику отвоёвывать у хана Инассу горные пастбища и зимовники – Бату, конечно, не собирался. Когда же он узнал, что Маркуз опять надолго затеряется в частоколе этих бесконечных сосен – решил присоединиться к нему. Не тянуть же с делами до зимы! Джучи отпускать не хотел: «Всё-таки опасно». На самом деле, не из-за опасности – не желал отпускать с Маркузом. Но удерживать – ещё подозрительнее.
Так Бату оказался в этих скучных горах с Боэмундом, единственным из ближних нукеров, которого выбрал сам. Таких бы ещё человек семь – и можно многое наворотить. Ну да ничего, их и так уже трое... Был ещё Мутуган. А может быть, он здесь?
Дождавшись, когда порыв ночного ветра ослабит напор на жерди шатра, – это отвлекало – Бату пренебрёг знамениями и заговорил снова:
– Теперь не вольёшься ни в какие реки. Отец поссорился с Темуджином. Конечно, это не открытое объявление войны, но соглядатаи уже наверняка донесли нашему Всепрощающему Деду о тех оскорблениях, которые вот уж несколько месяцев орали наши удальцы за пиалами архи. Мой отец такой же колдун, как ты. Только ты заколдовываешь глазами, а эцегэ – речами. Хорошая у вас с ним пара – два гутула на одну больную ногу... Моя мать рассказывала мне, как ты много трав назад расправился с великим шаманом Теб-Тенгри. – Бату прислушался к темноте. Не заткнёт ли она ему рот каким-то знаком, но серые бродяги, наверное, уже успели утащить отставшую кобылу, потому что замолчали. – Когда я слушаю сладкие речи эцегэ, мой разум плывёт в сартаульский рай, где гурии обретают нетронутость, сколько ими ни наслаждайся. Так вот и я, будто гурии, – Бату простодушно рассмеялся, чем заставил встрепенуться Боэмунда. Вот за это полное отсутствие чванства Боэмунд и любил своего господина, – послушаю отца и обретаю детскую беспечность. Потом ухожу, хватаю голову руками, ужасаюсь.
– Это ничего, в Европе то, что имеет твой отец, называют харизма, – встрял Бамут.
– Ха-риз-ма, – пощупал царевич губами новое слово.
– Например, твёрдолобый магометанин стоит в толпе христиан. Если проповедник толковый, белоголовый будет кричать: «Слава Христу!» А потом хватать голову руками, ужасаться. Вот это и есть харизма.
– Я его кусаю, потому что хочется слушаться сладких слов, а это беспечно. Но мои укусы – комариные. А как с ним поспоришь? Ведь я не знаю, что делается вокруг меня. У меня же нет хороших соглядатаев, и я слепой. Нужны мухни... свои собственные мухни.
– Укусы? – с показной глубокомысленностью изрёк Маркуз. – Что бы там ни было, а о норе я позаботился. Ты думаешь – зачем Делая выпестовал? Помогу ему стать вождём своего рода, а в случае большой войны, – если брат на брата пойдёт, – заберу твою мать, тебя... и ещё кого захочешь, и мы растворимся в этих ущельях...
– Я о чём-то подобном подозревал. Нет, Маркуз, не годится. Я не оставлю эцегэ в беде. В его ошибках и победах – буду вместе с моим родным улусом.
– Хочешь влиться в чужую реку? Так ты сказал, Бату?
– Отчего нет?
– Это пока она течёт в ту сторону, которая тебя кажется верной. А в другую ринется, не пожалеешь, что река чужая?
– Тогда как? Не вмешиваться? – вздохнул царевич.
– Это у нас есть, – влез Боэмунд, – это – пожалуйста. Иди в монастырь, избавь людей от своих страстей, от одержимости дьяволом. В монастырь кто идёт? Такие, которые сами со своим «добром» бороться не могут. «Заприте нас, – говорят они, – а то мы за себя не в ответе, таких дел натворим».
– У буддистов в Тангуте то же самое, – поддержал Бату. – Как же знать, что твоя воля согласна с Волей Неба? Знамения, жертвы, прорицатели? У всех они разные. Темуджин говорит: «Если я побеждаю, добро на моей стороне». Вот сейчас наши кони пугают народ в землях Золотого Дракона. А бабушка Бортэ рассказывала, как приходили те же джурджени раньше и в наши степи. Что творили, зубы стынут повторять. Сколько народа за Стену Ненависти угнали! Скольких наших лучших вождей прибили к деревянному ослу. Тогда побеждали они. Что ж, Воля Неба была с ними? Алтан-хан себя и звал Сыном Неба.
– Что ты хочешь этим сказать, Бату?
– Всё просто. Наш поход в Китай назывался: «Месть прогневившим Небо». Почему же мы, исполнители Высшей Воли, наказываем и ненавидим джурдженей за то, в чём им раньше Небо помогало? Небо само себя наказывает, так получается?
– Берикелля, Бату, кое-что ты понял.
– Ничего я не понял... Каждый, желающий нести добро, завоёвывает мир, насколько может. И возмущается, если этого хотят другие. Темуджин под старость лет признался-таки, что нужно воевать, пока нога монгольского коня не упрётся в Последнее море – иначе разметают родные юрты, рано или поздно. Всех остальных это возмущает и пугает. Но разве багдадский халиф не желает того же?
– А наш добрый Папа Римский разве не желает, чтобы его власть простиралась до Последнего моря? – добавил Боэмунд.
– Почему я сказал, что ты кое-что понял, Бату? Потому что, если спрашиваешь такое, не будешь сверять свои поступки с Волей Неба. Тут только начни – оно оправдает любые безумства. С тех пор, как пастыри людские слушаются Неба, они перестали слушать друг друга. Глухие могут только драться, не говорить. Скоро Темуджин покинет этот мир, и всё доброе и злое, придуманное им, назовут Волей Неба. В давние травы то же самое произошло с наследием Христа, с наставлениями Магомета. Живое рождается и умирает. Люди, делая живое святым, превращают его в нежить.
– В дьявола? – спросил Боэмунд о своём.
Бату промолчал, для него такое было не очень понятно.
– Жизнь течёт сквозь неподвижные осколки нежити, как дзерен сквозь проткнувшую его стрелу... Многие ли способны остаться невредимыми после такого ранения? – вздохнул Боэмунд. – Я знаю, как делать святыни. Это легко... Но как их расколдовывать? Как возвращать им дар рождения и смерти, я до конца не знаю. Как сделать, чтобы люди изменяли Библию, Коран и Ясу на потребу Жизни, а не жизнь под написанное в Коране или Ясе.
– А зачем ты всё это нам рассказывал, Маркуз? – не выдержал мало склонный к отвлечённым рассуждениям Бату. Вышколенный на схоластике Боэмунд, напротив, надолго погрузился в раздумья. Меж тем Маркуз был доволен: вот перед ним будущий правитель и будущий советник – каждый заинтересовался своим.
– Чтобы вы поняли – Воля Неба никогда никому ничего не шепчет. Она «здесь и не здесь, везде и нигде», как мусульманский див. – Он говорил «вы», налегая на что, мол, проповедь не только для Бату. Заодно Маркуз выяснил, как реагирует царевич на непонятное и неважное для себя. Нормально реагирует, не обижается, это хорошо. Помолчав, он продолжил: – Знаю одно: если попадаешь в её текущие круги – она награждает тебя счастьем, пытаешься идти наперекор – её струи лупят тебя в бок муторными волнами тоски... или разбивают о камень.
– Значит, мне нужно помогать отцу. Если я пренебрегу им ради законов Ясы... Одна мысль об этом вселяет тоску, – проворчал царевич. Эти длинные вступления его утомляли, он уже получил оправдание своим действиям, и раздвоенность перестала мучить, что дальше-то языком возить?
Маркуз сидел, погруженный в раздумья, как монах, потом разговорился:
– Ничего нового под Небом. События повторяются, и в новых халатах истинный мудрец увидит старое тело, а в старых – новое. Вспоминая далёкие травы, вот о чём я думаю сейчас: Темуджин почитает себя любимцем Неба, а это неспроста. Во времена моей молодости Сыном Неба называл себя совсем другой человек, а именно джурдженьский император – владыка Китая. В те годы его звали Золотым Драконом, потому что расплавленное золото капало у него изо рта и убивало людей в наших родных степях. Вот послушай, есть в далёких Вечерних странах такое сказание: багатур – а по-тамошнему «рыцарь» – убил Злого Дракона и сам не заметил, что драконья душа вселилась в него самого. А верные его нухуры, которые помогали дракона одолеть, так и не поняли, что уже не рыцарь их господин, а Дракон в обличье победившего рыцаря.
– Как ты сказал, Маркуз... «рысар?» – сосредоточился Бату. Смакуя очередное, новое для себя слово, он думал о том, как это всё правильно сказано, ему сразу стало интересно. По привычке продолжить мысль говорящего, восторженно продолжил: – Темуджин – это рысар. Победив Алтан-хана[84]84
Алтан-хан (золотой хан, он же «Золотой Дракон», «СынНеба», «Хуанди») – император джурдженей (чжурчжэней), народа, захватившего в описываемое время Северный Китай. Алтан-хан считал монгольские степи «варварской окраиной» Китая.
[Закрыть], сам в дракона превратился, а его нухуры этого не заметили.
– Когда Темуджин ещё не превратился в дракона, перед ним стоял связанным дерзкий Джэбэ. Тот воевал на стороне тайчиутов и после их разгрома попался. Тогда Темуджин ценил людей за верность и мужество, за дерзость. За верность своему прежнему повелителю Темуджин сделал Джэбэ своим приближенным. А тех, кто привёл к Нему связанным главного врага Джамуху, он, ещё не превращённый, приказал зарубить. Ибо щадящий предателей сам предан будет – он любил тогда такое говорить.
Боэмунд поднял голову, попытался представить Темуджина таким – не удавалось.
– Теперь перед ним ковры расстилают, пузо в страхе о землю чешут, – задумался Бату, – теперь вознесённые им предатели облепили Темуджина, как мухи павшего скакуна—хулэга[85]85
Хулэг – дорогой породистый боевой конь.
[Закрыть]. Воистину мухи роятся только в мёртвом теле.
– И заметьте, он полюбил казнить строптивцев за верность побеждённым, за мужество дерзить перед смертью. Он повадился заливать расплавленное золото в глотки чужих храбрецов. Стало быть, Золотой Дракон не умер. Он снова капает золотой слюной из пасти, – добавил Боэмунд.
– Значит, мой горемычный отец стоит сейчас против Чингиса, как когда-то Темуджин стоял против джурдженьского Золотого Хана. Значит, в него, спасаясь из захваченного драконом тела, переселилась настоящая душа Темуджина. Всё повторяется.
– Как знать? – хитро прищурился чародей. – Ухватив круг превратности, не думай, что уже летишь на его волнах. Схожего много, но...
Вот так они говорили вечерами... А дни были путешествием в прошлое – его устроил подопечным чародей Маркуз. Каменистые тропинки, своими изгибами подобные Кругам Превратности, заносили друзей на покатые зелёные островки, к нахальным травам, достающим облака. Шустрые воины Делая сгоняли молодых соплеменников в тесный круг, после чего на стройном коне, в мерлушковой шапке и нагольном тулупе к ним, подбоченясь, выезжал он сам.
Делаевы удальцы не надевали поверх тулупов свои кожаные с железными бляхами куяки[86]86
Куяк – доспехи (панцирь или кольчуга), с крупными металлическими пластинами, которые закрывают грудь и спину воина.
[Закрыть]... То ли были так уверены, что до сопротивления не дойдёт, то ли стеснялись облачаться в боевое снаряжение: «Мы, мол, с миром пришли», тем не менее монгольские красные стрелы – подарок Джучи – выглядывали из саадаков. Как напоминание о том, в какой цвет окрасится неповиновение...
Но до потасовки никогда не доходило. Горячие речи Делая (пересказ того, чем он сам очаровался в юрте своего доброго пленителя Джучи) находили должный отклик. Маркуз рассчитал верно. Солидные, седовласые и угрюмые – чьи интересы были бы затронуты его речами – остались гораздо ниже, гнездились на сенокосах, превращаемых к холодам в осёдлые зимовники.
Бату смотрел на гарцующего перед соплеменниками Делая, видел не его – юного Темуджина. Вот также приезжал его молодой дед в родовые кочевья, говорил о воле, наградах по заслугам, про неповоротливых родовых старейшин, среди которых молодые стареют, а старые дряхлеют. И восходящее солнце, подбадривая, грело его ещё не сутулую спину. Говорят, он был весёлым и задорным... а теперь?
Джучи рассказывал, как давно, после похода на Иргиз, он просил у отца сохранить жизнь пленному меркитскому стрелку Хултуган-мергэну, но тогда в Темуджине уже вовсю гремел чешуёй Золотой Дракон. Джучи до сих пор был уверен, – дело не в том, что Хултуган сын Тохто-беки, главного врага. Просто стареющий Темуджин позавидовал его молодости, испугался её, как вестника движения вниз, к могиле. Эта история была одним из первых камней в той стене, которую отец Бату и дед возвели друг перед другом. Проглотив кричащую обиду, Джучи тогда прошипел: «Отец, что случилось? Мы воюем за то, чтобы людей ценили не по крови, а за то, каковы они сами, – не ты ли твердишь такое? И вот теперь ты подрубаешь собственное знамя, убивая Хултугана за преступления его рода. Это плевок в лицо всем нам, поддержавшим, возвеличившим тебя».
«Нам... поддержавшим... нам», – гудел в голове какой-то назойливый шмель... Он ему о чём-то гудел, но никак не мог Бату его ухватить.
«Нам... поддержавшим». Ага, ВОТ тут в чём дело: Делай-то не сам по себе, за ним МЫ стоим... И ТОЛЬКО ПОЭТОМУ у него всё так ловко получается.
А Темуджин в те годы, когда тоже ходил в простой мерлушковой шапке, был сам по себе... или... или?
Бату даже вспотел. Все эти россказни про объединённых под началом деда удальцов вдруг рухнули, как юрта без шеста... КТО – как мы сейчас за спиной Делая – СТОЯЛ за его спиной тогда? Нет, он не будет тормошить Маркуза, подумает сам.
Следующей ночью, однако, они опять беседовали в шатре, сидя вокруг приглушённых углей, под сопровождение возобновившегося воя.
– Маркуз, ты отвечаешь только на те вопросы, которые тебе задают. «Дай плоды твои», – сказал невежда мудрецу. «А где корзина твоя?» – спросил мудрец. Так ты меня учил, да. Корзина у меня в руках...
– Ну что ж, слушай и про это...