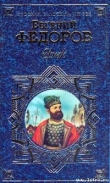Текст книги "Встречь солнцу. Век XVI—XVII"
Автор книги: Николай Коняев
Соавторы: Владислав Бахревский,Арсений Семенов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 40 страниц)
Родился человек, а судьба ему местечко уже приготовила. Родился у боярина – боярином быть, у купца – купцом, крестьянскому сыну – спину гнуть.
Так бы и скрипела телега вечно, да по дороге вышибают сторонние сучья старые спицы.
Ах, молодец Семён Иванович!
Подошёл к Якутску вечером. До города рукой подать. Жена ждёт, еда – с неделю тянул на голодном, – постель тёплая, баня с веничком, с ледяным квасом, а он остановился спать на треклятом снегу.
Явился под стены к заутрене, когда валил в церкви народ и звонили колокола. Как увидали звонари, что возвращается из похода казак, ударили по-праздничному, а люди замешкались на улицах, чтобы встретить удачливого товарища…
Молодец Семён Иванович! Дивились дружки его смётке. Сошёл с коня возле церкви – и на святую молитву. Стоял в своих шкурах, с оружием впереди всех, рядом с воеводами. Первый после воевод Петра Петровича Головина да Матвея Богдановича Глебова подошёл под благословение.
Мало ли казаков возвращалось с удачей, а тут сами воеводы спрашивали у Семёна о делах, дарили по рублю да алтыну на шапку, чтоб видели люди: заслуженный человек перед царём и Россией.
Абакаяда Сичю – солнышко широконосое – встретила Семёна Ивановича сыном.
Два дня не слезал Дежнёв с печи, кости грел.
Притомила его дорога крепко. После церкви, после воеводской милости сходил в баню, забрался потом на печь, и взял его долгий сон. Когда сон прерывался, не вставал, не открывал глаз и сквозь сладостную дрёму слышал, как осторожно и легко передвигается по дому Сичю, как чмокает грудью ребёнок, вздыхает, громко, с облегчением, будто взрослый. Семён улыбался и, повозившись спиной, чуя сквозь тонкую настилку тёплые широкие кирпичи, засыпал счастливый.
Наконец Семён проснулся. Сошёл вниз, скинул рубаху, отёр пот, обсох и, кликнув жену, пошёл в сени.
Сичю лила ему воду на руки, а потом вдруг плеснула ковшиком на загривок. Семён взревел, сграбастал озорницу, поднял, закружил, расцеловал.
Умывшись, утирался расшитым на русский манер полотенцем. Петухи на нём были жаркие, дорожки петушиные – крестиком. Сичю посматривала на Семёна выжидаючи, и он похвалил:
– Молодец, Абакаядушка. Руки у тебя – золото! А теперь сына показывай.
Взял, как травинку. От бороды подальше, не напугался чтоб. Мальчишечка чёрненький, а глаза – синь. Улыбнулся отцу, руками в бороду полез.
– Ах ты, кутёнок-якутёнок, русачок миленький! – восхищённо возрадовался родитель.
– Назвала?
– Тебя ждала.
– Крестить надо! Обоих вас окрещу. У крещёного сына мать крещёная должна быть. Что скажешь, Абакаядушка?
– Ты сказал.
– Я-то сказал, а ты-то как? Согласна?
– Согласна.
– Ну и хорошо. Мы теперь хорошо заживём, голубушка. Мужа твоего сам воевода приметил, пошлёт, глядишь, на хорошую службу. Мы с тобой-то кое-как, а сынок наш богатым будет. Будем с тобой мы, Абакаяда Сичю, зачинателями рода. Хороший род сотворим! Муж не дурак, жена красавица, в дворянстве бы детям ходить. Что скажешь, Абакаядушка?
Абакаяда видела, что муж весел, взяла у него сына, положила в колыбель, а мужа обняла нежно и сильно.
– Любимом назовём сына! – шепнул Семён на ухо Абакаяде, словно тайну доверял.
Абакаяду крестили, и стала она Абакан. Любиму был уже год, Абакан его баловала, а Семён в нём души не чаял.
Летом втроём ушли в тайгу готовиться к зиме. Семён бил зверя, Абакан резала мясо на ремни, развешивала на ветках, сушила. Жир и кровь тоже сушила. Абакан набивала жиром кишки животного, а кровь собирала в рубец. Нимэн – кровяная каша – в почёте у северных людей.
Однажды Семён поймал лисёнка. Обрадованный, потащил его в игрушки крошечному Любиму.
Семён тихо подошёл к юрте и услышал, что Абакан поёт. Поёт чукотскую сказку на якутском языке. Сказка была прекрасна, и у Семёна заныло сердце.
Сел на землю, прислонился спиной к пологу, слушал.
Вышел охотник Итте,
К рыбному озеру вышел,
И солнце стояло алое,
И пламя его весёлое
Трепетало в воде,
Словно цветок нездешний,
Словно светлая рыба,
Та, что с серебряным рогом,
Та, что владеет морем,
Та, что полюбит Итте
За доброту его.
В этом сиянии алом
На глубине глубокой
Плавали светлые рыбы,
А может быть, плавали звёзды.
Может быть, в этом озере
Отдыхали они?
Светлые эти видения
Не ослепили Итте,
Рысьим охотничьим глазом
Лодку увидел он.
Огромную чёрную лодку,
А в лодке сидел неподвижно
Тот, кто скалой казался,
Кого облетают птицы,
Кого не коснётся буря,
Волки пред кем скулят,
Направил на великана
Ловкую свою лодку
Неунывающий Итте,
Итте, не ведавший страха.
– Зачем ты пришёл в наши воды?
Как смел разогнать рыболовов? —
Кинул по ветру Итте
Дерзостные слова.
А тот сидел неподвижно,
Словно камень, задумчивый,
Словно бездна, немой.
Крикнул охотник снова:
– Я – Итте, ты мне не страшен!
Я сети свои забрасываю,
Будто тебя и нет!..
Дальше Семён не слушал. «Неужто, – думал, – Любим якутом вырастет? Мать всегда при нём, мать своему, да ведь не русскому языку научит». Забежал в ярости Семён в юрту и сник. Сидит Сичю, что тебе матерь божия, а Любим за грудь ручонкой вцепился, сосёт молоко и вздыхает от спокойствия, от сладости. Сичю улыбнулась Семёну, глазами показала, где еду взять, а Семён глядит на своих дитятей, и хорошо-то ему и покойно тоже, в пору самому вздыхать, как Любим вздыхает.
Сел Семён возле колыбели, стал рассказывать ему свою русскую сказку, о русских сильных воинах, о славном Илье Муромце.
По морю, морю синему,
По синему, по Хвалынскому,
Ходил-гулял Сокол-корабль
Ни много ни мало двенадцать лет.
На якорях Сокол-корабль не стаивал,
К берегам крутым не приваливал,
Жёлтых песков не хватывал.
Хорошо корабль изукрашен был:
Корма – по-звериному, бока – по-змеиному,
Хозяин-то был Илья Муромец,
Слугою был – Добрынюшка,
Никитин сын,
Было на корабле пятьсот гребцов,
Пятьсот гребцов, удалых молодцов.
Зазрил Сокол-корабль турецкий хан,
Турецкий хан, большой Салтан,
Большой Салтан Салтанович…
Журчала былина по камушкам будто, вспомнилась Семёну русская мурава, ромашки млеют, небо высокое. Прилёг Семён возле сына и заснул. Снился ему Любим-богатырь. Взрослый совсем, натягивает тугой лук, кричит:
Лети, моя калёная стрела,
Выше лесу, выше лесу по поднебесью,
Пади, моя калёная стрела,
В турецкий град, в зелен сад,
Во бел шатёр, за золот стол,
За ременчат стул
Самому Салтану в белу грудь.
Хорошо кричит Любим по-русски, а сам в шкурах весь, северный мужик. Загрустить бы Семёну, а грусти нет, смотрит на Любима, и по нраву ему могучий сын, чернявый, а с глазами синими, будто лен зацвёл.
Наготовив на зиму мяса, наквасив, навялив рыбы, насолив грибов, вернулся Семён Дежнёв в Ленский острог и зажил себе неголодно. Корову купил: опять хлопоты, косил траву, поставил на подворье стог сена – забыл походы.
Да в ту пору как раз вернулся из плавания казак Елисей Буза. Ходил по морям да по рекам Елисей пять лет.
Редкий день стоял в Ленском остроге. Солнечный, тёплый, и вдруг на сторожевой башне пальнули из пушки.
Люди высыпали на реку встречать незнакомые кочи. Богатого и встречают богато, взял Елисей Буза для себя в долгом плавании тысячу восемьдесят соболей, двести восемьдесят соболиных пластин – хребтовая половина соболя, – четыре собольи шубы, девять собольих и лисьих кафтанов, две ферязи.
От воеводы Петра Петровича Головина вышел Елисей Буза и пьян и счастлив: велел ему воевода везти в Москву соболиную казну. Только Елисей перед казаками не зазнался, пошёл с ними в кабак, всех поил и сам пил. Рассказывал о походе пространно, неудач не таил, удачами хвалился, а как же? – удача она и есть удача.
– И вам, казаки, подарочек привёз! – кричал Елисей. – Трёх юкагирских мужиков. Мужики те с секретом. А секрет их – о реке неведомой Нероге[71]71
...о реке неведомой Нероге. – Сведения о богатой серебром реке Нероге, или Нелоге (вероятно, р. Чауна), приносили и другие землепроходцы. Власти придавали большое значение поискам месторождений серебряных руд и обещали за их открытие щедрые награды: ведь Россия не имела тогда своего серебра. Никакого серебра на Чауне не оказалось; вероятно, юкагиры приняли за него какой-то другой металл.
[Закрыть]. На той-де реке Нероге, возле морского устья, в утёсе над водой, – серебряная руда. Стреляют в утёс из лука, и серебряные камни в лодку падают. Сам повёл бы отряд, да велел мне мягкую рухлядь, большую царскую казну воевода наш преславный Пётр Петрович Головин в стольную Москву отвезти.
– Коль серебро на Нероге, недолго нам в Якутске штаны просиживать, – сказал Стадухин. – Спасибо тебе, Елисей, за твоих юкагирских мужиков, соскучились мы тут без хорошей службы. Слава богу, теперь в путь скоро! Государь-царю без серебра, как нам без хлеба.
– Скоро-то, скоро, да вот кого пошлют, – влез в разговор Семён Дежнёв.
– Меня пошлют, – Стадухин гордо, с ухмылкой оглядел казаков. – Ну, а ты не горюй, Семён. Я тебя возьму, уж больно ты здоров уговаривать, самого Сахея уговорил.
На Оймякон, на КолымуМихаил Стадухин был у воеводы Головина. Пётр Петрович встретил неласково. Сам за столом сидел, а гость стоял. Позвал слугу.
– Что принёс нам, знатный казак?
– Лисью шубу да одну пластину соболя.
Головин покосился на Стадухина.
– Обеднял, видно?
– Обеднял.
– Я вас всех за ушко да на солнышко. Воруете у государя. Ни один казну без воровства не сдал. Куда просишься? На Нерогу небось?
– На Нерогу.
– За такую реку, где серебро – лопатой черпай, за службу, которая царю нашему Михаилу Фёдоровичу угодна и люба, лисью шубу принёс? Стыдись, Стадухин. Не видать тебе Нероги. Я добро помню, милостью не обижу, но Нерога – человеку вежливому. Ты у меня пойдёшь на Оймякон. Набирай четырнадцать казаков – и с богом.
Михаил Стадухин поклонился до земли.
– Благодарствую, благодетель мой, Пётр Петрович, за милость твою.
Головин махнул рукой.
– Пошёл, пошёл, да попробуй только с Оймякона-то без собольей шубы на моё плечо прийти! – и засмеялся. Пошутил.
А смех жёсткий, с намёком.
Не прошло и двух недель, а Михаил Стадухин был готов в дорогу. Дежнёв взял с собой жену и Любима, заколотил дом, корову с телёнком отвёл на корм якуту Манякую. Думал через год вернуться, а судьба по-своему распорядилась. По рекам, по морям, по горам и болотам странствовал Семён Дежнёв двадцать лет.
Оружие, одежду, хлеб пришлось покупать на свои деньги. В сто пятьдесят рублей обошёлся подъём. А поход был трудный и небогатый.
Холодно на Оймяконе. С реки Момы да с реки Ламы приходили сюда тунгусы, алданские якуты, а коренных людей не было.
О своей жизни на Оймяконе рассказали казаки в пространной челобитной. Вот она:
«Царю и государю и великому князю Михаилу Фёдоровичу всея Руси бьют челом холопы твои государевы ленские служилые люди: Мишка Стадухин, Артюшка Шестаков, Мишка Коновал, Гришка Фофанов, Семейка Дежнёв, Вавилко Леонтьев, Вторко Гаврилов, Сергейка Артемьев, Артюшка Иванов, Бориско Прокофьев, Ромашка Немчин, Федька Фёдоров. В прошлом, государь, во 7149[72]72
В то время летосчисление велось по библейскому счёту, от сотворения мира. Чтобы узнать год по нашему летосчислению, надо отнять 5508 лет.
[Закрыть] году посланы мы, холопы твои государевы, из Ленского на твою государеву службу на Оймякон-реку к твоим государевым ясачным людям – к якутам, и мемельским тунгусам, и аламунскому тунгусу Чюне ради твоего государева ясачного сбору. Божьей милостью и государевым счастьем с тех якутов и с мемельских тунгусов ясак твой государев на нынешний, на 7150-й год взяли сполна и с прибылью.
В апреле, в седьмой день пришли ламунские тунгусы в ночи войною и казачьих коней побили, и якутских кобыл, и коней побили же и якутов убили пять человек да служивого человека Третьяка Карпова убили, а двух человек ранили, а того Чюну называют холопом. А нынче, государь, служить твоей государевы конные службы не на чем, а в наказе твоём государевом написано, что нам велено проведовати новые земли, а на Оймяконе жити не у чего, никаких людей нет, место пустое и голодное. А которые якуты жили, и они с того разорения пошли на Лену, на старые свои кочевья. Сказывал нам, государь, холопам твоим, якут Ува, что-де есть река большая Мома, а на той-де реке живут многие люди, а тот Оймякон пал устьем в ту Мому. Нынче мы, холопы твои государевы, слышали про ту реку и про те многие люди, пошли на ту реку Мому и тех людей сыскивать – тебе, великому государю, послужить.
Милосердный государь, царь и великий князь Михаил Фёдорович, пожалуй нас, холопов своих, вели, государь, наше бедное разорённое челобитие принять в Ленском Петру Петровичу Головину да Матвею Богдановичу Глебову да дьяку Еуфимию Филатову, чтоб наша бедность и разорение тебе, великому государю, была ведома и про наше службишко было явно.
Царь, государь, смилуйся, пожалуй».
Открыть новую реку – значило учинить прибыль государю, воеводе и самому себе. Открытие ради бессмертия казаков не волновало.
Колыму открыли в 1643 году потому, что до 1643 года казаков устраивали более близкие пастбища. Но людей в Ленском остроге становилось всё больше. Старые казаки из подчинённых вырастали в командиров и, щеголяя друг перед другом, уводили свои отряды на край света и, наконец, достигли его. Когда же эти новые командиры были убиты чукчами, или отосланы с почётом в Москву, или посажены на цепь за воровство, новые простые казаки стали ещё более новыми командирами. Им тоже не терпелось открыть какую-нибудь речку.
А открывали Колыму вот как.
Дмитрий Зырян собрал на Яне соболей, отправил казну в Якутск, а сам пошёл на Индигирку, с Индигирки на Алазею. Там казаки поставили острожек, собрали с юкагиров первый ясак. С казной – в семь сороков соболей – послал Зырян в Ленский острог Фёдора Чюкичева, который и рассказал в Якутске об этом славном походе, о том, как плавали по Индигирке, по морю, по Алазее, как воевали с юкагирским князцом Ноочичаном, как взяли в плен Шамана и Шаман открыл, что от Алазеи в трёх днях езды на оленях течёт в море великая река Колыма, на той реке русских не бывало, а живут на ней бесчисленные люди, и те люди о русских тоже не ведают, а соболей у них, зверя и рыбы что волос на голове.
Из четырнадцати человек Зырянова отряда девять было ранено в боях с Ноочичаном, и на Колыму русские идти побаивались. Тем временем пришли на Алазею морем с Оймякона Стадухин с товарищами.
Для начала казаки передрались, но к Зыряну ездил Дежнёв и уладил дело. Отряды объединили, начальником стал Михаил Стадухин, а Стадухин долго думать не любил, сел на коч, взял с собой одиннадцать казаков – всех своих да Зыряна – и пошёл на Колыму.
Первое зимовье с тыном вокруг поставили в самом устье, на протоке, а потом перебрались пониже, туда, где впадает в Колыму Анюй.
Назвали зимовье Нижнеколымск.
ВоеводаПетра Петровича Головина – ленского воеводу – одолели дурные сны.
Снились ему разбойники. Будто убежал от них в махонькую часовенку, стоит на коленях и молится. Чем больше поклонов кладёт, тем страшнее на душе. Икона перед ним большая, а какой на иконе святой, непонятно. И вдруг та икона начинает хлопать глазами, растворяется вдруг, и выходит на Петра Петровича дьявол с вилами. Смотреть на него нет никакой возможности, а отворотиться назад и того ужасней.
Дико закричал Головин и проснулся. Утро. Дом услыхал крик воеводы и весь на цыпочках.
Пётр Петрович лежит с открытыми глазами, с натугой вспоминает лицо вышедшего из иконы.
Вспомнил. Вскочил.
– Хабаров. Брошка. Эй-й-й!
Влетели в спальню двое стрельцов.
– Взять!
Стрельцы метнулись вон, грохая сапогами. Этот тяжкий грохот, удаляясь, терял крепость, потом сапоги неуверенно и долго топтались на месте, пристыженно шаркали обратно.
– Кого?
Головин тупо и подозрительно смотрит на стрельцов.
– Пошли!
Разметался, задремал.
И опять явился ему с вилами. А лицо-то у него хабаровское.
– Эй-й-й!
Стрельцы врываются в спальню.
– Хабарова взять!
Стрельцы радостно мчатся подальше от воеводы; слава богу – прояснилось. Ерофея Хабарова привезли на следующий день. Он был человеком богатым, имел соляные мельницы, его люди промышляли для него соболя.
Головин сидел в шубе, равнодушный ко всему на свете.
Знали, что в такое время лучше к нему не подходить: очнётся от своих дум – лютует, злой на всех невесть за что.
Юшка Селиверстов, дружок Стадухина, подольстился к воеводе. Уж кто-кто, а он-то знал, когда можно подойти к нему, а когда нельзя. Назло удачливому Хабарову влез Юшка к Головину с известием.
– Хабарова привезли!
Головин вздрогнул, поёжился под собольей шубой. Ему, заприметив дрожь и знаючи, что делать, принесли чару с двойным белым вином. Выпил, махнул рукой, дверь распахнулась, влетел от сильного толчка Хабаров.
– Здравствуй! – сказал ему Головин.
Хабаров сорвал с головы шапку, поклонился.
– Ты не гнись, ты в глаза мне гляди.
Хабаров посмотрел воеводе в глаза. Блестели нехорошо, без усмешечки.
– Посылал?
– Кого?
– Ай не знаешь?
– Не знаю.
– Кнута!
Хабаров оттолкнул налетевших стрельцов. Сам расстегнул кафтан, снял. Повалили, вдарили десять раз.
– Вспомнил?
– Нет.
Дали ещё десять плетей.
– Вспомнил?!
– Вспомнил.
– Что?
– Что тебе хочется, то и вспомнил.
Головин вскочил, швырнул шубу наземь.
– Сны на меня бесовские напускал?
– Не напускал.
– Ещё ему! Ещё!
Опять дали десять плетей. Пошатываясь, Хабаров оделся, пошёл от воеводы. На улице Селиверстов сорвал с него кафтан, плюнул в лицо. Ерофей глянул на него и пошёл впереди стрельцов, посвечивая голым сквозь оборванную рубаху телом, синими да красными рубцами да струйками алой крови.
Навстречу тащили к воеводе на расправу полуживого казака.
– Афонька Науменко, напускал на меня сатанинские сны? – грозно и торжественно спросил воевода.
Афонька поклонился.
– Напускал.
– Ах ты, мерзавец! – Головин подскочил к казаку, вцепился в бороду, дёрнул, и казачья борода осталась у него в руке. Швырнул в ужасе, перекрестился.
– Ты – кто?
– Афонька Науменко.
– Ты – кто?! – завизжал, загораживаясь, как от света, ладонью.
Тут как тут объявился Юшка Селиверстов в богатом хабаровском кафтане.
– Колдун он, Пётр Петрович. Сам признался. Кого хошь испортит, какую хошь бабу присушит.
Головин подобрел.
– Научи, как бабу присушить, колдун Афонька.
– А просто. Возьми лягушку, посади её на другую и в муравейник, а потом говори: «Столь бы тошно было той жёнке по нём Афоньке». От лягушек на третий день останется крючок да вилка.
Крючком подцепи любую жёнку – тебя любить станет. Надоест – вилкой отпихни, чтоб от любви не мучилась.
Головин захохотал.
– А борода-то почему легко оторвалась?
– Слыхал, что ты-то, мол, дерёшь за бороду, покуда не выдернешь, так я её для твоей лёгкости сбрил и опять приклеил.
– Сорок плетей ему – и отпустить мерзавца. Развеселил, дурак.
Головин отправился в амбары. Одни амбары были государевы, другие – его. В государевых было много соболей, а у воеводы соболей было больше. Он покупал их, он брал их взятками, посылал за ними промышленников. Пётр Петрович любил соболя. Эта любовь боком оборачивалась казакам, посылавшим в Ленский острог со многих сибирских рек драгоценный ясак. Вдруг оказалось, что все казаки воры и ни один из них не прислал казну сполна. Казаки ругались, а воевода бил их кнутом, огнём пытал, поднимал на дыбу и строил тюрьмы. В Ленском остроге поставили двенадцать тёмных больших изб, и ни одна не пустовала.
Головин оглядывал свои богатства и думал мрачно: «Москву могу купить».
Не высказывал словами, а про себя знал: нехорошо в Москве говорят о ленском воеводе. Будто бы уже нового послали или собираются послать. Сыскной приказ тоскует по Петру свет Петровичу.
III. НА КОЛЫМЕ
ЗырянПрибежала испуганная Сичю.
– Дерутся!
Семён набросил на плечи шубу, вышел на крыльцо. У сторожевой башни собралась толпа. Возвышаясь на голову над всеми, стояли друг против друга Стадухин и Зырян. Семён опрометью бросился разнимать. Опоздал. Ворвался в круг в тот миг, когда ударил Зырян. Удар вышел больше хлёсткий, чем толковый, но Стадухин упал, и лицо стало заливать кровью. Теперь надо было ждать ответного удара. Стадухин пружинисто выпрыгнул на обе ноги. Поднял правый кулак и стал покачивать телом, набирая разгон для удара. Ударил хитро, левой, под сердце. Пришла Зыряну очередь сидеть на снегу, тереть лицо и ловить ртом ускользающий воздух. Встал. Семён было сунулся в круг, его оттащили. Зырян покряхтел, опустив руки, согнулся раз-другой. Вздохнул.
– Становись! – крикнул.
– Стою, – ответил Стадухин.
Зырян махнул его по боку, сплеча. Михаил подлетел в воздухе, кувыркнулся – и плашмя к ногам неподвижной толпы. От боли пополз на четвереньках, падая грудью на снег, вскакивая и опять падая.
Зырян стоял в середине круга, ожидая, пока противник отойдёт. Михаил пришёл в себя и ударил Дмитрия Михайловича опять под сердце. Дмитрий Михайлович рухнул и не двигался. К нему побежали было, но он сел вдруг, отстранил толпу обеими руками. Откинулся навзничь, подышал и начал подниматься.
– Кончай, мужики, загубите друг друга! – крикнул Семён.
Зырян поискал его глазами, нашёл, улыбнулся.
– Ничего, Семён! Отлежимся. А ты, Стадухин, вставай, бить буду.
Ударил и сам повалился. Лежали голова к голове.
– Мой удар! – цедил сквозь зубы Михаил. – Отдышусь только, вставай.
– Не бойсь! Встану.
– Проклятые! – Семён ударил о землю шапкой и убежал.
Бойцы всё ещё лежали на снегу, когда на сторожевой башне пальнули из большой затинной пищали.
Казаки ринулись по домам за оружием.
Охая, помогая один другому, поднялись драчуны, нашли на снегу кафтаны, натянули их. Путаясь ногами, побежали к сторожевой башне.
На башне стоял Семён Дежнёв.
– Где? – спросил, задыхаясь, Стадухин.
– Здесь, дома. Сами себя забьём до смерти – тунгусам и юкагирам воевать не надо.
Собрались казаки с пищалями, копьями, саблями. Хохотали.
– Миритесь, начальнички! – решили.
– Ладно, – сказал Стадухин. – Мирюсь. Только прежде дай сдачи дам, чтобы зла на тебя не помнить, чтоб всё поровну.
– Бей, – сказал Зырян.
Встал. Стадухин развернулся во всё плечо, казаки аж подзажмурились, а вдарил шутейно, ладонью.
Обнялись. Поцеловались.
– Ко мне пошли! – зашумел Семён. – Коль дело миром, ко мне в дом.
– Абакан! Сичю моя дорогая! Принимай гостей.
Из морошки да из клюквы хмельное на стол явилось. Подавала Сичю по-русски. Сначала в русском сарафане – бойцам, в другом платье, попроще, – другим казакам. И третья смена была, а четвёртая развеселила: вышла Сичю в меховой кухлянке[73]73
Кухлянка – меховая одежда.
[Закрыть].
– Казаки, – закричал Стадухин, – голова я над вами?
– Голова.
– Так что ж вы, сукины дети, жену мне не найдёте. Надоело на чужих глазеть, чужому счастью завидовать. Находи мне жену – и всё!
– Найдём, Михаил сын Васильевич! – гаркнули.
– Коль так! А ну-ка сбегайте в мою избу, принесите-ка вина белого. Стадухин – человек богатый, угощает!
Семён осторожно стал выспрашивать, из-за чего приключилась драка. Зырян отмахнулся.
– Поспорили о том, где не бывали, чего не видали. Из-за Новой Земли.
– Я говорю, – вмешался Стадухин, – что Новая Земля не остров[74]74
...Новая Земля не остров... – Существовало мнение, что все острова Северного Ледовитого океана составляют единую землю («каменный пояс в море»). Позже, после открытия Аляски, и её стали считать продолжением этого «пояса».
[Закрыть], а пребольшая и чудесная, знать, страна. Идёт она долго Севером до самой Яны и до Большого Каменного Носа. Когда на Яне службу государеву несли, видел я с товарищами землю эту, высокую, ледовитую.
– А я чаю, – объяснил Дежнёву Зырян, – велика больно получается земля эта. Я чаю – нет земли, а вот островов в Студёном море несчётно.
– Есть земля на Студёном море! И великая та земля. Холодная, как у нас, а потом тёплая, как в Китае.
– Нет земли – острова…
Мудрый Дежнёв поспешно встрял в разговор.
– А я вот про мамонтов думаю. Большой был зверь, да и тот от холода весь извёлся. Знать, и на Колыме тепло в давние времена было. А потом лёд одолел. Вот я и думаю: а может, когда море не Студёным, а тёплым было, были в нём острова, а как наступил холод, так острова те льдом срослись и стали сплошным камнем от Новой Земли до Большого Носа.
Стадухин засмеялся.
– Мели, Емеля, твоя неделя.
Подоспело белое вино. Пили. Хмелели.
– А ну-ка, Семён, шахматы ставь! – крикнул Стадухин.
Шахматы Семён выставил, обыграл быстро. Стадухин вспылил:
– Знаю, что силён ты. Давай так.
Снял у Семёна королеву, туру и пешку.
– Обыграешь – три четверти хлеба с меня, выиграю: жену твою три раза поцелую.
– Не пойдёт. Жена моя – человек, не вещь.
– Гордый ты больно, Семён. А я начальник твой. Кто вас на Колыму привёл? Я, Стадухин. Играй! Не хочешь, чтоб жену твою целовал, весь хлеб твой заберу, проиграешь если.
Казаки примолкли, посматривали косо: уж больно куражился Михаил Стадухин. Был он пьян-пьян, а смекнул, что выгоднее всего разменять фигуры баш на баш, а там королева останется, тура – несдобровать Дежнёву.
Пока охотился за конём, попал в ловушку – королеву за слона пришлось отдать. Коня прозевал. Сменял туру за другого слона Дежнёва. Хоть сил побольше осталось, да Дежнёв пошёл конями пешки щёлкать, а потом двинул свои, и пришлось Стадухину менять на них фигуры. Играл до самого мата и получил его.
В ярости через стол кинулся на Дежнёва, схватил за грудки, рванул. Кафтан на Семёне лопнул, и увидели на его груди кожаный мешочек.
– Бедняком прикидываешься, а денежки на груди носишь.
Сорвал мешочек, и выпало из него письмо на пергаменте. Потянулся к нему рукой, а Семён сплеча по лапе. Подхватил письмо – и к стене, на которой сабля висела.
Протрезвел Стадухин. Глаза сощурил.
– Три чети хлеба завтра получишь. Моё слово – слово. Кафтан сегодня пришлю. Всем готовиться к походу. Добирать с тунгусов ясак, в Якутск пора казну везти. Реки вот-вот вскроются…
Пошёл из избы, казаки за ним.
Зырян один позадержался.
– Не врага ли нажил себе, Семён?
– Похоже. Да бог милостив.
– Особо не пугайся. В обиду не дадим. А письмо, что на груди носишь, спрячь получше. Не даст оно покоя Стадухину.
– Спасибо, Зырян. Бог милостив.
Ясак собрали, как всегда, с прибылью. Собрали миром, только род красавицы Калибы встретил русских войной. Взяли соболей силой, а Калибу взял в жёны Стадухин. Заприметил он девушку, вошёл к ней в юрту и вылетел кубарем. Калиба мимо него – и бежать. Казаки погнались за ней, а Стадухин на них волком: «Сам догоню!» Полдня где-то носились, а к вечеру привёл Стадухин в казачий лагерь довольную, успокоенную жену.
– Ну, теперь можно и в Якутск, – сказал Стадухин. – Собирайся, Зырян, с тобой казну повезём, за нас на Колыме Семейка Дежнёв останется да Иван Беляна.
Невесело было, когда пошёл вниз по Колыме ладный коч Стадухина. Уходили в поход товарищи, оставляли на трудную жизнь. Узнают юкагиры да тунгусы, что русских в Нижнеколымске осталось вдвое меньше, поднимутся войной, пойдут отбивать аманатов[75]75
Аманаты – пленники.
[Закрыть].