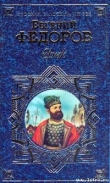Текст книги "Встречь солнцу. Век XVI—XVII"
Автор книги: Николай Коняев
Соавторы: Владислав Бахревский,Арсений Семенов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 40 страниц)
ПРОЩАНИЕ
Острог располагался на северном берегу реки Большой, вёрстах в тридцати от устья. Крепость стояла на отвесном мысу и со стороны реки была недоступна неприятелю. Палисад из заострённых поверху брёвен защищал её со стороны тундры. За палисадом возвышались травяные крыши нескольких домов, конёк казармы, шест с петухом-вертушкой над приказчичьей избой, шатры балаганов, поднятых по камчадальскому обычаю на высоких столбах, крест часовенки во имя Николая Чудотворца, выстроенный казаками по настоянию Мартиана. Входом в крепость служили узкие ворота со сторожевой вышкой над ними.
Всего в остроге не насчитывалось и дюжины строений. Лишь несколько казаков, подобно Козыревскому, срубили себе избы и решились добровольно осесть на Большой реке. Большинство же постоянно жили в Верхнекамчатском остроге и ожидали подмены. Там, в Верхнекамчатске, лето было намного теплее здешнего, а зима суше, и казаки неохотно отправлялись на годичную службу в Большерецк, где даже и леса-то, годного на постройки, поблизости не было.
Толкая бат шестом вверх по течению реки, Козыревский думал о том, как он удачно купил недостроенную избу у казака, который не вынес сырости западного побережья и переселился в Верхнекамчатск. Избу он продал почти даром, за десяток соболей. Козыревскому пришлось сплавлять лес только на стропила да пристройки. И теперь у них с Завиной есть прочное и надёжное жильё. Он мог бы пригласить в гости братьев, Михаила с Петром, – жаль, что их в Большерецк никакими пряниками не заманишь. Наслышались они у себя в Верхнекамчатске, будто на Большой реке от сырости у людей начинает портиться кровь и тело покрывается язвами. Казаки и в самом деле страдают здесь от чирьев, однако про то, что кровь портится, брешут зря.
Завина сидит на носу бата и блаженствует. Вон как порозовели у неё щёки от речной свежести, как блестят глаза. Ещё бы! У них теперь есть настоящая лодка!.. Всю зиму она плела со служанками сеть из крапивных ниток. Скоро пойдёт рыба, и они наловят её вдоволь: и себе, и собакам, которых купят к зиме. Собачья упряжь уже припасена, и санки есть, – значит, зимой они без дров не останутся.
Большая река возле острога разбивается на множество рукавов, обтекая заросшие ветлой и тальником острова. Протока, омывающая берег, на котором стоит крепость, неглубока, однако дна в ней сейчас не видно: бегущую воду сплошь покрывает чёрная сажа, которая выпала из утренней тучи. Зловещая сизо-чёрная туча эта и сейчас видна над горами. Она закрыла снежные ожерелья горных пиков, встающих впереди. Там, в хребтах, ещё стоит холод. А здесь, в долине, уже распустились деревья и солнце греет по-летнему, как оно греет только на исходе мая и в начале июня. Во всё остальное время в здешних местах выпадает мало солнечных дней и над острогом почти постоянно висит сырая морось.
Вместе с приходом тепла ожил в тундре гнус. Над поймой висят зыбучие комариные облака. Однако им с Завиной гнус не досаждает. Завина, как и все камчадалки, умеет готовить из багульника отвар, отпугивающий комаров. Этим отваром они предусмотрительно смазали лицо и руки перед прогулкой. На Завине лёгкая летняя дейша с капюшоном, опушённая мехом морского бобра, и мягкие кожаные штаны, заправленные в красные сапожки, сшитые чулком из лахтачьей шкуры. Она не любит юбок, в которых ноги путаются во время ходьбы, и предпочитает, по обычаю камчадальских женщин, носить штаны, не стесняющие движений. На шее у неё ожерелье из красных утиных клювов. Выходя из дома, она всегда надевает его. Утиные клювы, по убеждению камчадалов, приносят счастье.
Козыревский, войдя в азарт, всё сильнее толкается шестом о дно протоки, и бат, выдолбленный из ствола тополя, легко разрезая встречную воду, несётся вперёд, узкий, как игла. Сопротивление речного потока почти не чувствуется. Благодаря нашитым на борта доскам, лодка устойчива на воде. Козыревский специально нашил эти доски, чтобы бат не опрокинулся от неосторожного движения: Завина, как и все камчадалы, не умеет плавать.
В речной пойме кипит своя жизнь. Где-то в кроне ветлы кукует кукушка, на галечных отмелях возле островов бродят в воде кулики и зуйки. Клесты, чечётки и дятлы снуют над островами. Стаи ворон, вспугнутые появлением лодки с людьми, лениво поднимаются с песчаных кос и перелетают подальше от опасности. Высматривая добычу, высоко над поймой кружится ястреб.
– Ещё быстрее, – просит Завина, и Козыревский так налегает на шест, что бат с одного толчка вылетает вперёд на несколько саженей.
Поднявшись вверх по реке версты на четыре от острога, Козыревский разворачивает бат и садится на его дно, вытянув ноги. Теперь они плывут вниз по течению. За всё время его пребывания на Камчатке ему, кажется, никогда ещё не было так хорошо. Завина жмурит глаза от солнца и улыбается. Словно преисподняя, лежит перед ними окружающий мир, седой и чёрный от сажи и пепла. Черны деревья и кусты, черны берега. Однако не злые духи обитают здесь. Миром этим правит молоденькая светлолицая женщина с большим весёлым ртом и хрупкой фигурой подростка. Подумав так о Завине, Козыревский смеётся, и смех Завины перекликается с его смехом. Они хохочут, как сумасшедшие.
– Выйдем на берег! – предлагает Завина, и Козыревский причаливает к песчаной косе. Взявшись за руки, они пробираются сквозь кусты и не спеша выходят на речной косогор, с которого им открывается широкая каменистая тундра, огороженная грядами сопок и пересечённая заросшим ивняком и тальниками ручьём.
Смех замирает у них на губах. Вдали, прижимаясь к гряде сопок, движется в сторону верховий Большой реки длинная цепочка людей. Судя по копьям, которые имеются у всех, это камчадальские воины. Почему они идут словно крадучись, почему обходят казачий острог далеко стороной?
Припав к земле, Козыревский с Завиной долго наблюдают их шествие, в котором чувствуется что-то грозное.
– Ты побудь здесь, а я пройду кустами вдоль ручья поближе к ним, – внезапно принимает решение Иван. – Погляжу, что за воины, чьи они, Карымчины или Кушугины.
Скользнув, словно ящерица, Иван быстро достиг зарослей. Ручей мелок, всего по щиколотку, и Козыревский, отодвигая руками ветви, когда они загораживали, ему путь, быстро двигался к гряде сопок по выстеленному крупной галькой ложу ручья.
Он приблизился к воинам на такое расстояние, что хорошо можно было разглядеть их лица, – как раз в тот момент, когда те пересекали ручей. Затаившись в кустарнике, он следил за ними до тех пор, пока они не перешли ручей вброд и не скрылись вдали. Ни одного знакомого лица среди воинов он не разглядел, хотя знал почти всех людей лучшего князца низовий реки Большой, – толстого, добродушного, плутоглазого Кушуги, а равно и воинов Карымчи, чьи стойбища раскинулись в верховьях реки. У идущих впереди воинов он хорошо разглядел болтавшиеся на копьях пучки перьев ворона и куропатки, тогда как отличительными знаками родов Кушуги и Карымчи были перья ястреба и кедровки. Чьи же это тогда воины? В окрестностях острога ни один род не носит ни перьев куропатки, ни перьев ворона. Надо спросить у Завины.
Дождавшись, пока последний воин скрылся за сопками, Иван заспешил обратно.
Завина объяснила Козыревскому, что вороново перо – отличительный знак родов, обитающих на реке Кихчик, а перья куропатки носят, выступая на военную тропу, воины с реки Нымты.
Козыревский задумался. Названные Завиной реки текли в Пенжинское море верстах в сорока-пятидесяти севернее Большой, и Козыревский не знал отличительных знаков воинов этих родов только потому, что сам он в составе отряда Данилы Анцыферова всегда ходил на сбор ясака лишь в верховья Большой и на реку Быструю, а на те реки ходил другой отряд сборщиков ясака, – надо будет спросить у казаков того отряда, не замечали ли они чего-нибудь необычного в поведении кихчикинских и нымтинских камчадалов в последнее время.
Должно быть, утренняя тревога Завины, вызванная известием, что камчадалы зачастили друг к другу в гости, была далеко не напрасной. В тундре явно что-то замышляется. Вероятно, камчадалы с северных рек решили напасть на камчадалов реки Большой – вражда в этих местах была до прихода казаков постоянной, и, видимо, по какой-то причине вспыхнула вновь. Карымча, должно быть, узнал уже, что на него готовится нападение, и предпринимает ответные меры, раз Завина утверждает, что камчадалы Карымчиных и Кушугиных родов наезжают друг к другу в гости.
Козыревский встревожился теперь не на шутку. Если вокруг казачьего укрепления вспыхнет междоусобная война, казакам, дабы прекратить её, придётся волей-неволей принять чью-либо сторону, и тогда прощай мирная жизнь.
Если бы Козыревский мог сейчас, подобно ястребу, парящему над поймой, окинуть взглядом землю с высоты вёрст на тридцать вокруг, тревога его возросла бы во сто крат. Кроме отряда, случайно замеченного ими невдалеке от острога и державшего путь к стойбищу Карымчи, он увидел бы ещё несколько отрядов камчадальских воинов, стягивавшихся к стойбищам выше и ниже острога. Одни из этих отрядов держали путь с севера, другие с юга. По побережью Пенжинского моря шёл от Курильской Лопатки к Большой реке отряд курильцев, одетых в птичьи кафтаны и рыбьи штаны. По направлению движения этих отрядов можно было бы заключить, что центром, к которому они притягивались, словно магнитом, был казачий острог.
Но Козыревский этого видеть не мог. Решив, что готовится нападение на стойбище «родственника» Завины, князца Карымчи, Иван хотел посоветовать Ярыгину немедленно отправить к тойону гонца с известием об опасности. Казакам было известно, что, ведя войну друг с другом, камчадалы никогда не действуют отвагой, но одной лишь хитростью, стараясь захватить неприятеля врасплох. Увидев, что воины Карымчи готовы к отражению нападения, чужой отряд повернёт назад не солоно хлебавши.
Столкнув бат на воду, Иван с Завиной понеслись к крепости, держась на самом стержне, чтобы течение помогало им в их бешеной гонке по реке.
На берегу возле крепости двое казаков и Семейка Ярыгин стаскивали на воду лодки.
– Куда собрались? – спросил Иван.
– На устье, собирать птичьи яйца! – весело откликнулся Семейка.
– Осторожней держитесь! – предупредил Козыревский. – В тундре вооружённые камчадалы бродят. Как бы не наскочили на вас.
Казаки с полнейшим равнодушием приняли его слова: пусть, дескать, бродят, их дело. А что касается наскока на них, так это вовсё дело немыслимое. Слыхом не слыхивали, чтоб кто-нибудь из здешних камчадалов захотел поживиться за счёт казаков.
Зато начальник острога отнёсся к словам Козыревского гораздо серьёзнее. Иван посвятил его и в содержание утреннего своего разговора с Завиной. Для Дмитрия Ярыгина объяснение Завины, знавшей все здешние обычаи, почему камчадалы разъезжают по гостям, невзирая на то, что начиналось страдное время – уже в реках рунный ход рыбы был на носу, – показалось убедительным. Он обещал удвоить в крепости ночные караулы, а к Карымче тотчас же был отправлен гонец.
– Совсем некстати тундра зашевелилась, – озабоченно попенял Ярыгин Козыревскому, морща сухое кирпичного цвета лицо. – Годичный ясачный сбор не успел я в Верхнекамчатск отправить. В случае какой заварушки в тундре не успеем доставить ясак к сроку. Хотел нынче же Анцыферова с ясаком из крепости выпроводить, да вишь, Иван, беда какая, кроме всего прочего, вышла – эти жеребцы устроили вокруг бочки с вином такую возню, что мой писчик упал и сломал ногу. Кого теперь посылать с Данилой Анцыферовым в Верхнекамчатск – ума не приложу. Тамошний начальник острога. Костька Киргизов, облапошит моих казаков на приимке ясачных сборов, коль не будет с ними писчика. Знаю я этого хромоногого беса; увидит, что из моих казаков никто не умеет читать записи в ясачной книге, и сразу пойдёт крутить – не так-де записано, там лисы-де не хватает, а тут двух соболей. Хорошо, если обкрутит наших на самую малость. А взбредёт какая блажь в башку, так и вовсе наши казаки целого сорока соболей недосчитаются, – чую, так и будет.
Искоса глянув на Ивана, Ярыгин поерошил квадратную, словно обрубленную бороду, спросил с сомнением:
– А что, правду говорил Анцыферов или брехал, будто ты грамоте знаешь?
– Грамоте я обучен с молодых ещё лет, – отозвался Козыревский, стараясь не выдать сразу ударившего в голову волнения.
– И цифирь знаешь?
– Не только цифирь, но и чертёж, и роспись земель могу сделать при нужде.
– Как так, и чертёж земель можешь составить? – совсем удивился Ярыгин. – Отчего ж мне про то твоё умение ничего не ведомо?
– А не ведомо потому, что запрещено нас, Козыревских, допускать к бумаге и чернилам.
– Кем запрещено?
– Воеводской канцелярией по указу воеводы Ивана Гагарина.
– За какую провинность?
Козыревский рассказал о челобитной казаков, жаловавшихся на самоуправство воеводы, о том, что челобитную эту писал его отец, а воевода по доносу какого-то своего заушника ту бумагу перехватил, не допустив, чтоб ушла она в Москву.
– А ты из каких же Козыревских будешь, уж не корня ли Фёдора Козыревского, сына боярского.
– Корня, верно, того самого. Дед мой, Фёдор, был взят в плен под Смоленском, отправлен на службу на Новые Ленские земли и, как шляхтич, пожалован в дети боярские по городу Якутску.
– Так вон оно что! Слыхивал и я, что дед твой в книжной премудрости силён был. Будто даже книги поганых латинских сочинителей читать мог. Верно ль это?
– Да будто бы верно, говорил что-то батя про это. Да ведь дед в одном из даурских острогов, где он начальником служил, от цинги помер, когда мне ещё и девяти лет не было. Только и успел меня да старшего брата псалтырь читать научить. Потом уж меня с братьями отец доучивал, грамоте и цифири. Ну мы, понятно, хоть и грамоте обучены, а из-за отцовской челобитной принуждены теперь в простых казаках служить. Отец, правда, был одно время десятником, здесь уже, на Камчатке, да вскоре погиб от камчадальской стрелы.
Ярыгин озабоченно посопел, пожевал губами и вдруг улыбнулся.
– Слышь-ка, Иван, а ведь после Гагарина сколько уже воевод в Якутске сменилось! Может, в воеводской канцелярии уже давно затерялась та бумага с запрещением допускать вас к перу и чернильнице. А не затерялась, так всё едино: семь бед – один ответ. Назначаю я тебя своим писчиком на полное жалованье. Пойдём, бумагу тебе на то выправлю.
– А может, ты сам, Дмитрий, в Верхнекамчатск пойдёшь с ясачной казной? В случае чего с тебя сурово спросить могут.
– То не твоя забота! – обрезал Козыревского Ярыгин. – И притом ты, должно, совсем ослеп. Не видишь разве, хожу согнутый хуже старой карги. Поясница совсем застужена, прямо огнём горит, да и ноги того и гляди отнимутся. По тундре я и десяти вёрст не пройду.
Махнув рукой Завине, чтобы шла домой, Козыревский вслед за Ярыгиным отправился в приказчичью избу.
Выдав Ивану бумагу, заверенную своей подписью, начальник острога предупредил:
– Смотрите там, не торчите в Верхнекамчатске без дела. Я уже наказывал Анцыферову, чтоб вернулись раньше, чем рунный ход рыбы кончится – не то голодовать нам в крепости зимой. Киргизов пусть заменит мне казаков, которым срок службы в Большерецке вышел. Да глядите, чтоб людей не дал меньше, чем было. По пути отсюда доберёте ясак в двух стойбищах камчадальских на реке Быстрой. Будешь при Даниле Анцыферове и за толмача, раз язык камчадальский знаешь.
– А соболей получать за службу как буду?
– А так и будешь получать. Отдельно, как писчик, и отдельно, как толмач. У меня в остроге людей лишних нету, чтобы ещё толмача с Анцыферовым отпускать. Мою чащину тоже бери на себя. Вернёшься – дашь отчёт.
У Ивана захватило дух. Брать чащину как толмачу и как писчику отдельно! Да ему же достанется с двух острожков камчадальских не меньше целого сорока соболей. Простому казаку, чтобы получить столько, надо прослужить даже на богатой соболем Камчатке целый год! Ну, будет теперь у них с Завиной на что поправить хозяйство!
– Чего стоишь столбом! – нахмурился Ярыгин. – Иди, собирайся в дорогу да с молоденькой жёнкой своей прощайся. И не забудь прихватить кольчугу, раз в тундре неспокойно. Вот тебе ясачная книга за всеми печатями.
Приняв ясачную книгу, Козыревский удивлённо переспросил:
– Прямо сейчас, что ли, отправляться?
– Что ли, что ли! – сердито передразнил его начальник острога. – Ему, можно сказать, удача привалила, а он тут рассусоливает. У казаков всё к выступлению давно готово. До вечера успеете вёрст двадцать отмахать. Солнце-то ещё на полдень не встало... Припасов, кроме оружия, никаких брать не надо. Для писчика тюк с припасами уже упакован. Теперь этот тюк будет твоим. Понял?
Кивнув, Козыревский шагнул за порог. Вот тебе и на! В мгновение ока судьба подняла его за шиворот выше креста крепостной часовни. Ну и Ярыгин! Крут, что кипяток, и решителен до отчаянности. Предписания воеводской канцелярии не убоялся!
Как-то воспримет Завина известие о том, что он надолго уходит из крепости?
Завина, едва он переступил порог, кинулась к нему на грудь, прижалась щекой к его кафтану, упрекая его за то, что он так долго засиделся у Ярыгина – обед давно остыл. Но в этом её порывистом жесте прочёл он и другое: все её утренние страхи вновь ожили, едва она рассталась с ним.
Как ни оттягивал Козыревский время перед объяснением, медленно, слишком медленно хлебая уху из миски, которую поставила перед ним Завина (вкуса ухи он совсем не чувствовал), надо было сказать ей, что пора прощаться. Однако язык не повиновался ему.
Пряча глаза, он встал из-за стола, снял со стены кольчугу и, надев её поверх нижней рубахи, повернулся к столу, за которым, уронив руки на колени, сидела Завина, следя за ним полными отчаяния глазами.
– Нет! – жалобно сказала она.
– Да! – подтвердил он. – Ярыгин посылает меня в Верхнекамчатск. Придётся тебе побыть это время со служанками.
Он подошёл, чтобы обнять её на дорогу, намереваясь тут же выйти из дому, пока она не опомнилась. Однако она отстранилась и стала настойчиво умолять, чтобы он взял её с собой.
– Завина! Ну зачем тебе тащиться в такую даль? Казаки засмеют меня, что держусь за бабью юбку.
– Не бросай меня здесь! Я боюсь! – настаивала она. – Если ты меня оставишь одну, мы больше никогда не встретимся. Слышишь?
Она заметалась по избе, пихая в кожаную суму дорожные вещи. Натыкаясь на стол, стены, точно слепая, она была вся словно в лихорадке.
– Ну, будет! – решительно сказал Козыревский. – Что за глупости!
Поняв, что всё напрасно, она выронила суму, без сил опустилась на лавку, словно неживая. Козыревский быстро подошёл к ней, поцеловал в волосы, сжал ободряюще её хрупкие плечи и выскочил из дома, сам готовый взвыть от тоски и горя.
Кроме Анцыферова и Козыревского, для сопровождения ясачной соболиной казны были назначены Григорий Шибанов, Харитон Березин и Дюков с Торским. Вместе с ними покидал крепость и архимандрит Мартиан. За носильщиков шли двенадцать камчадалов. Все казаки и носильщики были уже в сборе и готовы тронуться в путь.
Носильщики вскинули на спины тюки с пушниной и припасами, казаки подняли на плечи каждый свою кладь и, прощально махая руками остающимся в крепости, потянулись из острога.
Завина вышла на крыльцо своего дома, бледная и окаменевшая, и проводила Козыревского взглядом до крепостных ворот.
Когда отряд отошёл уже на версту от крепости, Козыревский оглянулся назад.
Чёрные строения на чёрной тундре показались ему зловещими. Чёрным был даже крест часовни.
– Что это ты, Иван, оглядываешься, аль огниво с трутом дома забыл, боишься теперь окоченеть в тундре без костерка? Могу отдать тебе своё, чтоб было чем погреться, – пошутил кто-то из казаков.
– Довольно! – оборвал шутника Анцыферов, заметив, что Иван совсем посмурнел.
Шутник сразу прикусил язык: Анцыферова не только любили товарищи, но и побаивались.
А Козыревского охватило смутное тяжёлое предчувствие, словно крепость он видит в последний раз.
Но постепенно весёлые шутки товарищей развеяли душевную его смуту, словно тучу утренней сажи.
НА ПЕПЕЛИЩЕ
Семейка Ярыгин гнал бат к устью вслед за батами двух других казаков, Никодима да Кузьмы, мужиков вёртких и ершистых, сноровистых в любой работе, держась всё время на стремительном стрежне, который петлял туда-сюда по речным рукавам между островами. Лодки выносились то к правому, то к левому берегу, словно ткацкие челноки, снующие по основе. Полоса чёрного пепла, выпавшего над рекой, вскоре ушла в сторону, и сочная зелень поймы весело играла в солнечном свете. Билась на ветру густая листва ветляников, ивняков и стоящих редкими рощицами на островах тополей, каждый лист которых мерцал серебристой изнанкой. На холмах коренного берега шелестели светло-зелёные кроны берёз, дальше по всем склонам пологих сопок лежали тёмные заплаты ползучих кедрачей, над которыми висело лёгкое голубое небо с редкими цепочками белых облаков.
Как только отошли от крепости, плавание сразу превратилось в сумасшедшую гонку. Бат у Семейки был легче и уже, чем оба идущих впереди, и ему пока удавалось не отставать от взрослых. Промелькнуло в стороне стойбище Кушуги, где, как успел заметить Семейка, царило большое оживление: должно быть, камчадалы готовились к каким-то игрищам; пролетел мимо Горелый утёс, отмечавший для казаков третью часть пути до устья, остались позади Зыбуны, а передние баты всё не сбавляли хода. Наконец, когда он совсем выбился из сил, казаки круто свернули к левому берегу. Там, на невысоком мысу, стоял тёмный, словно врезанный в небо, крест.
Казаки, а вслед за ними и Семейка, вытащив баты на песок, поднялись на мыс. Возле креста Никодим с Кузьмой скинули шапки. Крест этот они поставили сами. Под крестом лежал их товарищ, вместе с которым три года назад они пришли на Камчатку из Якутска. Прошлой осенью казак утонул на этом месте, выпав из опрокинувшегося бата в уже покрывшуюся ледяной шугой реку.
– Вот, Семейка, – грустно сказал Никодим, перекрестив чёрную соболиную бороду, – тут добрый казак похоронен. На Камчатку он ходил ещё с Атласовым. Да и нас сманил сюда.
– Сманил, как бог свят, сманил, – подтвердил сивый как лунь Кузьма. – Сулил удачу и прибыток. Да сам-то ни удачи, ни прибытку не дождался. А в Якутске его молодая жёнка с двумя малыми ребятишками ждёт. До сих пор отписывать ей не решаемся. Убьёт горе молодку. И-эх...
Горестно махнув рукой, он стал спускаться вниз к реке. За ним последовали и Никодим с Семейкой.
Отплыв от мыса, Семейка несколько раз оглядывался назад, где чернел крест, словно врезанный в небо. Ни за что не хотел бы он лежать там, на открытом всем бурям и непогодам мысу. Смерть – это его не касается. Хоть и дерётся папаня, а жить хорошо. Вон как греет солнышко, какая свежесть исходит от реки, горчинкой отдаёт во рту ветер, напоенный ароматом распустившейся листвы и цветущей тундры. Хорошо, да и только!
Вёрстах в трёх ниже мыса острова пошли реже, речные русла слились в одно, широкое и спокойное, и ход батов замедлился. Семейка поравнялся с казаками.
– А ты ловок, хлопчик, – сказал ему Никодим. – Не отстал от нас. Подрастёшь – настоящим казаком станешь.
– То батькина хватка у него, – вступил в разговор Кузьма. – У Дмитрия рука что кремень. Не глядит, что простуда его скрючила, целый день на ногах. От цепкого дерева и семя упорное.
– Я, – сказал Семейка, – ещё на руках умею ходить. Саженей двадцать пройду – и хоть бы хны. А папаня на руках ходить не умеет.
Казаки рассмеялись.
– Сыны всегда должны батьков переплюнуть, – хитро заметил Никодим. – На том и жизнь стоит. Однако же на руках по малолетству и я хаживал.
– Ладно, – согласился Семейка, – раз так, тогда скажите, какая это птица вон в том кусту голос подаёт.
Казаки повернули голову в сторону ивового куста, росшего на песчаной косе возле берега, откуда доносилось отчётливое ку-ку.
– Аль мы кукушку не слыхивали? – снисходительно усмехнулся Кузьма.
– А вот и не кукушка вовсе! – уверенно сказал Семейка. – У кукушки голос глухой и ровный, а у этой птицы – слышите? – в горле будто дребезжит что-то.
Казаки прислушались.
– Верно, – согласился Кузьма, – вроде охрипла кукушка. Простудилась, должно.
– Да не кукушка это, а сорока! – выпалил Семейка.
– Ну, это ты брось, – отмахнулся Никодим, глядя тёмными недоверчивыми глазами на подростка. – Разыграть нас надумал, а? Признайся.
– Давайте пристанем и посмотрим, – предложил Семейка, разворачивая бат поперёк течения.
– Что ж, посмотрим, – согласились казаки.
Баты ткнулись с шорохом в песчаную отмель, и они выбрались на берег, окружая куст. Когда до куста оставалось шагов десять, из него с шумом вылетела сорока и, застрекотав уже на своём заполошном языке, переметнулась в кусты подальше.
– Видели? – спросил Семейка.
– Видели, – озадаченно согласились казаки. Кузьма поскрёб свою сивую бороду и добавил: – Хлопчик-то прав оказался. Я вроде слышал и раньше от кого-то, будто сорока пересмешничать умеет, да самому подглядеть того не доводилось. Ишь ты, хлопчик-то, оказывается, глазаст да остроух.
Они снова столкнули в воду баты. Семейка, довольный победой в споре, то и дело выносился вперёд, краем уха прислушиваясь к разговору казаков.
– Сороки, они ещё и не то могут, – гудел Никодим. – У меня надысь свинцовая сечка пропала. Только я её нарубил, отвернулся на минутку, оглядываюсь, а половины сечки как не бывало! Тут как раз эти воровки возле крыльца крутились. Ну, шуганул я их, да ведь свинца не вернёшь...
– То верно, сороки тащат всё, что плохо лежит, – соглашался Кузьма. – Тряпку ли красную, медяшку ль блестящую...
Семейка, нисколько не смущаясь, встревал в их разговор. Он нашёл теперь общий язык с казаками. Больше они не обижали его снисходительностью и держались с ним как с равным себе.
До устья они доплыли часа за два. Почти в самом устье Большая река принимает в себя речушку Озёрную, текущую с юга и отделённую от Пенжинского моря только высокой песчаной кошкой. Морские воды, просачиваясь сквозь песок, смешиваются с водами Озёрной, и вода в ней солоновата на вкус. Сюда, в эту речушку, и свернули казаки. Правый берег её был сухой и песчаный, густо заросший высокой беловатой травой, жёсткие рубчатые стебли которой и колосья напоминали пшеницу. Из травы этой камчадалки плетут рогожи, употребляемые в юртах и балаганах вместо ковров и занавесей. По левому берегу лежала топкая тундра, полная вымочек и маленьких озёр. Там, на кочках, гнездились утки, чайки, гагары, густо кружившиеся над побережьем. Но настоящее птичье царство открылось казакам, когда они поднялись по реке до её истока, широкого тихого озера. На озере возвышались два заросших осокой и кочкарником островка. Когда баты приблизились к первому из них, из травы поднялась такая туча птиц, что потемнело небо над головой.
– Ну, будем с добычей! – весело заметил Кузьма.
– Да, птиц тут нынче вроде ещё больше, чем в прошлом году, – согласился Никодим. – Запасёмся яйцами на целый год.
Баты шли вдоль низкого, с подтёками ила, берега.
Наконец нашли сухое местечко и причалили к островку. Быстро вытащили из батов лёгкую поклажу и оружие, вытянули лодки на песок. Чайки и утки с сердитыми криками кружились над самой головой незваных гостей. Птичьи гнёзда были повсюду. Они располагались так близко друг от друга, что оставалось удивляться, как пернатые отличают свои гнёзда от гнёзд соседей. В соломе, свитой наподобие опрокинутой папахи, в застеленных пухом углублениях и даже просто на земле, выкатившись из гнёзд, лежали тысячи яиц, поблескивая жемчужными скорлупками.
Казаки собирали их в полы кафтанов и сносили к батам. Семейка рвал траву и застилал ею дно бата. Затем он укладывал яйца в ряд от носа почти до самой кормы, оставляя только место для гребца. Поверх первого ряда снова стелил траву, а на неё опять укладывал яйца. Так они работали до тех пор, пока первый бат не был загружен яйцами доверху.
Потом разожгли костёр, сварили вкрутую десятка два яиц в чайнике и вывалили их на разостланную чистую траву, служившую им вместо обеденной скатерти. Никодим достал из-за пазухи тряпицу с солью, и началось пиршество. Семейка попробовал всяких яиц – и утиных, и чаячьих, и гагарьих. У гагарьих яиц белок имел синюшный оттенок и был твёрже прочих.
С истошным надоедливым визгом над костром носилась большая красноглазая чайка. Она кружилась, стелилась почти по самой земле, едва не задевая крыльями казаков. Должно быть, здесь, возле костра, было её гнездо.
– Плачет, что разорили её дом, – сказал Семейка, вытирая измазанные яичным желтком пальцы о траву. – Снесёт новые яйца, и будет её горю конец.
– То верно, – охотно поддержал разговор Кузьма, ставя на костёр чайник со свежей водой. – Разорили мы её соломенный домишко. Так жизнь устроена. Всем желудок набивать надо, иначе помрёшь. Вот и тащат, кто у кого что может. Камчадалы – у зверей и птиц яйца да детёнышей отбирают. Мы у камчадалов соболей имаем. На самих нас приказчики сидят, а на тех – якутские воеводы. Так оно и тянется: воеводы под приказным судьёй гнутся, а тот – под царём. Всем на зуб мясца положить надо, иначе помрёшь.
– Истинно так, – подтвердил Никодим, – кто ниже, у того и похлёбка жиже. Нам на Камчатке ещё повезло. Воли тут намного больше, чем на Москве либо в новой господаревой столице, в Санкт – тьфу, язык сломаешь! – Питербурхе этом. Там людишкам нашего сословия не жизнь, а сплошная погибель. Утекли мы оттудова – тут нас в казаки записали. Хоть и по разряду пеших, а всё ж на государевом жалованье. Грех бога гневить, живём сытнее многих людей русских... Вот сложим эти яйца в ледник – и будет казакам на всю зиму лакомство... Ледник-то ты, Кузьма, хорошо проверил?
– Своими глазами всё обсмотрел.
– Не подтаял лёд?
– Да нет вроде. Холодно там – хоть ушанку надевай.
Прошлым летом крепостные казаки заметили, будто возле острога на тундре бугор вспучился и земля на нём растрескалась. Копнули тот бугор, а в бугре лёд оказался. Так и явилась у казаков мысль в бугре ледник устроить. Подземная коврига льда уходила неведомо на какую глубину и не таяла даже в самую большую жару. В ней и пробили хранилище для съестных припасов. Круглый год у казаков было свежее мясо, рыба, яйца. Это почти избавило их от необходимости выпаривать морскую соль, на весь острог хватало теперь пяти-шести кулей.
Об этом леднике казаки и вели разговор. Кузьма посетовал, что прошлым летом мало рыбы в ледник заложили, нынче надо не полениться, заморозить пудов с пятьдесят. Уж больно хороша к чаю строганина из свежей чавычи да кеты.
На костре забурлил, заклокотал, звякая крышкой, вместительный чайник. Семейка заварил кипяток курильским чаем – мелко нарезанными сушёными листьями лапчатки, душистой и вяжущей язык, словно настоящий чай. Казаки охотно подставили кружки под носик чайника. Чай пили вприкуску с кругленькими конфетками, приготовленными из сахарной травы.