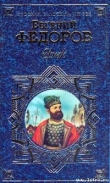Текст книги "Встречь солнцу. Век XVI—XVII"
Автор книги: Николай Коняев
Соавторы: Владислав Бахревский,Арсений Семенов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
– Почему ты не убил его? – повернула к нему разгневанное лицо Завина. – От него идёт наше горе... Он ещё отомстит нам!
– Ничего, пусть уходит, – отозвался Семейка, наблюдая, как плетётся от зарослей к холму перетрусивший Кулеча. Остановившись возле затихшего у подножия холма воина, камчадал сердито пнул носком бродня мёртвого и полез к костру.
Молча взяв котелок, он сбегал к ручью за водой, промыл недоваренное мясо и снова повесил котелок на рогульку над костром. С этого момента он относился к Семейке с нескрываемым почтением и готов был выполнить любое его поручение.
Отдохнув и насытившись, они продолжали путь. Кулеча легко и споро шагал впереди, вполголоса напевая что-то, стараясь всем своим поведением показать, что бегство с холма во время нападения было не бегством вовсе, а хитрым манёвром. В руке он сжимал копьё, взятое у одного из убитых воинов.
В ущелье из-под ног Семейки, замыкавшего их маленький отряд, выскочила ящерица и побежала по осыпи. Семейка ловко поймал её, завернул в тряпку и сунул на пазуху – на счастье...
День за днём следовали они по тропе, проложенной охотниками по берегу Быстрой, обходя далеко стороной камчадальские стойбища, ночуя то на открытом мосте, то забившись в пещеру, если шёл дождь. Через горные протоки перебирались по стволам деревьев. В горах уже припорошил землю снег, и они страдали от холода. Семейку удивляла выносливость Завины. Ни одной жалобы на тяготы пути не услышали они от неё.
При выходе в долину реки Камчатки полоса снега кончилась и им открылись убранные осенним золотом леса. Чем шире расступались горы, тем теплее становилось в долине. В воздухе носились серебряные паутинки. Была середина сентября, разгар бабьего лета.
Здесь, в долине, пришло к ним непередаваемое ощущение избавления. Все опасности остались теперь позади, впереди их ждали радостные встречи. Только Кулеча с опаской думал о встрече с казаками. Ему всё ещё казалось, что его ждёт возмездие за предательство.
Верхнекамчатск был концом пути для Завины, а Семейке с Кулечой предстояло ещё добираться до Нижнего казачьего острога, где в приказчиках сидел родной Семейкин дядя, Фёдор Ярыгин. Кроме него, у Семейки родных на Камчатке не было.
В тот час, когда показался впереди крест часовни и замаячила крыша сторожевой вышки верхнекамчатской крепости, Семейка словно обезумел от радости. Он побежал вперёд, оставив своих спутников, и с криком ворвался в укрепление, переполошив казаков.
Его узнали. Со всех сторон к нему спешили люди, глядя на него, как на выходца с того света. Из объятий Анцыферова он попал в объятия Козыревского, который поспешил отвести его домой. Только введя подростка в избу, Иван узнал, что с ним пришла Завина, и опрометью выскочил из дома.
Он увидел её, пробежав по берегу саженей двести. Завина шла с камчадалом, в котором Козыревский узнал Кулечу, холопа Дмитрия Ярыгина.
Подхватив Завину на руки, Иван так и принёс её в крепость, почти слепой от счастья, перехватившего ему дыхание.
В этот день в дом Козыревских набилось столько народу, что было не протолкнуться. Семейка с Завиной охрипли, в сотый раз рассказывая о пережитом.
Казаки требовали у нового приказчика Камчатки Семёна Ломаева нарядить партию на Большую реку. Однако Ломаев объяснил, что из-за смуты не собран ясак даже с мирных камчадальских селений по реке Аваче и притокам верховий Камчатки, за недобор ясака якутский воевода сурово спросит с него. А ведь на носу зима. Поход на большерецких камчадалов придётся отложить до будущего года.
Мало-помалу казаки разошлись, и в доме Козыревских, кроме домочадцев, остались только большерецкие казаки и Мартиан. Пётр на радостях снова выставил трёхвёдерный бочонок вина. Стол на этот раз ломился от обилия. Рыба уже давно дошла до верховий Камчатки, и по горнице носился дух копчёных балыков, затекающих золотыми капельками жира, отваренной кеты, дичи, медвежатины. В деревянных блюдах масляно поблескивали белые солёные грибы, высились горками румяные рыбные оладьи, краснела брусника.
– Ну, Иван, – поднял чару Анцыферов, – за радость твою!
– За чудо спасения! – добавил Мартиан.
– Значит, и за Семейку! – обнял подростка Козыревский. – За его счастливую ящерицу!
СТЕПАНИДА
Холодный тусклый луч солнца, пройдя сквозь заиндевелый пузырь, затягивающий крошечное оконце в бревенчатой избе, скользнул по трещинам широкой осадистой печки, сложенной из кирпича-сырца, пробежал по лицу спящего на топчане Атласова и, осветив затянутый паутиной и копотью угол аманатской избы, погас так же неожиданно, как и возник. Утреннее небо над Верхнекамчатском было обложено зимними тучами.
Атласов проснулся и, сбросив тяжёлую шубу из собачины, которая служила ему вместо одеяла, босиком пробежал по ледяному полу к печке. Дрова в неё он сложил ещё с вечера, и они к утру хорошо высохли. Взяв с шестка несколько лучин, он быстро растопил печь и только тогда надел меховые сапоги.
Надев шубу и ушанку, он взял пустое деревянное ведро и застучал в дверь:
– Эй! Отпирай, душегуб!
На карауле в это время стоял Григорий Шибанов. Выпустив арестанта, он пригрозил, сведя широкие смоляные брови:
– Я из тебя и впрямь когда-нибудь выну душу, вор.
Борода и усы Шибанова были в морозном инее и ледяшках, глаза смотрели тяжело и недобро, и Атласов смолчал. В первое время после ареста он и в самом деле боялся, что казаки потребуют его смерти. Однако выданное Семёном Ломаевым жалованье за два года умерило страсти, и казаки словно забыли про Атласова. На четвёртом месяце своего заключения он уже позволял себе переругиваться с караульными.
Сопровождаемый Шибановым, Атласов по глубокой, протоптанной в снегу тропке вышел за стены крепости и спустился к реке.
Над прорубью стояло морозное облако. Зачерпнув воды, Атласов, не глядя на Шибанова, словно его тут и не было, пошёл обратно, с досадой думая о том, что, если караульного не сменят до полудня, Степаниду к нему сегодня не пропустят: Шибанов был не из тех, кого можно сломить долгими уговорами.
Аманатская изба с пристроенной к ней каморкой для караульного была рублена на две половины. В одной содержалось человек десять камчадальских князцов-заложников, в другую, меньшую, поместили Атласова.
Сунув в печь чугунок с рыбным варевом, он опустился на лавку, возле расшатанного, в две доски, стола и стал ждать Степаниду. Вскоре и в самом деле послышался её голос за дверью. Однако, как он и опасался, Шибанов не пропустил её к арестанту, и уха из свежемороженых гольцов показалась Атласову безвкусной. Когда в караульных был кто-нибудь посговорчивее Шибанова, они со Стешей завтракали вдвоём. Но случалось это нечасто.
Закрыв вьюшку протопившейся печки, чтобы не упустить тепло, он зашагал из угла в угол арестантской, стараясь не поддаться гневу, ибо только спокойствие и ясная голова были теперь его союзниками.
Итак, он опять заперт в тюрьме. На этот раз, по сути, из-за женщины. Если, сидя в якутской тюрьме, он жалел о том, что поддался разгулу и не помешал казакам совершить разбой, то сейчас, повторись вся история со Степанидой сначала, он не отказался бы от этой женщины.
Когда там, на базарной площади, он впервые увидел её, ему показалось, что он сходит с ума. Ибо среди пленниц, приведённых казаками с Авачи, он увидел вдруг Стешу Серюкову. То же широковатое светлое лицо, те же тёмные, с таким знакомым большим разрезом глаза, те ню полные губы – всем выражением лица, станом, походкой это была его Стеша. Только волосы, ещё более длинные, чем у Стеши, были чернее и гуще. И когда Мартиан окрестил камчадалку Степанидой, голова у Атласова совсем пошла кругом. Он решил завладеть этой женщиной, хотя бы весь мир ополчился против него. В схватке, возникшей затем, он бился так яростно, что только смерть заставила бы его оставить Степаниду в руках Беляева. И он бесконечно был благодарен Щипицыну, который подоспел к месту побоища с десятком казаков и помог разогнать беляевских дружков.
Второе чудо произошло тогда, когда он властно взял Стешу за руку и она, лишь на миг отшатнувшись, вдруг доверчиво пошла за ним, словно тоже узнала его, едва внимательно вгляделась в лицо Атласова. Когда в торговом ряду он покупал ей подарки, она уже сама крепко держалась за его руку, словно опасаясь, что их могут разлучить.
Теперь он знал, что она верна будет ему навсегда: Степанида прибежала к арестантской через час после того, как его обезоружили и взяли под караул. Она умоляла караульного до тех пор, пока тот не пропустил её к арестованному, и приходила потом каждый день, хотя чаще всего её не пропускали.
Нет, он не жалеет о том, что отбил её тогда силой у Беляева. Мучает его другое: он зарубил саблей безоружного. Разве это не позорно для казака?
В тот миг, когда он обрушил саблю на голову Беляева, тьма окутала его разум; странный, полный боли старческий голос прозвучал из пустоты: «Дети! Дети! Ты, мой любимец, Кмит, резвый, как форель, и ласковый, как плотица! И ты шалун Чола, любивший перебирать мою бороду!..» И от этих слов, связанных в его памяти с гибелью отца, на него повеяло ледяным дыханием разверзшейся под его ногами бездны. А голос, замирая, грозил: «А! Вот он, обидчик мой!.. Обидчик мой... обидчик...» И Атласов пережил то, что, наверное, пережил его отец, когда ему показалось, что он погубил свою душу: ужас встопорщил его волосы, словно шерсть на голове зверя.
И когда он спрашивал: «Ну, кто ещё назовёт меня вором?» – собственный голос его был подобен звериному рычанию. И хотя тьма, застилавшая его глаза, рассеялась и он не лишился разума, поспешный его уход с ярмарки был как бегство от самого себя.
Он ещё не успел как следует опомниться, поэтому и поверил слуху, что камчадальские воинские отряды подходят к Верхнекамчатску, приказал вернуть казакам оружие. И оказался обезоружен сам.
Все помыслы его теперь сосредоточены на одном: как вырваться из-под стражи? Если бы ему удалось добраться до Нижнекамчатского острога, он заставил бы тамошнего приказчика, Фёдора Ярыгина, подчиниться ему. Тем более что семь десятков казаков из приведённой им на Камчатку сотни служилых были оставлены им в Нижнекамчатском укреплении. А там уж он нашёл бы способ обломать бока Семёну Ломаеву с Данилой Анцыферовым. Да и Козыревскому-младшему, писчику, стоит пересчитать рёбра батогами за хитроумие. Со слов Степаниды ему известно, что именно Козыревский придумал, как вернуть отобранное оружие.
Атласова бесит, что все казаки из его ближайшего окружения отвернулись от него, даже Щипицын. Он пытался связаться с ним через Стешу, но тот не захотел иметь с Атласовым дела, опасаясь, что воевода не простит ему убийства Беляева. Что ж, каждому своя шкура дорога. Только рано Щипицын поставил на нём крест. Он спросит ещё с него за предательство.
Одна Степанида осталась ему верна. И это единственный пока свет в его окошке. Через неё он сделает то, что и хитроумному писчику Козыревскому не удалось бы придумать, окажись он на его месте. Здешние казаки мало представляют, с кем они имеют дело. Когда нет никакого выхода, он умеет посмотреть на потолок, как учил его когда-то Лука Морозко, и прочитать, в чём его спасение.
Загремел засов двери, и Атласов стал надевать шубу.
– Пошли! – скомандовал Шибанов, просунув голову в дверь.
Атласова вместе с камчадальскими князцами новели в дальний конец крепости, где под снежной шапкой громоздился штабель коротких берёзовых брёвен. Значит, сегодня предстоит пилить дрова, понял Атласов. Скучать арестантам казаки не давали, используя их на разных работах, чаще всего на рубке и вывозке дров.
Зная, что Атласов хорошо говорит по-камчадальски, Шибанов сунул ему в руки колун и отвёл подальше от аманатов. Впрочем, Атласов на глазах у караульного и не пытался вступить с ними в разговоры, получив однажды за это такой удар прикладом пищали, что до сих пор спину ломит.
Камчадалы пилили дрова, а он, скинув шубу, колол крепкие свиловатые чурбаки. Немало сноровки надо, чтобы расколоть такой чурбак. Не зря называется каменной берёза, растущая на Камчатке. Летом, пожалуй, иной чурбак и не расколешь даже с помощью клиньев. Зимой помогает мороз. Кручёные волокна древесины разламываются, как сахар, под тяжёлым ударом колуна.
Атласов любил эту работу. Она разгоняла кровь, наливала тугим железом мышцы и освежала всё тело.
Дрова он колол красиво, хакая на ударе и словно переливая в топор всю тяжесть большого крепкого тела. В работе он забывал о заточении. Вскоре он согрелся и вспотел, над ним колебался пар. У ног его быстро росла горка поленьев. В ударах топора, в звоне его растворились остатки утреннего гнева, и уже без злобы, с острым интересом и чувством превосходства поглядывал он на караульного, топтавшегося поодаль с тяжёлой пищалью на плече. В полдень Шибанов сменится, и, возможно, другой караульный пропустит к нему вечером Степаниду на полчасика. Не у всякого казака хватит отваги отказать такой женщине, как его Стеша. При мысли о ней у него делается совсем праздничное настроение.
День прошёл в ожидании встречи с камчадалкой. Вечером Шибанова сменил Харитон Березин, казак весёлый и добродушный, с пышным русым чубом и столь же пышной окладистой бородой. Заперев Атласова в ясачной избе, он предупредил:
– Присуху твою, коль придёт, прочь прогоню. Так что не жди и ложись спать пораньше. Завтра в лес с утра за дровами поедем.
Однако, поужинав, Атласов не спешил заснуть. Он лежал на топчане при свете плошки, подложив руки под голову, и прислушивался к ночным шорохам, к собачьему лаю, к звуку шагов Березина, к биению собственного сердца.
Услышав скрип снега за дверью, он сразу понял: Степанида! – и весь превратился в слух. Березин долго препирался с нею в караулке, камчадалка, кажется, даже поплакала. Затем хлопнула дверь и Атласов услышал лязг замка. Уговорила-таки!
Вскочив с топчана, он ждал, когда она войдёт. Наконец Березин перестал возиться с замком, дверь распахнулась, и камчадалка влетела в неё вместе с клубами пара, повисла на груди у Атласова, не стесняясь караульного, который негромко хохотал, глядя на них.
– Ну? – неторопливо спросил Атласов, едва караульный захлопнул дверь.
– Вот! – сказала она, вынимая что-то из-за пазухи.
В руку Атласова легла тяжёлая холодная рукоять пистоля.
– Как? Неужели сегодня? Сейчас? – спрашивал он тихо.
Она кивнула.
– А собаки? – не хотел верить Атласов.
– Упряжка готова. И всё уложено, – обнажила она в улыбке чистые, что скатный жемчуг, зубы и тут же стала стаскивать шубейку.
У Атласова голова пошла кругом и потемнело в глазах. Он жадно и благодарно целовал её лицо, решив, что такого чуда, как эта молодая женщина, судьба не посылала никому на свете. Соболь золотая, что прекрасней лебеди белой, досталась ему.
Когда караульный снова загремел замком, они уже были одеты.
– Ну как? Намиловались? – весело спросил Березин, возникая на пороге.
Ответа не дождался. Притаившийся за косяком двери Атласов рванул его внутрь и обрушил на лицо страшный удар рукоятью пистоля. Степанида быстро захлопнула дверь.
Оглушённого казака они связали и сунули ему в рот рукавицу, чтобы не поднял переполох, если очухается.
Прихватив пищаль караульного, пояс с припасами к ней и саблю, они задули плошку и вышли из избы. Покров туч над острогом разошёлся, и на небе густо горели колючие ледяные звёзды. Замирая от скрипа собственных шагов, они миновали стены крепости. Караульный на сторожевой вышке, к счастью, не обратил на них внимания.
– Иди на дорогу, я догоню, – шепнула Степанида и быстрым лёгким шагом пошла к посаду.
Атласов, отыскав зимнюю санную дорогу, хорошо укатанную к этой поре, зашагал прочь от крепости вдоль берега реки, глухо гудевшей подо льдом. Отполированный полозьями снег на дороге отблёскивал светом звёзд.
Он успел удалиться от острога на добрую версту, прежде чем услышал позади визг полозьев, сливающийся с повизгиванием собак.
Скоро нарты поравнялись с ним.
Ловко остановив упряжку остолом, Стеша соскочила с санок, весело спросила:
– Ну, поехали?
– Чья упряжка? – спросил он.
– Ломаева. Он собирался завтра ехать в дальнее стойбище и снарядил нарты с вечера. Есть всё: и кукули[111]111
Кукуль (куколь) – верхняя одежда, плащ с капюшоном.
[Закрыть], и юкола для собачек, и мороженая рыба для нас... Не зря я у него в служанках была.
Заставив её забраться в меховой мешок, чтоб не замёрзла в дороге, Атласов взял остол[112]112
Остол – шест, служащий для управления собачьей упряжкой.
[Закрыть], гикнул на собак и тут же прыгнул в санки.
– Всё! Теперь нас не догонишь! – прокричал он, подставляя лицо морозному ветру, сразу ударившему навстречу. – Поехали, соболь ты моя золотая!
...Бегство Атласова, о котором стало известно на другой день, переполошило крепость. Едва пришедшего в себя Березина честили на чём свет стоит, и казак не знал, куда деваться от стыда. Просеченная до кости скула не мучила его так, как сознание собственной вины. Проклятущая дикарка обвела его вокруг пальца, будто малолетнего несмышлёныша.
Посылать за Атласовым в погоню было бесполезно. У головы считалась в побратимах половина князцов в стойбищах, лежащих до самых низовий, и ему свежие собаки везде были обеспечены.
Если Фёдор Ярыгин сдаст ему Нижний острог, быть беде. Казаков в Нижнем остроге теперь раза в три больше, чем в Верхнем. Там обосновалась почти вся приведённая Атласовым на Камчатку казачья сотня. Больше всего наводили уныние несколько пушек, которые были в Нижнекамчатке. Если Атласов подступит к Верхнему острогу с пушками, придётся просить пощады. Две старых затинных пищали, имевшиеся в крепости, не могли идти ни в какое сравнение с медными пушками, бившими на целую версту.
Козыревский в это тревожное время не находил себе места: так опростоволоситься! Новая изба, поставленная им к зиме с помощью брата и всей команды Анцыферова, слуги, купленные на прибыток, полученный в походе на реку Жупанову, несколько сороков соболей, повешенных в амбаре за домом, и даже Завина, которая была ему дороже целого света, – всё это теперь могло стать добычей Атласова, не говоря уже о том, что его собственная жизнь будет целиком в руках головы.
День за днём Анцыферов с Козыревским ломали голову, как избежать опасности, решив в конце концов уйти, в случае подступа Атласова к крепости, на острова к курилам, – может быть, им удастся даже отыскать ту самую благодатную землю, которая лежала на полдень в океане.
В феврале в крепость приехал на собаках гонец от Фёдора Ярыгина. Гонцом этим был Семейка, решивший воспользоваться удобным случаем, чтобы навестить своих друзей в Верхнекамчатске и заодно заставить порастрясти лишний жир Кулечу, который был у него за каюра. От Семейки узнали, что острог Атласову нижнекамчатский приказчик не сдал и что Атласов живёт не у дел в своём новом доме с той самой камчадалкой, промышляя одной торговлей. Ярыгин признавал камчатским приказчиком Семёна Ломаева, Атласова просил оставить пока на свободе – пусть-де с ним разберётся новый приказчик, который приедет из Якутска с командой на следующее лето и успеет получить у воеводы указания относительно Атласова, на которого в Якутск послана челобитная.
Верхнекамчатские казаки успокоились. Жизнь в остроге сразу вошла в спокойные берега.
ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ
«Зачем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня?» И ещё: «О, владычица богородица! Отними от сердца моего бедного гордость и дерзость, чтобы не величался я суетою мира сего», ибо «кроткие унаследуют землю».
Минуло три года с тех пор как Атласов, бежав из-под стражи, добрался до Нижнекамчатска. Ярыгин отказался сдать ему командование, и это разрушило все его планы. Пришлось жить не у дел, утешая себя изречениями из псалтыри, радуясь тому, что хоть голова цела.
В январе 1709 года из Якутска прибыл новый приказчик Пётр Чириков с пятьюдесятью казаками, а в августе следующего года на смену Чирикову явился с отрядом служилых Осип Липин. Ни Чириков, ни Липин не привезли никаких распоряжений Атласову от воеводы. Липин сообщил только, что о разногласиях Атласова с казаками, которые лишили его командования, воеводская канцелярия отписала в Москву, судье Сибирского приказа.
Поскольку воевода, ожидая решения Сибирского приказа, не присылал указания лишить Атласова прежних полномочий, к началу 1711 года на Камчатке оказалось сразу три приказчика: Чириков, который готовился отбыть в Якутск с собранной им соболиной ясачной казной, Липин, принявший у него командование острогами, и Атласов – приказчик только по названию.
«Помилуй мя, боже, ибо попрал меня человек; всякий день нападая, теснит меня. Попрали меня враги мои, ибо много восстающих на меня свыше...» Псалтырь утешала мало. Атласов зорко следил за событиями в обоих острогах, ожидая, что настанет и его час: Чириков с Липиным успели столько попортить крови казакам и камчадалам, что на Камчатке остро попахивало бунтом.
День за днём росла и копилась вражда между казаками камчатских гарнизонов и служилыми отрядов Чирикова и Липина. Обоим отрядам предстояло отбыть в Якутск для охраны ясачной казны в пути от немирных коряков. Пользуясь краткостью своего пребывания на Камчатке, чириковские и лишгаские казаки, поощряемые примером своих начальников, вели себя по присловью – «После нас хоть трава не расти» – и обирали без зазрения совести камчадальские стойбища. С камчадалов вместо одной-двух, положенных по ясачному обложенью, соболиных либо лисьих шкурок, требовали по три, по четыре, а то и по пять.
Казаки, постоянно служившие на Камчатке, видя, какое недовольство среди камчадалов вызывают действия чириковской и липинской команд, не хотели долее терпеть самоуправство пришлых служилых, ибо понимали, что им безвинно придётся пожинать плоды пробудившегося в камчадальских стойбищах озлобления.
Если Чириков на упрёки в лихоимстве ссылался на указания воеводы увеличивать ясачные сборы, то Липин и вовсе не желал давать никаких объяснений, высокомерно приказывая гнать жалобщиков за дверь, а особо упорствующих кидал под батоги.
Ни Чириков, ни Липин не выплачивали камчатским служилым положенного им денежного жалованья. Если Чириков вместо денег хотя бы выдавал товары, заставляя расписываться в получении самих денег, то Липин даже товарами расплачиваться не желал, указывая на то, что камчатские служилые и так живут в довольстве на обильной рыбой и всяким зверьём Камчатке. Камчадальские стойбища Липин обирал без всякой жалости – куда до него было Чирикову!
Гарнизонные служилые, опасаясь всеобщего восстания камчадалов, люто возненавидели Липина. Казалось, достаточно крошечной искры, чтобы на Камчатке разгорелись невиданные дотоле страсти...
Атласов чуял, что терпению камчатских служилых пришёл конец. В случае казачьего бунта он надеялся снова оказаться в седле – пока в Москве судят да рядят, как с ним быть, он успеет ухватить поводья без помощи Сибирского приказа. Действия обоих приказчиков были столь наглыми и возмутительными, что он сам, будь у него в руках власть, поддержи его казаки, не замедлил бы взять обоих приказчиков под стражу.
И вот теперь, когда события развивались так, что он готов был принять сторону казаков и защитить их от самоуправства приказчиков, кто из служилых поверил бы в искренность его намерений? Было бы чудом, если бы казаки решились обратиться к нему в поисках защиты.
Однако если чудеса сами не хотят свершаться, надо уметь помочь им произойти. Несколько раз, сидя в ясачной избе, где казаки собирались вечерами играть в карты и зернь, Атласов в разговорах поддерживал их возмущение действиями Липина и Чирикова. Вначале казаки относились к его словам с недоверием, потом он заметил, что они всё более жадно слушают его рассуждения. Лед отчуждения между ним и нижнекамчатскими служилыми постепенно начинал таять. Некоторые из них уже первыми здоровались с ним. Это был добрый знак. Должно быть, казаки вспомнили, что он такой же приказчик, как и Липин с Чириковым, а обиды, какие он им когда-то нанёс, постепенно забылись и не шли ни в какое сравнение со свежими обидами на Липина и Чирикова. Однако им всё ещё не приходила в голову мысль попросить Атласова взять командование Камчаткой на себя и наказать обидчиков. Сам же Атласов решил но торопить события, ибо всякий плод созревает не ранее положенного времени.
Февраль 1711 года начался в Нижнекамчатске оттепелью. Несколько дней кряду дул сырой юго-восточный ветер, мела пурга, потом установилась мягкая солнечная погода. Днём капало с крыш, оседали глубокие, до полутора саженей, сугробы, ночью подмораживало и снег твердел. Едва всходило солнце, чистый снежный наст, покрытый тонкой, как слюда, ледяной корочкой, сиял до рези в глазах. Случалось, в феврале и марте от белизны слепли люди.
Однажды около полудня, когда с крыш уже капало и снег на солнце блестел нестерпимо, Атласов, сидя на крыльце своей избы, кроил из бересты для себя и Стеши наглазники с узкими прорезями для зрачков. Берестяной лист, положенный на кроильную доску, которая покоилась у него на коленях, мягко поддавался под острым жалом ножа. Рука у него, слава богу, была по-прежнему тверда, глаза остры, и обе берестяные маски получались плавно закруглёнными, повторяющими по форме восьмёрку, словно выписанную грамотеем на бумаге. Теперь Стеша обошьёт бересту мехом, приладит завязки, и наглазники будут готовы. В наглазниках они с ней станут похожи на святочных ряженых, изображающих разбойников.
Стоит Атласову только подумать о Стеше, как лицо его сразу же светлеет. Ощущение чуда, остро пронзившее его в тот миг, когда он впервые увидел её, всё ещё не исчезало. Жизнь с нею была легка, словно полёт на крыльях. Мартиан, помня прежние обиды, отказывался обвенчать их, но они были счастливы и без венчания. Стеша даже не понимала, какое это может иметь для неё значение, Атласов же, несмотря на чтение псалтыри, к которому пристрастился в последние годы от безделья, тоже относился к церковным обрядам без излишнего трепета – как и многие казаки, родившиеся и выросшие в дикой Сибири.
Атласову приятно было мастерить что-нибудь для Стеши, ему всякая работа в их с нею доме нравилась и казалась лёгкой. Якутск, отписав об Атласове в Москву, кажется, совсем забыл о существовании казачьего головы. Атласову не высылали ни денежного, ни хлебного жалованья.
Приходилось самому заботиться о себе. Вначале его выручил Крупеня. Вернувшись на Камчатку, Атласов нашёл князца в числе аманатов, сидевших в Нижнекамчатске, и сразу же велел выпустить его из заложников. Памятуя о старой дружбе, о помощи в разгроме Шантала, а также в благодарность за то, что Атласов отпустил его из аманатской неволи, князец слал своему избавителю то соболей, то сушёную икру и коренья, а главное, подарил двух слуг, камчадальских ребят лет по шестнадцати, Щочку с Чистяком, взятых в качестве военной добычи ещё в те дни, когда шла война с Шанталом.
У Атласова сохранилась часть подотчётной подарочной казны: бисер, олово и медь, которые пользовались у камчадалов большим спросом, – бисером и медными бляшками они, как и все таёжные племена, любили украшать свою одежду. Атласов решил пустить подарочную казну в дело, надеясь отчитаться за неё, когда придёт время, вырученными от торговли с камчадалами соболями и лисами.
С полпуда олова и меди он переделал в винокуренную посуду и завёл винный курень. На Камчатке по-прежнему не было царёвых кабаков, и вновь прибывшие приказчики, как и он сам когда-то, смотрели сквозь пальцы на то, что казаки сидят и курят вино. Сушёную сладкую траву для приготовления браги присылал Атласову тот же Крупеня. Брагу Атласов перегонял в крепкое вино – раку. Раку у него охотно покупали не только казаки, но и сами Чириков с Липиным.
В доме скоро завёлся достаток во всем, и Атласов наслаждался покоем и семейным счастьем. Но будущее его не было прочным. Он не знал, какое решение примет по его делу Москва. Если известие о том, что казаки лишили его командования, достигнет ушей государя, Пётр, чего доброго, ещё прикажет повесить опростоволосившегося казачьего голову, который вместо того, чтобы толково отслужить вину за прежний разбой, довёл казаков до смуты, выпустил из рук вожжи и тем самым причинил казне убыток.
Оставаться в бездействии теперь, когда приказчики дошли до самого бессовестного произвола, было нельзя. Он должен вмешаться в события. Пожалуй, пора сходить к Ярыгину, предложить ещё раз, чтобы тот сдал ему командование острогом. Ярыгин тоже натерпелся от Чирикова с Липиным, но сам предпринять что-нибудь против них никогда не решится. Если казаки доверят ему свою защиту, они увидят нового Атласова, решительного, но справедливого. Тюремная озлобленность, сослужившая ему столь дурную службу, давно прошла, он стал спокойнее, у него было время подумать о многом. Да и псалтырь не зря он читал. «Если не простите прегрешения брату, то и вам не простит отец ваш небесный». Это то, что он скажет казакам. А для себя он приберёг другое изречение: «Уклонись от зла, сотвори добро, найди мир, и отгони зло, и живи во веки веков».
Так размышлял Атласов в тот день, сидя на крыльце и в задумчивости отложив нож и бересту. От этих размышлений его отвлёк собачий лай. Мимо крыльца к въезжей башне острога пронеслось несколько собачьих упряжек. Седоки были в кухлянках, торбазах из собачины и меховых малахаях. Если бы не ружья, стволы которых торчали из санок, седоков можно было бы принять за камчадалов – казаки за последние годы так вжились в местные обычаи, что даже кафтаны и шубы сменили на камчатскую одежду.
Последняя упряжка круто свернула к избе Атласова. Подлетев к крыльцу, седок остолом затормозил бег санок и соскочил на снег. Едва он снял меховые наглазники, как Атласов узнал Щипицына. Узкое, словно вырезанное из дерева, лицо казака совсем потемнело от загара, должно быть, Щипицын возвращался с казаками из поездки в какое-нибудь из дальних камчадальских стойбищ. Острая, сверкающая сединой, как обоюдоострое лезвие, борода его по-прежнему воинственно торчала вперёд.
– Здоров будь, атаман! – весело, словно не было между ними давнего холодка, прокричал Щипицын. Взбежав на крыльцо, он сел без приглашения на перильца напротив Атласова, дружелюбно оскалив в улыбке мелкие острые зубы, крепкие и чистые, как у молодого пса.
– Будь и ты здоров, есаул! – насмешливо отозвался Атласов. – Откуда ты припорхала, перелётная пташка?
– Откуда я, птаха малая, припорхала, про то лучше не спрашивай, – не обиделся на насмешку Щипицын. – Спроси-ка лучше, какие вести на хвосте принесла твоя пташка.
На слове «твоя» бывший есаул сделал ударение, и Атласов удивлённо приподнял брови:
– Что-то не замечал, чтоб эта пташка была моей. В последние годы она другим свои песенки пела.