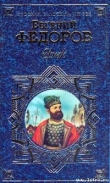Текст книги "Встречь солнцу. Век XVI—XVII"
Автор книги: Николай Коняев
Соавторы: Владислав Бахревский,Арсений Семенов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 40 страниц)
– А ты спроси князца про одноногого старика, который головой небо подпирает, а в четыре руки бьёт бичами китов, чтоб из-под земли не выплыли и землю в пучине не утопили. Может, этот старик как раз родственник нашему князцу.
Потап тихо рассмеялся, а Атласов стал спрашивать князца, какая опасность заставляет камчадалов стойбища острогом обносить.
– Шантал! – с ненавистью ответил князец, рвя свою жидкую, как и у всех камчадалов, бородку. Потом он ударил себя кулаком в обнажённую грудь и, скрипя зубами, затряс головой, отчего его иссиня-чёрные волосы, заплетённые в косицы, упали ему на грудь.
– Кто такой Шантал? – дав ему немного успокоиться, заинтересовался Атласов.
– Шантал – сын бешеной собаки. Ночной волк! Куча дерьма и туча злобы!
Тут князец пошёл сыпать такими кличками, что хоть уши затыкай. Оказалось, что Шантал – самый могущественный князец низовий реки Камчатки, что он совершает постоянные нападения на стойбища среднекамчатских и даже верхнекамчатских родов, истребляя мужчин и уводя в плен женщин. Он опустошил и сжёг уже многие селения, вырезал целые роды. Камчадалы стали укреплять свои селения стенами, опасаясь его набегов. Незадолго до прихода казаков на Камчатку камчадалы, обитающие в средней и верхней частях камчатской долины, договорились объединить силы и нагрянуть на низовье, решив победить или умереть.
– Сколько копий у Шантала?
– Много, потом ещё раз много и ещё раз столько же, сколько два раза много вместе, – перевёл толмач Атласову ответ князца.
Оказалось, что князец умеет считать только до двадцати – ровно столько у него пальцев на руках и ногах. Он не мог числом выразить даже, сколько воинов у него самого. Любое число, превышающее два десятка, определял он одним словом «много». Атласов вспотел, прежде чем добился ответа на свой вопрос. В родах, выставляющих воинов по призыву Шантала, было впятеро больше способных носить оружие мужчин, чем в родах, обитающих в средней и верхней части долины, что-то примерно около пяти тысяч воинов! При этом войско у Шантала было настолько хорошо организовано, что перед ним трепетала вся тундра на триста вёрст в округе.
– Пойдём с нами на Шантала, огненный вождь! Иначе его воины вырежут всех остальных мужчин и некому будет промышлять для тебя шкурки соболя! – упрашивал князец Атласова, применив весьма веский и дипломатически правильно рассчитанный довод.
У князца было звучащее совсем по-русски имя – Крупеня. Заинтересовавшись, что означает по-камчадальски это имя, Атласов получил ошарашивающий ответ: ничего по-камчадальски не означает. Так называли очень вкусную похлёбку другие огненные люди, которые были на Камчатке очень давно, когда князцу было меньше лет, чем пальцев на двух его руках.
Атласов поинтересовался, как звали начальника тех огненных людей, и получил ответ: «Федота». Так вот оно что! Крупеня, принявший имя в честь вкусной похлёбки, помнил ещё кочевщика Федота Попова. Значит, то, о чём когда-то рассказывал Любим Дежнёв, оказалось истинной правдой! Именно по этой причине, видимо, и приняли камчадалы казаков так по-дружески. Что ж, дружба за дружбу. Посоветовавшись с казаками, Атласов решил принять участие в отчаянном походе, предпринимаемом Крупеней.
Выступили через несколько дней, когда казаки немного отдохнули. Погрузились на камчадальские лодки, которые почти ничем не отличались от русских стругов, разве что сработаны были погрубее, так как камчадалы мастерят свои лодки каменными топорами и тёслами.
Спускаясь по Камчатке, дивились казаки обилию растительности, теплу и солнцу, переполнявшему долину.
Не всё, что они слышали с Потапом о крае земли в детстве, оказалось неправдой. Видели они слева от долины гору, подобную скирду, которая извергала дым и сажу, и по ночам над ней стояло зарево. Гору ту камчадалы звали Шивелуч. Справа от долины поднялась ещё одна высочайшая гора, которая гремела и тряслась, и пламя над ней освещало по ночам окрестности на много вёрст. То была Ключевская гора. Время от времени из неё исторгались тучи пепла, и в пепле том меркло солнце. Правдой оказалось и то, что на Камчатке не было ни ужа, ни жабы, ни иного гада, кроме ящериц.
Не зря говорят, что у страха глаза велики. Крепость, в которой запёрся Шантал, была не намного больше укрепления Крупени. Соединённое войско камчадалов и казаков взяло вражескую твердыню с третьего приступа, когда нескольким казакам во главе с Потапом Серюковым, облачённым в кольчуги, удалось зажечь стены. Шантал погиб, кинувшись со стены на камчадальские копья.
Воины Крупени выжгли ещё несколько крепостей, в которых сидели верные Шанталу князцы, и на том во всей долине Камчатки воцарился мир.
Атласов между тем решил подняться с казаками до верховий Камчатки, чтобы получше познакомиться со здешними обитателями. Крупеня выделил для него два десятка самых ловких и сильных гребцов, и струги даже против течения поднимались очень быстро. Чем выше к истокам реки поднимались казаки, тем тучнее становилась растительность. Казаки обнаружили здесь даже черёмуху и малину. Земля здесь под благодатным солнцем была засеяна семенами жадных цепких растений, реки и озёра – обильны рыбой и птицей, а здешние леса – всяким зверьём и, что особенно важно было для казаков, – соболем. Казаки мяли и нюхали чёрную жирную почву и сходились на одном, что здесь даже хлеб сеять можно.
По сравнению с закованным в ледяной панцирь и погруженным в сумерки Анадырем Камчатка представлялась сущим раем.
Потому и населены эти берега были густо – многолюдные камчадальские селения радовали глаз живостью, весельем и отменным здоровьем мужчин, пригожестью женщин, свежими рожицами ребятишек.
Пройдя затем побережьем Пенжинского моря на юг до тех рек, где обитали мохнатые курильцы (айны), и взяв на одной из них полонёнка[106]106
...взяв... полонёнка... – Это был японец, попавший в плен к курилам в результате кораблекрушения. (О нём см. примеч. №265).
[Закрыть], занесённого морем на Камчатский Нос бурей из Узакинского (Японского) государства, Атласов повернул на север, и на реке Иче казаки срубили зимовье, где и перезимовали. И казаки, и юкагиры зимой промышляли соболя; охота оказалась удачной настолько, что все были довольны.
Отправив Потапа Серюкова с полутора десятками людей в верховья реки Камчатки, чтобы он поставил там крепкий острог и взял ясак согласно договорённости с камчадалов Крупени и иных стойбищ, Атласов внял челобитной остальных казаков, настаивавших на возвращении в Анадырское, так как порох и свинец был почти весь израсходован, и по первому снегу отряд двинулся на оленьих упряжках в обратный путь.
И в Анадырском, и в Якутске результаты этого похода были оценены так высоко, что якутский воевода немедленно отправил Атласова в Москву порадовать государя открытием новой соболиной реки.

– Семь трясовиц ему в поясницу, этому сторожу! Чтоб его черти уволокли в болото! – ругался Щипицын, потрясая кулаками. – Час уж тому, как прокричал, чтоб собирались на торги, а сам и носу не кажет, змей подколодный!
У Василия Щипицына узкое одеревенелое лицо, на котором большой прямой рот зияет, словно щель, глаза маленькие и застывшие, затылок стёсанный, грудь плоская. Ни дать ни взять – деревянный идол, каких таёжные жители вырезают из досок. Сходство это нарушает лишь торчащая вперёд острая борода, поблескивающая по бокам сединой, словно обоюдоострое лезвие.
В тюрьме Щипицын усох, как та хворостина. Почти все разговоры сводятся у него теперь к еде. Даже во сне он чаще всего видит затекающие золотым жиром балыки и копчёные окорока. Проснувшись утром, он злится, что это был только сон. В такие минуты его лучше не раздражать. Раскричится – хоть святых выноси. А ведь в те дни, когда Атласов поверстал его на службу в свой отряд, Щипицын был известен всему Енисейску как весёлый балагур и гуляка, которому море по колено. Тюрьма озлобила его. Кажется, он теперь ненавидит весь род человеческий, даже самого Атласова грозился поджарить на сковородке, как только предоставится для этого удобный случай. Иногда между ними возникали такие перепалки, что они готовы были кинуться друг на друга с кулаками.
Хотя и у Атласова испортился в тюрьме характер – он сам замечал за собой, что ему всё труднее обуздывать приступы ярости, возникающие по пустякам, – однако почти всегда зачинщиком ссор выступал Щипицын. Василий в запальчивости договаривался даже до того, что и в тюрьме он оказался по вине Атласова. Более наглых речей Владимир в жизни не слыхивал! Кто, как не Щипицын, втравил его во всю эту историю?
Для второго похода на Камчатку Атласову предписывалось по царскому указу набрать сто человек в Тобольске, Енисейске и Якутске – как охотников из промышленных и гулящих людей, так и неволей из детей служилых казаков. Василий Щипицын пристал к отряду в Енисейске с десятком таких же, как и он сам, гулящих товарищей. До поступления в отряд они промышляли соболя, однако неудачно, нанимались охранять торговые караваны, иногда, пропившись до исподнего, брались за любую подённую работу. Поговаривали, будто бы числились за ними и лихие дела.
Щипицын сразу полюбился Атласову какой-то особенной бойкостью характера, готовностью идти без раздумий куда угодно, хоть на край света, лишь бы не знать в жизни скуки.
Весёлый этот проныра, узнав, что начальник отряда жалован шубой с царского плеча и произведён в казачьи головы самим государем, сумел указать Атласову способ, как добыть дощаники для плавания из Енисейска в Якутск. К тому времени имущество отряда – пушки с ядрами, пищали, множество другого вооружения, а также всяких годных в походе припасов – громоздилось на берегу Енисея целыми горами, а речные суда, выделенные Атласову енисейским воеводой, оказались мелки, стары и дырявы – плыть на них можно было разве лишь в гости к водяному.
По подсказке Щипицына казаки захватили два вместительных прочных дощаника, принадлежащие какому-то именитому торговому гостю, а из выделенных воеводой загрузили только один, тот, что был попрочнее, остальные же попросту бросили. В случае расспросов по этому делу уговорились объявить, что в чужие суда сели по ошибке, приняв их за свои. При этом Щипицын сумел убедить Атласова, что енисейский воевода не осмелится преследовать за самоуправство человека, взласканного государем. Да что там преследовать! Государь попросту прикажет снять с енисейского воеводы шапку вместе с головой за то, что он вместо прочных посудин пытался всучить Атласову дырявые корыта.
С этого захвата чужих дощаников и начался путь к тюрьме. Якутский воевода, может быть, и уладил бы как-нибудь с енисейским воеводой это дело о захвате дощаников торгового человека, да вся беда в том, что самовольный захват был лишь первой ласточкой в той волне самоуправства и разгула, которая с лёгкой руки Щипицына захлестнула атласовский отряд.
Почти все деньги, полученные от Атласова при вступлении в отряд, новоиспечённые государевы казаки истратили на закупку вина – брали в складчину, бочонками.
Едва отчалили от Енисейска и достигли Тунгуски, началось веселье. Пили и пели так – небо качалось. Орали в сто лужёных глоток, поклявшись распугать всё таёжное зверьё на Тунгуске на сто лет вперёд.
Атласов тоже отпустил вожжи. Кружила голову слава, приятны были почести, какие воздавали ему казаки – все они до единого хотели выпить хотя бы раз, а потом хотя бы ещё и ещё раз на вечную дружбу с казачьим головой, жалованным самим государем. Вскоре его величали уже не головой, а попросту атаманом – так звучало намного теплее и приятнее для всех. И атаман, сердечно обнимая милого друга Щипицына, назначенного им есаулом отряда, старался перепить и перепеть всех, дабы не уронить себя в глазах весёлых своих товарищей. Расчувствовавшись, он сулил им открытие новых земель, даже богаче Камчатки! – и за те земли государь пожалует их всех до единого в казачьи головы и поднесёт по большому орлёному кубку.
Дальше – больше. Пугали зверей – стали пугать торговых людей. Останавливали плывущие навстречу купеческие суда, требовали угощения, подарков. Когда один из дощаников дал течь, казаки задержали первое попавшееся торговое судно и пересели в него, «забыв» выгрузить купеческие товары. Ограбленному купчишке велели занять освободившийся дощаник и плыть со своими людьми поскорее в Енисейск, покуда судно совсем не затонуло и покуда у казаков совсем терпение не кончилось.
Потом и вовсе началось несуразное. Атласов смутно помнил, как гонялся на своих дощаниках за судами, принадлежащими самому енисейскому воеводе! Хоть и были воеводские суда не в пример атласовским быстроходнее, однако где ж им было уйти от преследования, если казаки прознали, что те суда гружены вином!
Догнали, хотели брать вино силой, ан оказалось, что воеводский приказчик – душа человек, что вовсе он не намерен был бежать от казаков, а просто хотел узнать из чистого интереса, хорошо ли владеют казаки вёслами и парусом. И как только увидел он, что за молодцы наседают у него за кормой, тут же по своей доброй воле велел своим гребцам сушить вёсла – так его разобрала охота взглянуть в лицо и воздать должное богатырской силушке казаков-удальцов. Тут же велел он выкатить бочки с мёдом и поить казаков, сколько влезет. Атласова же лобызал со слезами умиления и братской любви и лично проводил на атаманский дощаник, даже подушечку под голову атаману подложил с превеликой заботой о его сладком покое.
Но лишь уснули казаки, поднял, стервец, паруса и скользнул пораньше утречком прочь от друга-атамана, не оставив тому даже малого жбана медку на опохмелку.
Казаки утром рвали на голове волосы, что дали так провести себя. Целых два дощаника с вином ускользнули у них из-под носа как раз тогда, когда они вошли в самую охотку!
Не беда! Едва перетащили суда через Ленский волок и достигли Киренского острога, наткнулись на винный курень, который тайно держал киренский приказчик. Перетаскали приказчику за корчемное вино почти все товары с грабленого купеческого дощаника – три недели стоял в Киренском дым коромыслом.
Славно погуляли! Подплывая к Якутску, казаки даже и думать не хотели о том, что весть о разбое на Тунгуске могла уже достигнуть ушей якутского воеводы. Где им было думать об этом! В тот час, когда вооружённый конвой препровождал их от причала за тюремные стены, все они ещё пошатывались, блаженно улыбались, объяснялись конвойным в любви и лезли целоваться, и всё это под громоподобный хохот толпы любопытных, собравшихся на берегу.
Чёрт! Атласов краснеет при воспоминании, что Якутск хохотал потом ещё добрых полгода. Нечего сказать, герои! А особенно он сам!
Что ж, может быть, Щипицын и прав, виня во всем его одного. Ведь он был начальником отряда, в его власти было пресечь разгул! Так нет же! Он и сам очухался только в тюрьме и сообразил, что к чему, лишь на следующий день. Потом спохватился, писал покаянные письма в Сибирский приказ, обещая отслужить вину приисканием новых земель, – поздно! Тюремные запоры захлопнулись крепко, и вот уже пять лет протирает он здесь бока на деревянных нарах. Здесь, в тюрьме, узнал он и о гибели Потапа Серюкова. Потап действительно построил в верховьях Камчатки острог, благополучно перезимовал в нём и собрал богатейший ясак. Но на пути в Анадырское казаки подверглись нападению и погибли.
Отец... Стеша... Потап... Три тяжкие для него утраты. Зачем он сам жив? Он создан был для движения, для вечного поиска чего-то невиданного ранее людьми и только в таком поиске чувствовал себя счастливым. Гнить заживо в тюрьме – это страшнее даже смерти. Он готов пойти на любые муки и страдания – только бы не сидеть вот так в бездействии.
Лязг дверного замка прерывает его размышления.
– Наконец-то! – довольно потирает руки Щипицын. – То сторож. В торговых рядах нынче людно – дело к зиме. Навезли, должно, якуты из подгородных волостей и рыбки, и сметанки, и маслица. Разживёмся у них, народ они не жадный. А хлебца либо лепёшечку аржаную подаст какая-нибудь из казацких жёнок. Они жалеют нас, тюремных сидельцев.
Щипицын сразу заметно подобрел, глаза его оживились, заблестели.
– Пойдём, а? Не пожалеешь! – ещё раз предлагает он Атласову. – Гордыней сыт не будешь. От гордыни в тюрьме только десны пухнут да зубы вываливаются.
– Чёрт с тобой! Пойдём! – неожиданно для самого себя соглашается Атласов. Лежать всё время на жёстких нарах, точить сердце горькими воспоминаниями у него больше нет сил.
Однако вместо сторожа в тюремную келью протискивается подьячий воеводской канцелярии, одетый в малинового сукна кафтан и островерхую шапку с лисьим околышем. Лицо у подьячего маленькое, сморщенное, словно у новорождённого, он близоруко щурится и спрашивает:
– Который тут разбойник Володька Атласов?
Едва Владимир поднимается с нар, подьячий объявляет:
– Стольник и воевода Дорофой Афанасьевич Драурних велит доставить тебя, Володька, в канцелярию.
Атласов тяжело вздыхает. Он не спрашивает, зачем понадобился в канцелярии. Драурних – фамилия для него новая. Значит, в Якутске опять сменился воевода. Всякий новый воевода из любопытства вызывает Атласова, чтобы своими глазами взглянуть на казака, который проведал знаменитую соболем Камчатку и за то был жаловав государем, но потом оказался разбойником.
Заметив краем глаза, как разочарованно вытянулось лицо у Щипицына, Атласов накинул на плечи потёртый кафтан и вышел вслед за подьячим.
Славен город Якутск!
По высоте стен и башен нет в Сибири городов, равных ему.
В городские стены врезаны восемь башен; одна из них, увенчанная часовенкой во имя Спаса, вознесла маковицу на четырнадцать с половиной саженей. В городе разместились обширные воеводские хоромы, Приказная изба, или воеводская канцелярия, ясачные амбары, караульня, оружейный двор, пороховые погреба; особой стеной огорожены строения, где содержатся тюремные сидельцы. К тюремному острогу привалилась обширная пыточная изба, наводящая ужас на всё воеводство.
Отступив от главных городских стен, сложенных из мощной лиственницы в двадцать восемь сдвоенных венцов до облама, да пять венцов – облам, высится вторая линия укреплений – стоялый бревенчатый палисад, над которым парят островерхие шатры ещё восьми мощных башен, сквозь узкие прорези которых смотрят пушечные жерла.
Всё это вместе – новый город. Он отнесён от берега Лены на четыреста саженой.
А на самом берегу Лены, подтачиваемые паводками, но всё ещё величественные, висят над водой башни и стены старого города. В старом городе выделяются резные маковицы обширного собора во имя Николая Чудотворца, размещены там также несколько тюрем, в одной из которых и содержались Атласов со Щипицыным – тюрьмы эти не успели перевести в новый город.
Следуя за подьячим, Атласов, опустив голову, брёл кривыми слободами посада, который занимал обширное пространство от стен старого города до палисада нового.
За те пять лет, которые Атласов провёл в тюрьме, посад разросся настолько, что Владимир едва узнает иные слободы.
В южной части посада, за логом, строится высшая служилая знать – дети боярские, казачьи головы, сотники, пятидесятники, подьячие Приказной избы и избы Таможенной, а также и рядовые казаки.
На другой стороне лога, северной, берёт начало длинная слобода торговых, промышленных и ремесленных людей; эта слобода упирается в торговую площадь, на которой размещены лавки гостиного ряда, числом более двадцати, базар, а также око всякой торговли – Таможенная изба. Это самое оживлённое место в Якутске. Здесь, поближе к торговой площади, стоят крепкие избы, иные в два жилья, приказчиков, именитых торговых людей.
На отшибе от этого суетного места, ближе к реке, возвели свои дома с глухими заборами ссыльные старообрядцы, а в северо-западной части посада селятся прочие ссыльные, среди которых много грамотеев, в основном из поляков. Эти неплохо кормятся, составляя на торговой площади всякому люду челобитные, кому какие надобны. Берут они и казачьих детей в обучение грамоте. Атласова и самого учил грамоте старый поляк Фёдор Козыревский, взятый в давние времена в плен под Смоленском. Поляк этот давно уж в могиле, а сын его и внуки, как Атласов слышал, служат нынче на Камчатке. Из ссыльных поляков служили многие и подьячими в Приказной избе, ведая столами. Крайние избы слободы ссыльных примыкают к стенам Спасского монастыря – там церковь, часовни и кельи братии.
Таков Якутск в целом. Множество башен, церковных куполов, видных издали, обширность и добротность построек, многолюдство, пестрота одежд, языков и говоров, крупный размах торговли – всё это и создаёт Якутску славу первого в Сибири города.
Торговая площадь перед Таможенной избой запружена людьми в разноцветных кафтанах – меховых, суконных, атласных. А кое у кого уже и шубы на плечах. Приезжие якуты, тунгусы и юкагиры осаждают купеческие лавки, покупая топоры, усольские ножи, цветные сукна и шелка, позумент и бисер.
Атласов, проталкиваясь сквозь базарную толпу, старается избегать взглядов встречных казаков. Он знает, что среди казаков ходит о нём присловье: «Один из наших тоже взлетел высоко, да как упал – больно расшибся».
На этот раз ему повезло: никого из знакомых в толпе не встретил. Впрочем, горько усмехается он, ему везёт всё чаще и чаще.
Он так долго сидит в тюрьме, что знакомых у него скоро не останется вовсе.
Миновав торговую площадь, Атласов с подьячим вошли в новый город через въезжую башню.
Приказная изба, или, по-новому, воеводская канцелярия, рублена в два жилья (этажа), нижние окна забраны железными прутьями, верхние поблескивают слюдой. Крыльцо канцелярии резано деревянных дел мастерами, точёные балясины украшены кружевом и петухами.
В канцелярии четыре стола: денежный, ясачный, хлебный и разрядный, делами которых ведают назначенные воеводой подьячие числом до восьми. Для сношений с инородцами в штат канцелярии зачислены два толмача. Здесь же служат и выборные от мирских людей целовальники, которые целовали крест, обещая пуще собственных глаз беречь государеву денежную казну, честно собирать доходы с царёвых кабаков и хранить всякие государевы запасы.
Самая обширная и светлая комната в канцелярии отведена воеводе. Здесь он принимает челобитчиков, вершит суд на своё усмотрение, тягает за бороды нерадивых подьячих и целовальников.
Сюда, в эту комнату, и ввёл подьячий Атласова.
Стольник и воевода Дорофей Афанасьевич Драурних восседает в широчайшем кресле, которое, однако, кажется для него тесным – столь он тучен и громоздок. У него слоновьи ноги, мясистое равнодушное лицо перевидавшего всё на свете человека и невыразительные, цвета холодной свинчатки глаза, опушённые белёсыми ресницами.
– Очень нехорошо быть разбойник! – оттопырив толстую нижнюю губу, говорит он Атласову, словно тот его только что ограбил. «Немчин поганый, русского языка не успел выучить, а туда же – читать наставления!» – тоскливо думает Атласов.
– Вишь, воевода, пошалили мы немного с казачками. Было дело, не отпираюсь, – вежливо соглашается Атласов, чтобы хоть как-то поддержать беседу, которая заранее обещает быть скучной.
– Что есть пошалили? – поднимает кверху белобрысые брови воевода. – Шалость есть невинный детский развлечений. А ви хватай делай грабить торговый государев человек. За такой поступок иметь быть караться в цивилизованный мир верёвкой вокруг шея, покуда приходит смерть... Государь много обижен тобой есть. Надо хорошо делать служба. Теперь государь велит делать приказ посылать тебя и твои люди обратно в Камчшатка. Тюрьма нихт. Ти есть свободен.
Атласов стоит совершенно оглушённый. Как! Вот этот огромный каменный болван с холодной немецкой начинкой привёз ему весть о свободе!.. Пол начинает уходить у него из-под ног.
– Ну, ну! Полно, голубушек, – вставая во весь свой огромный рост, успевает поддержать Атласова воевода. – Тюрьма нихт! Это есть святой правда! Мы больше не будем разбойник, мы будем жить честно, чёрт нас похвати!
Драурних улыбается каменными губами, Драурних даже пытается неуклюже шутить. Но едва он убеждается, что Атласов пришёл в себя, как тут же объясняет: государь, приказав освободить Атласова, дал Драурниху право вздёрнуть казачьего голову при первой же серьёзной провинности на любом подходящем суку, не отписываясь в Москву. Поэтому, вдалбливает Драурних, Атласов должен служить, не щадя ни своего живота, ни живота казаков. Таковы условия его освобождения.
Военное счастье по-прежнему не сопутствует государю в его войне со шведами, казна государева пуста – поэтому Атласову надлежит всеми мерами гнать с Камчатки поток пушнины. Если же казачий голова не оправдает возложенных на него ожиданий, пусть пеняет на себя самого.