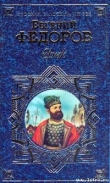Текст книги "Встречь солнцу. Век XVI—XVII"
Автор книги: Николай Коняев
Соавторы: Владислав Бахревский,Арсений Семенов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 40 страниц)
Они умели голодать. Им было с кого брать пример. Северный человек не пугается пространства. Выстели перед ним Великий океан, научи ходить по воде, и северный человек весело отправится на денёк-другой в гости к хорошему другу с Камчатки в Сан-Франциско. Северный человек будет идти день, и другой, и третий, не сомкнув глаз, без крошки во рту.
Они – русские люди, прибитые морем к неведомой, но громадной земле, шли шесть недель, и уже целую неделю был голод. Это был голод среди снегов, под пургой с океана, голод бездомных, обмороженных людей. У них ничего не осталось, кроме оружия и меховых одежд. Силы у них тоже не было, но они не бросали оружия и берегли ремни, на которых оно держалось. Они ели свою одежду. Силы после такой еды не возвращались, а холоднее становилось. Но ведь не умирали всё-таки. Всё-таки не умирали. Они жили, они каждый день шли вперёд, прижимаясь к океану и не упуская из виду кол-звезду. Лютовали морозы, но никто из мореходов не подумал повернуть на юг. Была цель – Анадырь-река. И они шли к ней, не зная, что она такое, какие народы встретят их там, далеко ли она или совсем неведомо как далеко. Они верили в свою Анадырь-реку и месили непритоптанный снег не одну сотню вёрст.
Вырыли в снегу яму. Гора заслонила от большого океанского ветра. Снег, как шатёр, укрыл от малых змеевитых ветерков.
Трудно отыскали среди камней и заносов тощие деревья, трудно разожгли огонь, поставили на него котёл с водой и лоскутами кухлянок, ждали, когда кожа разбухнет и можно будет жевать её больными зубами вприкуску с мёрзлой корой осины.
– Тяжко соболя-то даются, а? – толкнул в бок Митяя неунывный Фома Пермяк.
Пока плыли на кочах, был Фома человеком маленьким, пока была еда, не замечали, а как невмоготу стало – без Фомы и дня не прожить. Был он всегда молодец молодцом и таким весёлым, что и в голоде смеялся.
Сидят служилые в снежной яме, над головой ветер поёт, в животе голод. От мокрых торбасов – пар, на хилом огне варится и вовеки веков не сварится, кажись, ремённая еда.
Куда лежит их путь – неведомо, что их ждёт – неведомо, а холод – тут как тут, голод – тут как тут. И ползает в затемнённой голове червячок: а не предостаточно ли мук, не все ли кости морозом прощупаны, много ли мяса на теле чужой стрелой не пробовано? Помереть слаще, помереть легче, чем на пудовых лыжах тянуть пудовые нарты с пищалями, с порохом, с товаром для неведомых народов, которых всё нет и нет. Некого покорять, не с кем дружить, а торг один – или вьюга тебя завьюжит, или ты переборешь вьюгу.
Заводит Фома Пермяк, на закаменелых товарищей поглядывая, подковыристый разговор:
– Слышал я, Митяй, про ваших, устюжинских. Новину чистили два брата. День жаркий был, и упала на одного ель. Обрадовался парень. «Ваньмо! Как меня охолонуло! Садись и ты!» Брат сел, а другой пошёл ель рубить. Ель упала – и по башке. «Ваньмо! Охолонуло тебя?» А он-то молчит уж вечным молчком.
– А чего молчит-то?
– Да как же ему, Митяй, не молчать? Понравилось.
– Елью-то?
– А чего?
– Ничего. Ели-то, они здоровые больно.
Не смеются казаки, но и червячок уже не копошится. Сидор Емельянов подхватывает разговор:
– А у вас, Фома, в Перми-то, слыхал я, сватают хорошо. Приходят к невесте сват да полусват. Сват хвалит жениха, а полусват – вдвое. Говорит сват: «Жених-то хороший, у него две лошади». А полусват: «Что ты, две – ведь четыре».
«У него четыре коровы».
«Что ты, четыре, ведь восемь».
«Одно нехорошо в женихе: видит плохо на один глаз».
«Что ты, на один – ведь на оба!»
И хохот вдруг. Смеются хорошо. Потом жуют безвкусную клейкую кожу. Пьют отвар из коры и валятся спать.
Дежнёв не поднимает их спозаранку, как в первые недели пути. Сон сохраняет те малые силы, которые есть ещё в людях и которые надо сберечь. Даже сам приказчик реки Анадырь не знает, где она, его река, за ближней горой или за горами, день до неё идти или ещё пять недель.
Спит Семён, знает, что спит, а мысли в голове ходят ясно, как наяву.
– Где же вы, иноземцы? – спрашивает он. – Объявитесь! Хватит прятаться. Давайте воевать, если не хотите миром идти под московского царя. Давайте торговать. Вам полюбятся наши диковинные товары. Объявитесь! Мы умираем с голоду. Нельзя прожить на земле без людей. Объявитесь!
И вдруг запорхала перед Семёном малиновая, с голубыми глазами да зелёными разводами бабочка, а ростом с лопух. Села. Семён подкрался близко – не улетает. Упал на неё и поймал. Обрадовался. Показывает своим казакам, а пыльца слетела вся: большая бабочка да серая.
Закричали вдруг дико. Вскочил Семён. Держат казаки под руки Пятко Неронова, а нос у Пятко уже в крови.
– На тебя, Семён, спящего, с ножом кинулся.
– Убивайте! – Пятко Неронов плакал навзрыд. – Силы больше нет. Куда он ведёт нас? В пропасть. Один снег. Съедим кухлянки – от мороза подохнем, не съедим – с голоду.
– Ты хочешь идти назад? – спросил Дежнёв. – Иди. Может быть, теплее будет и сытнее. А мы пока не дойдём до Анадыря, не разойдёмся. Много нас. Трудно еду для всех добыть. А малыми отрядами – скорей погибнем. Решайте, служилые!
– Чего решать! – крикнул Фома Пермяк. – С ним вот чего делать?
– Будет тащить нарты три смены.
Пятко – в ноги.
– Прости, Семён Иванов, спасибо, что не убил. Разум темнеет. Ведь второй раз спасаешь меня.
Будто во сне, будто сквозь туман, ещё неделю шли. Валились отдыхать через десяток шагов, но шли. Оружия не бросали. И ни один больше не роптал.
В тот день они спрятали на приметном месте товары, пробились сквозь осинник и на краю леса легли отдохнуть и заснули. Так мало осталось в них жизни, что не бредили громко, а сны были ласковы, как в детстве, и никому не захотелось пробудиться.
Митяю снился мёд. Будто вовсе он не Митяй, а медведь. Сидит себе на дереве и черпает лапой. От каждого глотка силы растут, и сам он огромный, как Святогор. Тепло ему, ветер цветочный с полей, пчёлы кусают, но не больно. Щекочут его пчёлы, и смеётся он так, что листы на осинах дрожат.
Дежнёву приснился другой сон. Опять пришёл к нему Пичвучин. Снег лежит белый, просторный. Бежит Пичвучин, падает, проваливается.
– Ты куда торопишься? – спрашивает Семён.
– К тебе.
– А чего ко мне-то?
– Как чего! Плохо тебе. Ты меня спас от рыбы, и я тебя спасу.
– Спасибо, Пичвучин. Только ведь спасать меня от чего. Голодно – это да. Да разве сможешь ты накормить такую братию?
– Накормить я вас накормлю, да не об этом речь. Посмотри на своих казаков.
Глянул Семён, а казаки под снегом. Бороды у них ледяные, глаза – стеклянные. Замерзают.
Проснулся Дежнёв. Вскочил. И правда, под снегом казаки, ни один не шевелится. Давай тормошить их.
Противились, молили не трогать, грозили, а когда поднял всех, благодарили бога.
– А ведь не наш бог спас наши души, – сказал им Семён. – Пичвучин во сне явился мне. Говорит, замерзают твои казаки. Я проснулся и диву даюсь – не обманул крошка Пичвучин, лежите вы под снегом, ни ногой, ни рукой.
Фома Пермяк серьёзно сказал:
– Ну, как увидишь ещё Пичвучина, скажи ему за нас спасибо. Сердце, видать, у него доброе.
Пошли было в путь, и вдруг – медведь. На людей прёт.
– Семён! – закричали казаки. – Стреляй, пока не ушёл.
Дежнёв – пистоль из-за пояса, бахнул. Медведь заревел, на дыбы, махнул лапой – Пятко Неронов кувырком и – бездыханно. А медведь на Семёна, да заслонил его Митяй. Обнялись они с медведем и стояли долго, только похрустывали кости. Слабеть стал Митяй, а казаки вокруг недвижимо, словно зачаровали их. Думали, конец Митяю. А медведь заревел вдруг и осел. Митяй на него, без силы. Темно в голове, а рукам горячо.
Подбежали казаки, очнувшись: готов медведь. Всадил ему Митяй в сердце нож. И Дежнёв не промазал – в левый глаз пуля вошла.
Пока обдирали шкуру, пока отхаживали Митяя, запылал костёр. Медведь сломал Митяю три ребра, а Митяй спас казаков от голодной смерти.
Пятко Неронова никто не пожалел, но Дежнёв велел схоронить мужика по-христиански. Яму долбили, молитвы читали. Поставили крест. Осиновый крест. Больше-то не из чего было сделать.
Митяя везли на нартах. Никто не роптал, что тяжёл больно паря. Хороша была медвежатина, жирна, сила от неё закопошилась в руках, побежали ноги резвей.
На десятую неделю пути пришли казаки на Анадырь-реку.
Не порадовала Анадырь-река.
АнадырьВ землянке было тепло и сытно. Вечеряли. Кто-то про что-то лениво вспоминал вдруг, его так же лениво слушали, балуясь расколодкой. Расколодку готовили из вкусной рыбы реки Анадырь. Рубили проруби, скучавшая по воздуху рыба сама прыгала на лёд. Её морозили, а потом ели, раскалывая ножами.
Здесь было много красной рыбы, но леса было мало. Где нет леса, там нет соболя. Иноземцев тоже не нашли. Тогда отряд разделился надвое. Дежнёв остался возле устья реки, а другая половина с Фомой Пермяком пошла искать иноземцев или хотя бы следы их.
Минуло три недели, а Пермяк всё не объявлялся.
Басни рассказывать надоело. Примолкли. Встревожились. Вдруг Митяй сказал:
– Чует моё сердце – придёт нынче Фома.
Засмеялись.
Трещала лучина. Люди дремали. А стоило пламени шевельнуться, как головы поворачивались к двери.
И дверь распахнулась наконец. С клубами мороза, под рёв пурги вполз Сидор Емельянов, а за ним Фома Пермяк.
К ним бросились. Стащили с них обмерзшие одежды. Поставили еду. Они ели, и никто их ни о чём не спрашивал.
Фома заговорил сам:
– Иноземцев не нашли… Наши мужики вырыли ямы в снегу и ждут вас. Сил больше не было идти. Недалеко уж осталось, версты три-четыре, а сил больше нет… Втроём к вам пошли: я, Сидор и Зырянин Иван. Иван тоже не дошёл, в снег лёг, ждёт…
Казаки вскочили, полезли в кухлянки, поразбирали оружие.
Иван Зырянин замёрз. Отряд не нашли. То ли иноземцы взяли сонных казаков в плен, то ли звери утащили, то ли пурга занесла хитро.
Осталось на Анадырь-реке двенадцать счастливчиков. Готовили брёвна для будущего острога, ловили рыбу, поглядывали на солнце. С каждым днём солнце всё дольше и дольше задерживалось на небе. Близилась весна. Надо было жить.
ПоследнееСквозь решетчатые, расписанные морозом окна заглядывала игриво государыня Москва.
Начальник Сибирского приказа, окольничий Родион Матвеевич Стрешнев долго молчал, то бороду пощипывал, то поглядывал на стоявшего перед ним казака, то косился на подьячего, топившего печь.
– Как же так случилось, казак, что девятнадцать лет не получал ты государева жалованья?
Казак вежливо поклонился, прежде чем ответить.
– У нас многие так, то денег нет, то в походе дальнем. Я в походах все годы был.
– Подсчитали мы. Выходит тебе жалованья денежного девяносто пять рублей, а хлебного – за рожь и овёс – тридцать три рубля, один алтын и четыре деньги. Всего сто двадцать восемь рублей, один алтын, четыре деньги. Много?
– Много. Да ведь заслуженное.
Стрешнев взглянул по-особому на гордого казака.
– А сколько тебе лет?
– Шестьдесят.
– Шестьдесят? Борода седая, а лицом молод.
– Северные люди долго не стареют.
– Ну, что ж, Семён Дежнёв, спасибо! Хорошо государю послужил, – уткнулся в бумаги. – Открыл новую реку Анадырь, острог там поставил, явил государю двести семьдесят соболей, двести восемьдесят четыре пупка[92]92
Соболий пупок – брюшко соболя с редкой короткой шерстью.
[Закрыть] собольих. Двести восемьдесят девять пудов кости рыбьего зубу по шестьдесят рублей за пуд, – покачал головой окольничий. – Двести восемьдесят девять пудов! Это ведь на семнадцать тысяч рублей с лишним. А сколько сам для себя добыл моржового зуба?
– Тридцать один пуд.
– Деньги получил?
– Нет пока что.
– Получишь, Семён Дежнёв. Сам государю о тебе скажу. Деньги получишь. Проси в чём ещё нужда.
Семён стоял в тяжёлой собольей шубе, широкий, гордый, знающий себе цену человек. Осанкой боярин, одеждой – Стрешнева побогаче. Сказал:
– Хочу бить государю челом, просить чин. Тридцать пять лет служу, был приказчиком на реках, а всё простой казак.
– Подавай челобитную, Семён Дежнёв!
– А ещё бы царя увидеть!
Родион Матвеевич встал.
– Царя? Не простое дело, но тебе обещаю, увидишь царя.
Семён улыбнулся, и Стрешнев тоже вдруг улыбнулся.
– Ступай, казак, с богом. Гуляй себе по матушке Москве. Отдыхай от походов. Когда время придёт, позову.
Царь Алексей Михайлович занимался делами.
Двадцать лет сидел он уже на троне. Краснощёкий, как мальчик, синеглазый, русобородый, он был ужасно толст, но по-прежнему лёгок на подъём и горяч.
Перед ним лежала приходо-расходная книга села Измайлова, и он с удовольствием перечитывал её. Урожай был хорош. Измайловские сады принесли 3938 вёдер яблок, 93 ведра смородины чёрной, 68 вёдер красной, 11 вёдер белой, 19 вёдер малины красной, 2 ведра белой, 25 вёдер крыжовнику, 7 вёдер клубники, 12 вёдер вишен.
Русские растения царя радовали, а вот с иноземными – беда, росли плохо, хотя для них из-за моря выписывали лучших мастеров.
В силу мастеров Алексей Михайлович верил беззаветно, никакие беды не могли подорвать этой веры. Бумажное дерево – хлопчатник – в Москве произрастать никак не хотело.
– Мастера плохие! – твердил царь и требовал, чтоб нашли других, лучших.
Своему воеводе в Астрахани он писал:
«Сыскать семени бумаги хлопчатной самого доброва, сколько можно, и садовника знающего, самого же доброва и Смирнова, который бы умел завести бумагу на Москве. А в Астрахани семени не сыщется, и боярину и воеводе семени подрядить вывести из-за моря, и мастера призвать из-за моря ж. Ткачей сыскать, которые б из хлопчатной бумаги умели делать миткали, кисеи, бязи и бумагу».
Была у царя мечта развести на Москве диковинные и полезные заморские растения, и те, что на юге росли, и те, что на севере, чтоб Москва всем была богата, чтоб все у неё своё было, непривозное.
В измайловских садах высаживали виноград, финиковое дерево, дыни бухарские и туркменские, арбузы шемаханские и астраханские, миндаль, астраханский перец, кавказский кизил, венгерские груши, траву марену, хлопчатник и тутовое дерево. Особенно тутовое дерево. Очень уж хотелось царю иметь собственный, московский, шёлк.
Понимая, что дело это хлопотливое и что вырастить на Москве тутовник, может, и не удастся, царь приказал искать такого мастера, который бы умел выращивать шелковичных червей другим способом. Царь даже рецепт придумал: «Из тутового дерева бить масло и, в то масло иных дерев лист или траву обмакивая, кормить червей и за помощию божию завесть шёлк на Москве».
За такими вот раздумьями застал царя соколиный верховный подьячий Василий Ботвиньев.
Алексей Михайлович обрадовался ему, предстояло дело забавное и любимое: сегодня Ивана Ярыжкина возводили в чин сокольника.
Обряд совершали в просторной комнате.
Против царского места стояло четыре нарядных стула, на них четыре птицы: на первом стуле – кречет, на втором – челиг кречатый[93]93
Челиг – молодая ловчая птица.
[Закрыть], на третьем – сокол, на четвёртом – челиг соколий. Между стульями – сено и попона. За стульями – стол, покрытый ковром, а на нём наряды птиц и наряд нововыборного.
Четыре птицы его держали рядовые сокольники. Они стояли перед столом, в рукавицах, но без шапок. Остальные сокольники выстроились по обе стороны стола.
Приехал царь. Сел на своё место.
Посокольничий Пётр Хомяков спросил Алексея Михайловича:
– Время ли, государь, образцу и чину быть?
– Время объявляй!
– Время наряду и час красоте!
Посокольничьему принесли челига нововыборного. Стали наряжать птицу. Один надел на челига красный бархатный клобучок, расшитый серебром, другой – серебряные колокольцы, третий – обносцы и должник, ремень, пришитый к рукавице.
Нарядили и других птиц.
– Время ли, государь, принимать и ко нововыборному посылать украшения уставлять?
– Время, – сказал царь с удовольствием, ему нравилась торжественность этой красивой игры, которую исполняли перед ним с такой серьёзностью и волнением лучшие его сокольники.
Привели Ивана Ярыжкина. Он был в цветастом суконном кафтане, в жёлтых сапогах.
Помолились.
Верховный соколиный подьячий Василий Ботвиньев сказал речь:
– Великий Государь, царь и великий князь Алексей Михайлович всея Великая, Малая и Белая Руси Самодержец! Нововыборный твой, государь, сокольник Иван Гаврилов сын Ярыжкин тебе, Великий Государь, челом бьёт.
Ярыжкин и двое рядовых старейших сокольников с ним покланялись.
– Поставить на поляново! – приказал царь.
Ярыжкин встал на сено. На него надели горностаевую шапку, четырёхугольную сумку, на которой была вышита волшебная птица Гаюн, дали вощагу – палку с шариком, серебряный рог, полотенце и рукавицы.
– Время ли мере и чести и укреплению быть? – спросил Хомяков.
– Время.
– Начальные! Время мере и чести и удивлению быть.
Василий Ботвиньев взял из сумки Ярыжкина письмо: нововыборного пожаловали пятым начальным. В конце письма стояла приписка: «За непослушание – на Лену».
Когда церемония подходила к концу, Алексей Михайлович вдруг вспомнил одну мысль, которая вот уже недели две не давала ему покоя. Но опять отвлекли.
Окольничий Родион Матвеевич Стрешнев ударил челом, просил принять служилых людей. Царь вышел к ним. Служилые стали на колени, поклонились.
– Поднимайтесь, – попросил царь.
Дежнёв глядел на этого толстого и румяного человека и ждал его слова. Ведь слово это не могло быть простым. От него зависели судьбы людей во всех далёких и близких концах страны.
Стрешнев представил царю служилых.
– Это Дежнёв Семён Иванов, – говорил он, – ленский казак. На Колыме служил, ходил на реку Анадырь.
– Далеко! – сказал царь. – Холодная страна.
«Оценил! – сердце у Дежнёва забилось. – Оценил! Понял! Далеко. Ещё как далеко, ещё как холодно! Да ведь и голодно».
Царь смотрел на служилых, они на него.
– Так наградить всех надо! – вдруг придумал Алексей Михайлович. – Всем по полтине. Или уж по рублю. По рублю!
Царь удалился. Оставшись один, он сел писать заведующему Аптекарским двором: «Приказать Зоту Полозову, чтоб он учинил опыт: велел иссушить рыбы – белуг и осётров и мелкой какой-нибудь порознь, сколько доведётся, с костьми, также и без костей, и иссуша ту рыбу, истолчи, и истолча, просеять редким ситом или решетом и ту муку смешать всякую порознь с оржаною, ситною и решётною мукою, а положить рыбной муки в оржаную – в полы, в треть, в четверть, а замеся испечь и искрошить в сухари, а те сухари в каше, в варенье каковы будут?» И подумав, дописал: «А то учинить тайно, а не явно».
Ведь не дай бог, дурное получится!
Тем временем Семён Дежнёв сидел в захудалом кабаке и не пил даже. Скучно было, горько. Вспоминал погибших в походах друзей и толстого царя.
Хотелось бежать из Москвы.
Целый месяц ходил Семён вокруг дома вдовы боярина Василия Марии Романовны: сладко ли нести недобрые вести?
Решился всё-таки. Постучал в ворота.
Дворня, подозревая в нём недоброе, долго пытала, зачем ему боярыня, наконец, не добившись толка, впустила в дом, и он ждал в пустой душной комнате, когда позовут пред очи. Позвали не быстро.
Провели тёмными коридорчиками к высоким резным дверям.
Двери бесшумно распахнулись, и Семён зажмурился – так много было света в огромной диковинной комнате. Он первый раз в жизни увидел настоящее зеркало, да не одно, а сразу три. Семён стоял в этих трёх зеркалах, широкий от шубы, тяжёлый, чёрный, страшный почти. Был он чужой для этой комнаты, где сияли зеркала и тикали со стен, будто по ним скатывались капли воды, многие часы: германские, которые показывали время с полудня, от заката – по счёту богемскому, от восхода – по-вавилонскому, с полуночи, как в латинской церкви. Посреди комнаты на лёгких витиеватых подставках стояли медные чаши, и в этих чашах курились благовония.
У Семёна закружилась голова. Он таращил глаза, но не видел хозяйку.
– Здравствуй, казак, – сказали откуда-то сбоку.
Косясь на зеркала, Семён развернулся, сначала телом, потом неловко, чтоб не приметили, ногами.
В кресле у стола (а над столом поднимались шкафы, наполненные книгами) сидела женщина.
В смятении своём Семён не разглядел и не запомнил её лица, а может быть, он его и не видел. Он поклонился, торопливо достал из-за пазухи кожаный мешочек, шагнул к столу и положил его возле белых, тонких, без единого перстня рук.
Семён не видел-таки лица боярыни. Не видел, как схватилась за сердце, как жадно побежала глазами по латинским словам.
– Ты знал его, казак?
– Знал.
– Ты его давно видел?
– Давно.
– Что он?
– В бою сгибнул.
– Когда же?
– Лет уж как тридцать пять.
Боярыня вскрикнула. Долго молчали. Семён смотрел под ноги, на узорчатый пол.
– И ты всё время хранил это письмо?
– Сохранял.
– Спасибо тебе, казак. Возьми это.
В широкую казачью лапу, на которой один палец отмёрз, другой медведь отломил, опустился тонкий золотой ободок с белоогненной каплей.
Семён попятился к двери.
– Береги, как память о нём, как берег письмо. Это очень дорогой камень.
– Ах, да! – высоко взметнулся голос боярыни. – Вот тебе на вино.
Рядом с чудо-перстнем лёг разрубленный надвое рейхсталер, ефимком названный в России.
Двери закрывались уже, когда Семён поднял голову и спросил в отчаянии от совершившейся нелепости и несправедливости.
– Что же было в письме?
– Латинские стихи!
Он медленно шёл по скрипучему весеннему снегу. Над Москвой, над куполами церквей чуть плыла светлая голубая ночь. Ласкались звёзды. Деревья взлетали над тёмной громадой домов и земли тонкими точёными веточками.
– Эй! – крикнули Семёну.
Оглянулся. Перед ним стоял подьячий Сибирского приказа.
– Грамота на тебя пришла. Гони выпивку! Ты теперь не простой казак – атаман.
Семён сунул руку под шубу и бросил подьячему серебряный ефимок. Подьячий в изумлении от щедрости сибиряка согнулся пополам, а когда разогнулся, Семён Дежнёв маячил в конце улицы.
Остановился на миг, поднял глаза к небу. Кол-звезда подмигивала людям Московской земли, но никто не понимал здесь, о чём она подмигивает, а Дежнёв понимал.
…Никогда не знали русские люди, что сделали для мира, никогда не просили честную расплату, предовольные даденым, упивались неверным словом хвалебным, иноземной лаской бесстыжей, а что внутри бережено было, то не под золотом, не под хитростью, не под каким чином, а выше всего, – никогда не высказано, но любому да самому разнесчастному и последнему русскому известно.