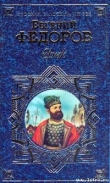Текст книги "Встречь солнцу. Век XVI—XVII"
Автор книги: Николай Коняев
Соавторы: Владислав Бахревский,Арсений Семенов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 40 страниц)
А. Семёнов
КРАЙ ЗЕМЛИ [94]94
Текст печатается по изданию: Семёнов А. Край земли. Хабаровск, 1975.
[Закрыть]


ТЮРЕМНЫЙ СИДЕЛЕЦ
«Где же царь?» – удивляется Владимир Атласов. Комната, куда судья Сибирского приказа[95]95
Сибирский приказ – центральное правительственное учреждение, в ведении которого находилось управление территорией всей Сибири.
[Закрыть], думный дьяк Андрей Виниус[96]96
Андрей Виниус (1641—1717) – русский государственный деятель, сын русского купца и заводчика, выходца из Голландии; один из ближайших сотрудников Петра I в ранние годы его царствования; возглавлял ряд приказов, в том числе в 1694– 1700 годы – Сибирский приказ.
[Закрыть], привёл его, ничуть не похожа на царские покои – узкая, с голыми бревенчатыми стенами и низким потолком. В стенах множество выщерблин и дырок – похоже, по брёвнам садили из пистоля.
По комнате вышагивает долговязый детина в замызганном нанковом халате, стоптанных башмаках и кое-как заштопанных чулках. Кучерявые длинные волосы его спутаны, голова трясётся – должно, с похмелья. Ужель царский слуга? Как такого допустили прислуживать самому царю?
В комнате стоит узкая койка с засаленным одеялом и подушкой. Если детина и впрямь обретается здесь, то спит он, надо думать, не снимая башмаков, – ишь как постель извожена. Кроме кровати, Атласов замечает заваленный бумагами стол с приставленным к нему тяжёлым дубовым креслом, а в углу, у входа – что за наваждение! – столярный верстак, усыпанный мелкой щепой, опилками, стружкой. Ужель так подшутил над ним Виниус – вместо царских покоев привёл в столярную мастерскую?
Атласов пытается заглянуть через плечо детины, отыскивая другую дверь, из которой может появиться государь. «Главное, не сомлеть, как предстану пред его очи!» – приказывает он себе.
Через плечо шагающего по комнате человека заглянуть ему никак не удаётся, тот слишком высок ростом, настоящий великан – под три аршина вымахал. И чего он мотается туда-сюда, на людей не глядючи? Должно, с похмелья башка трещит, а сообразить не может, у кого бы медную денежку перехватить на штоф сивухи.
Вдруг детина резко останавливается, поворачивается к вошедшим и смотрит прямо на Атласова отсутствующим и таким страшным взглядом тёмных глаз, что тот, внутренне содрогнувшись от своей догадки и сразу покрывшись испариной, решает, словно под лёд проваливается: царь! Ноги у него начинают подламываться, он рад скорее бухнуться на колени, ткнуться лбом в пол – лишь бы не видеть этих нестерпимых тяжких глаз царя, в которых он успел прочесть такую сосредоточенную волю, какая способна смять, сокрушить все мыслимые и немыслимые преграды.
В следующее мгновение круглые щёки, прямые острые усы, выпуклые глаза – всё на лице Петра оживает, губы раздвигаются в улыбке, обнажая крепкие, по-волчьи чистые зубы.
– А, казак! – говорит он дружелюбным негустым баритоном, не давая Атласову упасть на колени. – Знаю. Слышал. Хвалю!.. Мне теперь много надо денег. Мои молодцы под Нарвой[97]97
Мои молодцы под Нарвой... – имеется в виду поражение русской армии от шведов в конце 1700 года, в результате которого была потеряна вся артиллерия.
[Закрыть] задали такого стрекача, что всю артиллерию оставили шведам. Колокола велю снимать с церквей, чтоб лить пушки... За Камчатку, за соболей – спаси тебя бог!.. Езжай, казак, обратно. Шли мне соболей больше – за то тебе вечная моя царская милость. Хвалю!
Грозно выкрикнув это «хвалю!», государь с такой силой бьёт Атласова кулаком в плечо, что тот с грохотом вышибает спиной двери, кубарем вылетает из дворца и несётся выше церковных колоколен, с которых сняты уже колокола и на которых сидят и плачут безработные звонари, свесив ноги в лаптях. Потом он взвивается выше лесов дремучих, обступающих Москву, выше облаков бегучих и летит всё дальше и дальше, в сторону Сибири, слыша, как ветер свистит в волосах. Вот он пролетел уже над Уралом, над Обью и Енисеем, скоро под ним заструится великая река Лена и откроются глазу стены и башни Якутска – за тысячи вёрст унёсся он от Москвы и тем не менее всё продолжает видеть, как на пороге своей комнаты, уставив руки в бока и дружески ему подмигивая, хохочет царь, а рядом с ним вежливо подхихикивает старый Виниус, со шпагой на боку, в расшитом серебряным позументом камзоле.
– Пойдёшь или нет? В который раз спрашиваю! – сердито трясёт Атласова за плечо сосед по тюремной келье есаул Василий Щипицын.
– Куда?
– Милостыню просить[98]98
Милостыню просить... – Казна старалась не тратиться на содержание тюрем и «тюремных сидельцев», которые кормились главным образом сбором подаяний. Один из современников писал: «...тех людей, у кого есть отцы и матери, или иные сродичи и жена и дети, кормят их сами, своим. А у которых нет сродичей и кормиться нечем, и ис тех воров, которые в малых винах сидят, на всякий день ис тюрем выпущают по два человека, скованных, с сторожами, собирати по людям, по торгам и по дворам, милостыню, денгами и хлебом, а что они которого дни соберут, и тем себя кормят». Этот обычай существовал ещё в XIX веке.
[Закрыть]. Кишки-то, поди, у тебя с голодухи к позвонкам прилипли. Сторож гремел в дверь, велел собираться, кто хочет. Поведёт в торговые ряды.
– Не пойду, – угрюмо отворачивается к стене Атласов.
Нет ни Москвы, ни царя Петра, ни думного дьяка Андрея Виниуса. Есть лишь жёсткие с соломенной подстилкой нары, эта узкая – два шага от стены до стены – убогая келья, сырой сруб, опущенный в землю, каких за тюремными стенами, усаженными поверху железным «чесноком»[99]99
Чеснок – железные острые шипы, разбрасываемые на пути движения вражеской конницы; часто вбивались в колоды, опускаемые на дно рва; иногда вбивались и в верхнюю часть стены.
[Закрыть], в Якутске полтора десятка.
Щипицын что-то бубнит о гордыне, которая кое-кого обуяла, и что эти кое-кто могут подыхать с голоду, он таким мешать не станет, – но Атласов не слушает его.
Этот сон! Всегда, когда снится ему приём у царя, а потом он просыпается в тюрьме, горло ему захлёстывает горечь и всё окружающее становится невыносимым до боли в груди. И тогда он спешит погрузиться в воспоминания, ворошит прошлое, словно там, в прошлом, скрыта для него надежда на спасение.
Сколько Атласов помнит себя, всегда он жил словно на горячих угольях. Должно быть, какой-то бес сидел у него на загривке и не давал ни минутки пожить спокойно. На какие только проделки не толкал его этот бес в детстве! То заставлял забраться на кровлю самой высокой в Якутске башни и сидеть там, дрожа от страха, пока его не снимут оттуда ещё более перепуганные сторожа, то приказывал на спор с мальчишками переплыть рукав Лены до острова на самом быстром месте, то соблазнял отправиться в тайгу за соболиным царём, у которого каждая ворсинка на шкуре золотая, а на голове маленькая корона, усыпанная зелёными драгоценными камушками. И ведь убежал он и в самом деле в тайгу! – один, не предупредив даже своего дружка Потапку Серюкова. Три дня плутал он в тайге, под конец совсем ослаб от голода и лежал под скалой, слушая гул лиственниц под ветром. Выли волки, ночью с вершины лиственницы глядели на пего два огненных глаза и чей-то голос требовал: «Дуй в дуду!» – и другой голос глухо, словно под сводами церкви, отвечал: «Ух! буду, буду, дую!» И когда он осмелился открыть в ту ночь зажмуренные от страха глаза, увидел, как пробегал мимо золотой зверёк, вскочил на пригорок, и корона на нём засветилась, словно гнилушка. Потом беглец случайно наткнулся в тайге на якутов-охотников, и те привезли его на лошади в Якутск. И не было ему тогда ещё двенадцати лет.
Годам к четырнадцати из всех смутных желаний, какие его томили до той поры, остались всего два, но зато твёрдые, как гранит, и необратимые, как смерть. Вместе со своим другом Потапкой Серюковым дали они великую клятву: во-первых, отыскать страну, где кончаются ведомые человеку царства и одноногий великан сторожит китов, на которых стоит земля, во-вторых, побывать в Москве, поглядеть светлого царя Руси.
Решили начать с неведомой страны, которая есть край земли – это казалось им намного важнее, чем поглядеть Москву и царя. В Якутске чтили и славили более всего тех казаков, кто находил неведомые дотоле земли и приводил в государев ясачный платёж неизвестные таёжные племена. Самый воздух Якутска, казалось, был наполнен дыханием далёких, неведомых и дивных земель, ими грезили и взрослые казаки, и ребятишки, ещё державшиеся за мамкину юбку.
С тех знаменитых дней, когда вольная казачья дружина атамана Ермака перешла через каменный пояс Уральских гор и, преследуя огненным боем хищные Кучумовы орды, прорубилась к слиянию Иртыша и Тобола, а вслед за казаками Ермака тысячи русских людей в поисках воли и промысловой удачи хлынули на отверстые просторы Сибири, население которой встречало пришельцев как избавителей от вековой тирании больших и малых степных царьков, кормившихся разбоем, – с тех самых дней Русь всё ширилась и ширилась, а конца этой шири, края земли никто из землепроходцев до сих пор не достиг.
И вот они с Потапкой решили, как отрезали: найти этот край земли. Казак попусту слов на ветер не бросает, сказано – сделано. Готовились целый год. Весной, когда сошёл лёд, они тайком от родителей отчалили на крепком плоту и поплыли по Лене к её устью, ибо знали уже, что от устья великой реки по берегу студёного моря-океана можно было достичь края земли, если следовать всё время встречь солнца, потом от Анадыря-реки надлежало повернуть на полдень – тут тебе неподалёку и сам конец. Путь подростков не страшил. Была у них с собой парусиновая палатка, был старенький самопал, стащенный Потапом у отца вместе с изрядным запасом пороху и свинца, а он, Владимир, покусился на пару пистолей старого Атласа и саблю старшего брата Ивана. Кроме того, запаслись они рыболовными крючками и небольшим, трёхсаженным неводом, чтобы было чем добывать рыбу. В случае встречи с недружественными племенами они надеялись отбиться огнестрельным оружием, а голод им не грозил и подавно. Страшило лишь одно: выдержит ли разум видение того, что видеть ни одной душе христианской невмочь. На краю земли, там, где небо смыкается с землёй и солнце, перед тем, как оно поднимется по небосводу, лежит, огромное, в морской пучине, шипя, словно раскалённая сковородка, – там, на этом краю, изрыгают пламя тысячи жерл, простёршихся в ад, и пахнет серой, и обитают возле огненных гор люди немые – одна часть тела человеческая, а другая пёсья, а другие люди – великаны девяти сажен, у третьих ноги скотьи, у иных очи и рот в груди. Но наибольшее чудо – одноногий старик: головой небо подпирает, чтоб в океан не упало, а в четыре руки бьёт бичами китов, не давая выплыть из-под земли, ибо тогда земля потонет в пучине. Помимо всякой нечисти, имеющей облик, схожий с человеческим, есть там нечисть зверья. Обитает там крокодил – лютый зверь: как помочится он на дерево – дерево тут же огнём сгорает. Птица ног застилает там крыльями полнеба – велика столь, что вьёт гнездо на пятнадцати могучих дубах. Птица феникс свивает гнездо в новолунье, приносит с неба огонь и гнездо своё сжигает, и сама сгорает тут же. А в том пепле зарождается червь золотой, потом он покрывается перьями и становится единственной птицей – другого плода у этой птицы нет.
Стоило подросткам вообразить, с какими чудесами придётся им встретиться, как на голове волосы начинали у них шевелиться. Однако плох тот казак, который страх свой побороть не может. Надеялись они в случае опасности откреститься от нечисти – перед крестом господним всякая нечисть кажет спину – и решили следовать своим путём непоколебимо. Немножко утешало их то, что было достоверно известно: ни ужей, ни жаб, ни змей в стране той не водится, а если появятся, сразу умирают. И ещё – что нет в том краю ни вора, ни разбойника, ни завистливого человека – ибо всего там такое изобилье, что ни воровать, ни разбойничать ни у кого нет охоты.
Сколь наивны они были тогда с Потапом, каким только рассказам ни верили! А ведь поплыли всё-таки! Самое удивительное было в том, что уплыли они далеко в низовья и прожили на островке целый год. И с голоду не умерли. И сдружились так – клещами не растащишь. Искать край земли помешало им то, что они истратили все боеприпасы раньше, чем рассчитывали.
В Якутск они вернулись на коче, плывшем с Анадыря с моржовым зубом. Судно было потрёпано бурей, и промышленные, случайно заметив на одном из островков Лены дым костра, пристали к берегу, чтобы починить снасть. Они думали, что здесь промышляет какая-нибудь рыболовецкая артель и тут попотчуют их свежей рыбой.
Свежей рыбкой их здесь действительно попотчевали вволю, но вместо рыболовецкой артели обитали на острове два бесстрашных подростка.
Седобородый кормщик, узнав о том, что подростки вдвоём зимовали на этом забытом людьми и богом островке, схватился за голову:
– Святые угодники! Чтоб меня черти съели с потрохами, если я слышал о чём-нибудь подобном! Жаль, что я не ваш батька. Всыпал бы вам столько ремней – зареклись бы навеки своевольничать! Ведь вас дома, поди, давно уж оплакали.
Однако за стерляжьей ухой, выпив медовухи, кормщик запел совсем по-другому:
– Дивитесь, братья! То дети тех, кто прошёл всю Сибирь от края одного до края другого. То дух русский, то кость русская! То сила наша, возросшая трикраты.
Кормщик даже прослезился, речь его растрогала и всех промышленных с коча. Однако сами подростки остались равнодушны к похвалам. Ведь края земли они так и не сумели достичь.
Кроме того, тревожила их мысль: как встретят дома. Ясно было, что великой порки не миновать. Однако не порка ждала их в Якутске, но печальные известия. Отец Потапа погиб в Верхневилюйском зимовье, заблудившись минувшей зимой во время сильной пурги, а отец Владимира, Владимир Тимофеевич, прозвищем Атлас, метался в горячке.
Дня за два до возвращения сына Атлас был на охоте и, придя домой, рассказал, будто с ним случилась большая беда. Охотился он в горах Ытык Хайалар, недалеко от берега Лены. Долго гонялся за диким бараном, но не настиг, потому что начался проливной дождь, а потом и сумерки пали. Мокрый до нитки, охотник выбрался к неширокой речке, падающей в Лену. Возле устья, в окружении скал, защищавших от ветра, он развёл костёр, немного просушил одежду и кое-как скоротал ночь, стуча зубами от холода, ибо дождь не прекращался до самого утра. Дождавшись солнышка, он немного согрелся и хотел продолжать охоту. Но всё тело его болело и наполнялось ломотой – то ли простудился он, то ли бессонная ночь его измучила, а только не стало у него сил снова подняться в горы. Чтобы совсем не раскиснуть, лёг он на солнцепёке и заснул. Долго ли спал он, сказать не мог. Разбудили его раскаты сильного грома. Гроза – редкое явление в здешних местах, а тут гремело так – скалы тряслись. Речка в устье прямо дыбилась от могучих порывов ветра, а на Лене волны и вовсе вздувались – страшно взглянуть.
Вот тут-то и увидел охотник, как в речке, прямо напротив того места, где скрывался он под каменным карнизом скалы от хлеставшего ливня, появился голенький мальчик, а за ним ещё несколько. Все они плескались, резвились и хохотали от удовольствия. Когда в небе раздались раскаты грома, дети исчезли в волнах. Но едва затих последний раскат, они появились вновь и стали плескаться и веселиться в воде пуще прежнего. Их звонкие чистые голоса прямо заворожили охотника и наполнили его сердце радостью и свежестью. Но тут опять сердито загремело небо, и дети тотчас скрылись в глубине. Атлас рассказывал, что, когда замолкли их голоса, сердце его наполнилось скукой и печалью. Ему хотелось, чтобы они появились вновь. И действительно, один из шалунов во время сильного удара грома выскочил из воды, хлопнул себя ладошкой по голенькой попке и с криком «Вот возьми!» нырнул в глубину. Детская эта шалость совсем было рассмешила старого Атласа, вспомнилось ему, что и сам он в детстве позволял себе так дразнить взрослых, когда они кричали ему с берега, чтоб он, бесёнок этакий, не утонул, – но тут свершилось нечто такое, что смех застрял у него в горле. Небо совсем сошло с ума, раздался такой страшный удар грома, что охотник на некоторое время оглох, а когда слух вернулся к нему, услышал грохот позади себя и, обернувшись, обнаружил, что одна из скал обрушилась в реку. Тогда понял он, что здесь совершается единоборство небесных сил с бесовскими.
Но водяным детишкам, должно быть, понравился храбрый поступок первого малыша, все они на каждый удар грома стали выскакивать из воды и хлопать себя по попке, крича своё: «Вот возьми!»
Уже и дождь с ветром стихли, один сухой гром продолжал обрушиваться на богохульную реку, а водяные чертенята всё не унимались и весёлая их игра им не надоедала. Продолжалось так до самых сумерек. И услышал тогда Атлас как бы голос некий: «Помоги богу».
Страшная тяжесть навалилась ему на грудь, свинцом налились его руки, когда он наводил ствол ружья на реку. Всякое видел он на свете: видел, как татары кидали детей в огонь, и содрогался от гнева и ненависти, видел, как воеводы топтали ногами казаков и забивали насмерть кнутами, видел, как палач клещами рвал в пыточной избе тело татя[100]100
Тать – вор.
[Закрыть] и обрезал ему уши – и от всякого насилия душа его изнывала и обливалась кровью. И хотя бесовские детишки дерзили здесь, на реке, самому господу богу, непереносимо, тяжело было ему нажимать на курок. Не своей волей, но волей голоса, вещавшего ему приказ с неба, выпалил он в стайку резвившихся водяных детишек – и стон, и детский плач понеслись от утёса к утёсу.
И сразу вслед за выстрелом наступила страшная тишина – ни грозы, ни детского крика и смеха, ни даже плеска воды. Выронив ружьё, охотник опустился на землю и обхватил голову руками. Что же наделал он, боже праведный! Показалось ему, что душа его разорвалась на две части – одна из них была та, которая предназначалась для жизни вечной, и эту половину души он спас, вступившись за бога. Но другая, та, которая питала его в жизни земной, – эту душу он погубил навеки, поступившись самим собой ради высших сил. И тогда ему захотелось умереть, детский плач ударил ему вдруг в уши – невинность взывала к нему и укоряла за несправедливость. Ведь водяные детишки, будучи неугодны богу, не причиняют людям никакого вреда. Во время грозы они даже ищут спасения возле человека, превращаясь в щенков либо в котят. Пусть и нечистые, но ведь детишки, несмышлёныши! И вот он напоил их свинцом, и они захлебнулись кровью!
Почувствовав, что разум его мутится и слёзы жалости и раскаяния заливают его лицо, он кинулся прочь от этого места и понёсся сам не зная куда. В тальниках он наткнулся на копну и зарылся в неё. Запах свежескошенного сена, дух жизни и земного благоухания немного прояснил его разум. Высунув из копны голову, он увидел, что всходит луна, обливая окрестности мёртвым светом, – и мороз прошёл у него по коже. Он понял, что теперь будет. Скоро придёт водяной старик, дабы отомстить за кровь своих детишек, и нигде от него не спрячешься.
Но Атлас был старый казак, сотни раз глядел он в глаза смерти и знал множество уловок, как её обмануть.
Набив сеном свой кафтан и сапоги, он отнёс чучело в кусты и уложил «спать». Приладил к чучелу и свою шапку. Потом вернулся к копне и снова зарылся в неё. Едва он успел затаиться, как возле реки послышался шорох гальки. Вскоре охотник разглядел огромного старика с развевающимися белыми волосами и длинной седой бородой, поблескивавшей в лунном свете влагой. На плече он нёс мокрое бревно, должно быть, только сейчас извлечённое из реки. «Дети! Дети! – горестно причитал старик. – Ты, мой любимец Кмит, резвый, как форель, и ласковый, как плотица! И ты, шалун Чола, любивший перебирать мою бороду... Нету вас... Горе мне, горе!»
Заметив в кустах чучело, старик яростно вскричал: «Вот он, обидчик мой!.. Так вот же тебе, возьми!» – и с этими словами старик-водяной обрушил бревно на чучело с такой силой, что земля загудела.
Так Атлас спасся от гибели. По словам старшего брата Ивана, отец поведал об этом жутком происшествии будучи ещё в здравом уме. Но сразу после своего рассказа, вскрикнув: «Душу я свою погубил!» – он впал в беспамятство.
Владимир так и не успел попросить у отца прощения за свой побег – Атлас умер в бреду, никого не узнавая.
Отца Владимир любил больше всех на свете, старался во всем подражать ему, ибо старый Атлас и впрямь был знатный казак, славный во всем Якутском воеводстве и даже за его пределами. Отца знали и судьи Сибирского приказа в Москве, и даже царю о нём докладывали.
Владимир, сын крестьянина Тимофея, в надежде на удачный соболиный промысел пошёл из своей бедной белозерской деревеньки через Усолье в Сибирь, на великую реку Лену, в те дни, когда служилые казаки и промышленные ватаги рубили здесь первые зимовья и остроги.
Он ещё помнил, как зачинался Якутск. На просьбу пришлых русских людей – отвести место под укрепление и посад – местный князец-якут ответил отказом. Тогда пришельцы подступили с новой просьбой: отвести земли столько, сколько занимает бычья шкура. На эту необычную просьбу князец согласился из любопытства: как же будут существовать эти люди, теснясь на таком малом пространстве?
Русичи разрезали бычью шкуру на узкие ремни, связали их и обвели кожаной лентой столь обширную часть ленского берега, что им как раз хватило места для возведения острога. Князец пришёл в изумление от этой хитрости и подружился с казаками.
Острог каждую весну страдал от наводнений, и казаки перенесли его на семьдесят вёрст ниже прежнего укрепления – в зелёную долину Туймаада, окаймлённую серебряной подковой священных якутских гор Ытык Хайалар, к озеру Сайсары.
Пристать к ватаге охотников, промышлявших соболя, отцу не удалось – ему нечем было внести свой пай в артель. Тогда он поверстался на государеву казачью службу с годовым жалованьем в пять рублей с четью деньгами, семь четей ржи, шесть четей овса и два пуда соли. Выдали ему пищаль, саблю и нарядный атласный кафтан. За атласный кафтан свой он тут же и был прозван Атласом.
Ходил вновь прибранный на службу казак с отрядами сборщиков ясака по всем волостям огромного Якутского воеводства, голодал, мёрз, рубил с товарищами новые зимовья и остроги на дальних реках – в землях оленных людей, и в землях собачьих людей, и в землях людей полуночной стороны, какие строят жилища из китовых рёбер – ибо леса там не родится. Имел отец весёлый уживчивый характер, ни от какой работы не отказывался, и за то любили его товарищи.
Но уважаемым казаком он стал только после того, как свёл дружбу с Серафимом Петлёй, первой саблей воеводства. Серафим Петля позволил себе злую шутку над одним худым казаком, который нечаянно облил Серафиму новый кафтан медовухой в якутском кабаке. Серафим заставил казака залезть под стол и полчаса лаять собакой, потом велел несчастному, осмеянному всеми казаку раздеться и трижды обежать нагишом вокруг кабака по морозу. Тогда и встал Атлас, обозвал Серафима бессовестным басурманом, – то была дерзость, на какую не осмелился бы никто. Серафим вырвал из ножен саблю, Атлас обнажил свою.
Схватка была недолгой. Серафим скоро применил свой знаменитый приём – «петлю», за которую и получил грозное прозвище. Сабля его сделала обманное круговое движение и вышла жалом сбоку, чтобы пронзить горло противника возле уха. По счастью, Атлас споткнулся в это время о скамью и растянулся на полу. Клинок просвистел, к удивлению Серафима, по воздуху. Казак был вспыльчив, словно порох, но быстро отходил. Рубить поверженного противника он почёл ниже своего достоинства и, оцепив смелость, с какой Атлас встал ему поперёк дороги, не убоявшись его грозного имени, подал противнику руку. Вскоре они сдружились, и Петля обучил Атласа всем сабельным приёмам, какие знал сам.
Едва в воеводской канцелярии стало известно о новом искусном рубаке, как его тут же назначили вместе с Петлёй в число провожатых при государевой соболиной казне, ежегодно отправляемой из Якутска в Москву.
Путь до Москвы занимал полтора года. Всякое могло случиться во время столь долгого пути. И поэтому в число провожатых назначали казаков, каждый из которых мог один выстоять против десятерых. По малолюдству якутского гарнизона воеводы не могли выделять в провожатые за казной больше десяти-двенадцати человек, редко число это достигало пятнадцати казаков. Слух о том, что везут сокровище сокровищ, соболиную годичную казну самого государя, катился далеко впереди отряда, и казакам всегда приходилось быть настороже, ибо немало находилось степных царьков и просто лихих ватаг, готовых попытать счастья – отбить у казаков сокровище.
Во время первой же поездки Атласа в Москву казакам пришлось вступить в несколько стычек со степными конниками. Казну они отстояли, однако потеряли во время этих стычек двух товарищей. Об этих стычках стало известно даже царю Алексею Михайловичу, и он велел пожаловать казакам по десяти рублей сверх обычных денег за выход в Москву.
В некрещёной Сибири трудно было находить казакам себе невест. Поэтому был у них обычай: возвращаясь из Москвы, подговаривать по дороге молодых женщин и девушек ехать с ними в Сибирь. Атлас из первой поездки тоже привёз себе жену, совсем ещё молоденькую девушку, смуглую, глазом чёрную, будто бы из татарок, но крещёную – весёлую, бойкую характером, с удивительно густыми светлыми с рыжеватиной волосами. В неё и пошли все дети Атласа – старший Иван, младший Григорий и он, Владимир, – темноглазы, смуглы, с густыми чёрными бровями, а бороды и волосы на голове росли светло-русые с рыжевато-золотым отливом. И характер у всех троих был материнский – лёгкий, весёлый и горячий. Зато телом удались в отца – рослые, жилистые, крепкие, что молодые дубки.
Семья у них была дружная. Отец и в матери, и в детях души не чаял. Лет с одиннадцати-двенадцати учил он сыновей рубиться на саблях и никому не давать себя в обиду.
Отец, кажется, ходил в Москву в провожатых за казной четыре раза. Дважды видел царя. Один раз на соколиной охоте, а второй раз, когда Алексей Михайлович, облачённый в золотой убор, выходил из церкви. По словам отца, от государя лилось такое сияние, исходила такая святость, что все, кто лицезрел его, сходились в одном: сей царственный муж отмечен перстом божьим. Рассказы отца и заронили в сердце Владимира мечту увидеть белокаменную Москву и светлого царя Руси.
Атласов усмехается, вспоминая свою встречу с царём Петром, сыном сиятельного Алексея Михайловича. Меньше всего Пётр походил на того царя, облик которого рисовал он по рассказам отца. И всё-таки Атласов увидел тогда: это – царь! Может быть, столь же великий и страшный, как Иван Грозный. Царь-плотник, царь-богатырь, который могучими руками сворачивал, по рассказам, серебряные тарелки в трубку, царь, спящий на земле, подобно простому солдату, царь-гуляка и богохульник, труженик и гроза чванных бояр – такой царь был и страшен, и люб казакам. Не золочёная икона, но живой человек, мятущийся, дерзкий, кидающий вызов земле и небесам.
Но между смертью отца и встречей с царём легли для Атласова девятнадцать лет казачьей службы, на которую они с Потапом Серюковым поверстались семнадцатилетними зеленцами. Поначалу служили всё время вместе – ходили в сборщиках ясака по рекам Учуру и Улье, по Уди и Тугиру. С ними в одном отряде служил сын Семёна Дежнёва, Любим. От него они впервые и услышали о Камчатке.
Семён Дежнёв плыл на Анадырь из Нижнеколымского зимовья на кочах промышленного человека Федота Попова. Бурей кочи разметало в море, и суда потеряли друг друга из вида. Дежнёв думал, что коч Попова был разбит бурей. Но много уже лет спустя казаки Дежнёва, открывшие богатую моржовым зубом коргу[101]101
Корга – каменистая морская отмель.
[Закрыть] и обосновавшие на Анадыре зимовье, отбили у коряков пленную жёнку Федота Попова. Та и рассказала, что будто буря занесла судно Федота на неведомую реку Камчатку, там промышленные перезимовали, добыли несметное множество соболей и на другой год, обогнув Камчатку, возвращались домой Пенжинским морем. Однако на реке Палане, где промышленные пристали к берегу, чтобы пополнить припасы пресной воды, на них напали коряки и всех перебили, оставив в живых только жену Федота.
Любим клялся, что слышал этот рассказ из уст своего отца, ныне покойного. Будто бы Семён Дежнёв строил планы достичь богатой соболем реки Камчатки, но смерть помешала осуществить ему задуманное.
И вот Любим, Потап и Владимир уговорились: как только представится возможность, подать воеводе челобитную, чтобы он отпустил их проведать ту соболиную реку.
Но Любима вскоре назначили в другой отряд, а потом судьба разлучила Владимира и с Потапом, – и отчасти в этом была виновата сестра Потапа Стеша.
Была она года на два моложе их с Потапом, и они с детства привыкли шпынять её, чтоб не таскалась за ними, не встревала в их мальчишечьи игры, не лазила вместе с ними по крепостным стенам и башням, не ревела, когда ушибётся.
Но Стеша упрямо держалась за них. Её с Потапом мать знала толк в травах и ворожбе и слыла колдовкой. Серючиху побаивались в Якутске – как бы не навела порчу на скотину. Настоящим горем было для Стеши, что девчонки дразнили её ведьмачкой и не принимали в свои игры. Гордая самолюбивая девчушка вынуждена была разделять игры с Потапом и его дружком Володей, хотя они и старались изо всех сил не замечать её, стыдясь, что эта упрямица бродит за ними, как тень, что из-за неё мальчишки прозвали их сарафанной артелью. Даже когда Стеша подросла и стала почти взрослой девушкой, они по привычке обращались с ней, как с маленькой, и она старалась не обижаться на них. Подруг у неё по-прежнему не было, женихи тоже не досаждали ей, хотя ни красотой, ни статью бог её не обидел. Кажется, она и сама отшивала парней слишком сурово.
Однажды летом на покосах Атласов спросил у Потапа про разрыв-траву: бывает ли такая взаправду на свете? Потап только пожал плечами. Но Владимир не унимался – пусть-де у матери своей спросит. Потап насупился: как и Стеша, он не любил, когда напоминали, что мать его считают колдуньей, и заявил, что матери про разрыв-траву тоже ничего не известно. Тут и встряла в их разговор Стеша. «А я вот знаю!» – заявила она, хитро поглядывая на Атласова. Он сразу оживился, потребовал, чтоб говорила. «Надо зелёную траву кидать в реку, – серьёзно заявила Стеша, – кидать да поглядывать, какая против течения поплывёт. Это и будет разрыв-трава».
По предложению Владимира они, смеясь и дурачась, долго кидали пучки пахучей свежескошенной травы с обрыва в реку, почти целый прокос перекидали, – да только какая ж дурная трава против течения поплывёт?
Потаи скоро махнул рукой на пустое занятие, ушёл полежать в тени под кустом. А Владимир со Стешей весело и упрямо продолжали своё занятие до тех пор, пока не случилось чудо: пук зелёной травы вдруг остановился, прошёлся по кругу и двинулся как бы против течения.
С криком: «Разрыв-трава!» – они кинулись с обрыва, понеслись в воду, поднимая фонтаны брызг босыми ногами.
Стеша оказалась проворней и первой ухватила заветную траву, но на беду свою не умела плавать. Как потеряла дно, так и понесло её по течению.
Атласов до сих пор помнит, какой испуг пронзил его тогда от груди до самых пяток. Он рванулся за ней, быстро настиг и вынес из воды на руках. Всё произошло так быстро, что сама она, должно быть, даже испугаться не успела, и только руки её, крепко обвившиеся вокруг шеи спасителя, были напряжены, как камень. Но как она при этом улыбалась!
Он понял вдруг, его на руках его ей лежать покойно, видел её взрослую грудь, нежный овал широковатого светлого лица, большие, налитые тьмой и поднимающиеся из глубины тихим сиянием глаза её, – и у него остановилось дыхание. Смутившись, он опустил её на песок, но она глядела на него прежним взглядом, не мигая и не шевелясь, словно всё ещё покоилась на его руках.
Он отступил в замешательстве на шаг, и коса её, длинная пышная коса, долго сползала с его плеча, щекоча ему за ухом. И когда она, эта коса, упала наконец, повиснув вдоль напряжённого тела девушки до облепленных мокрым сарафаном колен, – только тогда он пришёл в себя и спросил, что надо делать дальше.