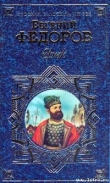Текст книги "Встречь солнцу. Век XVI—XVII"
Автор книги: Николай Коняев
Соавторы: Владислав Бахревский,Арсений Семенов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц)
IV. НА МОСКВЕ
Царь Алексей МихайловичВозвращались с охоты. Затравили матёрого волка. Царевич Алексей сам перерезал матёрому глотку, распалился, расхвастался, и все радовались тоже.
Наставник царевича Борис Иванович Морозов дал вдруг лошади волю, и все поскакали, тесня и обгоняя друг друга. Резвее были сердечный товарищ наследника, одногодок Афанасий Матюшин и, конечно, сам Алексей. Первыми пересекли поле, врезались в молодой березняк.
– Афонька! – крикнул царевич. – Уводи!
Матюшин попридержал коня, дожидаясь, чтоб его приметила свита, а наследник, увёртываясь от деревьев, дал стрекача в сторону.
Сбило шапку – засмеялся. Хлестнуло по лицу – опять засмеялся. Вырвался на опушку – и кубарем через коня.
Стояло расписанное облаками небо. Алексей потянул воздух в себя, в носу захлюпало. Вся морда небось в крови. Разом вскочил, потыкал кулаком в бока – целёхонек.
Вспомнил о коне. Красный, шёлковый, лежал он на синей осоке. Попал ногой в колдобину – начисто переломил: кость наружу вышла. Встал виновато Алексей перед конём на колени.
Отцу расскажут – ведь не будет ругаться, заплачет ведь.
Поиграть охота, Алексей? Нельзя: наследник ты. Свернёшь себе шею – смутам быть. Убийствам, войне, мору. Поиграть охота, Алексей? Нельзя. Нельзя царям играть. Терпеть надо.
Отец-то, бедный человек, с шестнадцати лет в царях. В царях ведь!
– Вставай! – заорал на коня Алексей. – Здрав будь! Велю!
Коня била дрожь, косил на человека большим глазом.
Алексей заколотил руками об землю, обжигая ладони осокой. Вскочил. Захлёбываясь до икоты слезами, вытянул нож.
– Погоди, боярин!
Перед Алексеем стоял мальчишечка.
Как одуванчик голова, глаза большие, тёмные, как болота.
– Возьми мою лошадь, а твоего коня поправлю. Отец мой лошадник, он поправит.
Алексей снял с руки перстень.
– Дарую! Сердце у тебя доброе, человек!
Мальчишечка повертел перстень, поймал алмазом солнце и засмеялся.
– Горит-то весь!
– Где лошадь?
– Тут, сейчас приведу. Сено убираем. Отец заодно бортничает. Дупло нашёл богатое, мёд качает. Ты сбрую пока снимай со своего.
Мальчишечка убежал.
Алексей снял сбрую с коня, а сам молился, чтоб выжил, выдюжил его прекрасный скакун.
Лошадь была крестьянская, с большим животом, с тяжёлыми, сильными ногами. Алексей усмехнулся и стал снаряжать её. Она была смешная, добрая, эта лошадка, в царском уборе из золота, серебра, редких каменьев.
Прыгнув в седло, Алексей сразу же тронул повод, чтоб скорее убежать от погубленного коня, чтоб не застала его здесь свита.
Повернулся к мальчишечке, помахал ему.
– Шапку мою поищи в лесу. Она дорогая, в каменьях вся. Тебе дарю.
…Борис Иванович как увидел царя на кляче, так и похолодел сердцем. Закричал было, а наследник посмотрел на него кротко и сказал тихо:
– Ни о чём меня спрашивать не велю. Коня моего искать не велю. Отцу об этом не велю говорить.
Позвал к себе испуганного Матюшина, весело стал рассказывать про своего сокола, которого подарил ему отец, расписывал прелесть охоты, мечтал вскоре устроить соколиную потеху.
Борис Иванович взмолился:
– Алексей Михайлович, нельзя же на такой кобыле в Москву показаться. Что народ скажет? Послы иноземные что скажут?
– Дайте мне другую лошадь, – согласился Алексей.
Москва встретила тишиной. Тишина показалась выжидающей, и каждого в отряде охватила тревога.
В Кремль въезжали через Спасские ворота. Здесь царевичу шепнули, что батюшка царь Михаил Фёдорович плохонек.
Всю ночь не спали.
Собрались на половине царицы. В страхе ожидали вестей из покоев.
Молились.
От многих поклонов воздух колебался, и свечи перед иконами размахивали пылко огненными языками, и тени женских фигур мчались по стенам и потолку бесшумными, вкрадчивыми воронами.
Алексей хотел уйти, но мать не отпустила от себя.
Пришёл Борис Иванович Морозов. Пришёл смиренный, медлительный, но Алексей угадал по нему, что всего минуту назад тот был в деле. Он всегда что-то устраивал.
Успокоил царицу, успокоил царевича.
– Бог милостив, обойдётся. Веселей будь, я вон нынче шапку тебе новую заказал. Сто шестьдесят восемь жемчугов на шапку отпустили…
Царевич улыбнулся, а учитель помчался творить государственные дела.
Алексей забылся в молитве, но забытье и горячая молитва были ложью. Он знал, что этой ночью станет царём. Чем сильнее знал он это, тем яростней молился, но молитва не могла победить наваждения. Алексей зарыдал.
Мать позвала его к себе. Он сел возле ног её, положил голову на колени и позволил ласкать себя. Он давно уже не был мальчиком, а был наследником престола и не знал материнской ласки. Теперь он был мальчиком в последний раз. У него умирал отец, ему было жалко отца, ему было страшно за будущее, ему хотелось спать: он устал на охоте, а спать не полагалось. И он уснул.
В полночь Никита Иванович Романов вышел из спальни царя Михаила Фёдоровича и объявил о вступлении на престол царя Алексея.
На Успенском соборе ударили медленно в колокол трижды.
Евдокия Лукьяновна разбудила сына. Его под руки провели в комнату, и боярин Никита Иванович Романов первым принял присягу.
Борис Иванович Морозов носился по городу не зазря. В комнате были лучшие, родовитейшие бояре России. Все они приняли присягу быть верными молодому царю.
Царь, измученный, глядел на людей страдающими глазами и был похож на маленького грустного херувима. Ещё один добрый мальчик взошёл на трудный русский престол.
Чин постановления на престол28 сентября 1645 года на память преподобного Харитона-исповедника Алексей Михайлович Романов венчался на царство. Патриарху святейшему Иосифу было приказано в соборной церкви Пресвятые Богородицы честного и славного её Успения петь всенощное и праздновать.
Перед сном, на вечерней молитве, Алексей положил две тысячи поклонов.
Назавтра проснулся раньше обычного, часа в три. Перекрестился. Стал перебирать в памяти чин постановления на царство. Тому нести животворящий крест, тому яблоко, тому велеть шапку доставить. Повторил речь, какую должен был сказать в церкви. Речь, как молитва, ни одного слова нельзя пропустить.
Стало вдруг Алексею страшно. На царство посадят сегодня. Самым главным человеком станешь. Все будут милости у тебя просить, а что дашь, когда на земле разор, неурожай, в казне денег нет. Когда большая русская земля бедна. Нет в русской земле ни золота, ни серебра. Одна надежда на далёких сибирских соболей.
Постельничий при пособии спальников и стряпчих убрал царя.
Слушал с матерью заутреню в крестовой палате.
В двенадцать часов вышел к столовому кушанью.
Велел подать постное. Боялся, что от жирной пищи схватит на торжестве живот. Съел кусок чёрного хлеба с солью, поел солёных грибов, выпил пива с коричневым маслом, тем и доволен был.
После обеда вздремнул, а в два часа дня вышел из хором в Золотую палату.
Приказал звонко, по-мальчишески, созвать всех бояр, а воеводам и чинам быть в сенях в золотом платье.
Созывать никого было не надо, все уже собрались за дверьми. Лучший, редкий российский спектакль начался. Дряхлому Иосифу-патриарху доложили, что царь в Золотой палате.
Окружённый великой свитой святейших мужей, патриарх проследовал в Успенский собор.
Царю шепнули, что патриарх на месте, и тогда он послал на Каменный двор за животворящим крестом и царским чином боярина Василия Ивановича Стрешнева, да казначея Богдана Минина Дубровского, да благовещенского протопопа Стефана Вонифатьевича и двух дьяконов.
Исподтишка посматривал на бояр. Все были торжественны, неулыбчивы, но стоило встретить кого-то глазом, смягчались и расцветали.
Принесли царский убор и животворящий крест.
Шапку велел Алексей взять старейшему боярину благородному Лукьяну Степановичу Стрешневу.
Поднесли животворящий крест. Царь приложился, а протопоп Стефан Вонифатьевич провозгласил:
– Достойно есть!
На золотом блюде принесли царский сан. Алексей накрыл его поволокой с жемчужным крестом и дал своему духовнику благовещенскому протопопу.
Поднял драгоценную ношу Стефан Вонифатьевич над головой, понёс в Успенский собор, а дьяконы поддерживали его под руки.
Продолжалась игра.
Понесли царский чин.
Как стали подходить к собору, ударили во все кремлёвские колокола, и во все московские, и по всему царству. Встречал царский сан патриарх, выйдя из церкви, а протодиакон кадил.
Крест и сан приняли Варлаам, митрополит ростовский и ярославский, да Маркел, архиепископ вологодский.
Принесли патриарху Иосифу, тот принял и возложил на налой, кадил крестообразно.
Беречь царский сан встали Василий Иванович Стрешнев и Богдан Минич, а Шереметев пошёл доложить царю, что всё готово.
А тому было страшно.
Страшно, что родовитые бояре ловили, заискивая, его взгляд, страшно и оттого, что нельзя было остановить эту большую игру, в которую играли седые, видавшие виды мужи. Страшно было! Отныне его слово становилось законом. Отрубить голову! – отрубят! Наградить! – наградят.
Двинулись.
Впереди царя шли: князь Яков Куденетович Черкасский, Михаил Михайлович Тёмкин-Ростовский, Борис Иванович Троекуров, Богдан Матвеевич Хитрово, Шереметевы, Бутурлин, Собакин, многие другие знатные бояре и князья.
Святой водой кропил царский путь благовещенский протопоп. В церкви пели многолетие. Царь молился, целовал многоцелебную ризу Иисуса Христа. Принял у патриарха благословение.
Окольничьи да стольники установили народ, и патриарх велел начать молебен.
После молебна патриарх и царь вошли в чертог. Чертог был красив, обит червлёным сукном, а в нём персидское золотое место – царю, а патриарху стул.
Ждали речь.
Царь покашлял, заговорил негромко, быстро, словно хотел выпалить речь на одном вздохе.
– Апостольских престолов восприемницы, святые истинныя православныя веры греческого собора столпы, пастыри и учители Христова словесного стада богомольцы наши: пречестнейшие и всесветлейшие о Боге, отец отцам и учитель Христовых велений истины, столп благочестия, евангельские проповеди рачитель, кормчий Христова корабля святейший Иосиф, патриарх Московский и всея России и преосвященные митрополиты, архиепископы, и епископы, и весь священный собор, и вы, бояре, и окольничии, и думные люди, и дворяне, и приказные, и всякие служебные люди, и гости, и всё христолюбивое воинство и всего великого Российского царствия православные христиане...
И говорил всё это витиеватое царь бездумно, не вникая в смысл, но в глазах затрепетал ум, а слово стало словом, когда помянул он, что дедом его был Фёдор Иоаннович, сын Ивана Грозного. И голос зазвенел, и многие обратили на это внимание и запомнили.
Потом речь говорил патриарх, и в первый раз услышал Алексей все свои пышные титулы.
– О, богом дарованный, – начал Иосиф восторженно и красиво, – благочестивый и христолюбивый, изрядный, сиятельный, наипаче же во царях пресветлейший Великий Государь, Царь и Великий князь Алексей Михайлович, всея России Самодержец!
В игру вступили сановитые святые отцы. У святых тоже все по чинам.
Серапион, митрополит Крутицкий, да Маркел принесли крест на золотом блюде. Его приняли митрополит Афоний Новгородский да Варлаам Ростовский и передали патриарху. Патриарх поклонился трижды кресту, поцеловал, а потом благословил царя.
Двух архимандритов да игумена послали за бармами[77]77
Бармы – драгоценное оплечье, украшение царского наряда, одна из необходимых регалий при венчании на царство.
[Закрыть]. Бармы приняли архиепископы суздальский, рязанский и епископ коломенский. Работы всем хватало, ни одного важного человека без дела не оставили.
После возложения на царские плечи барм и молитвы послали за венцом. Золотая шапка, узорчатая, в каменьях бесценных, соболем опушённая, легла на голову Алексея. Патриарх, возложивший шапку, поклонился царю, и царь ответил ему поклоном, подняв над головой венец. Последний раз в жизни снял перед человеком царь шапку.
Когда возложили ему в руки скипетр да яблоко державное, он кланялся патриарху, а шапку уже не снимал, потому что вся земная власть была в его белых руках.
Пели трижды многие лета, кланялись царю священники и бояре, и сказал ему патриарх поучение:
– Всех же православных христиан – блюди и жалуй. И попечение имей о них от всего сердца, за обидимых стой царски и мужески.
Царь кивал головой и улыбался. Было радостно, что церемония подходит к концу и удалась, никто ни в чём не промахнулся, в животе не теснило и бояться боярского подвоха не надобно, потому что он – царь, и теперь им надо бояться.
Всё было хорошо. И погода была хорошая.
А по Москве, по кривым улочкам, под праздничный звон расползался шепоток, что царь-то ненастоящий.
Царская любовьЦарь радовался, что он царь. Все слушались, все кланялись. Охотился, сколько хотелось, платье носил самое дорогое, накупил лучших в царстве лошадей, подбирал и дарил царской лаской домрачей[78]78
Домрач – человек, играющий на домре.
[Закрыть] и бахарей[79]79
Бахарь – сказочник.
[Закрыть], старичков бывальцев, калек и диковинных уродцев.
Правил царством Борис Иванович Морозов.
Евдокия Лукьяновна – мать государя – слабела здоровьем. И решила она обженить сына.
Кликнули по Руси клич. Отобрали двести девиц. Мать и ближние бояре осмотрели их и молодому царю предложили на выбор шестерых. Посадили в светлице, а царь глядел на них в потайное окно и полюбил дочь касимовского помещика Ефимию Фёдоровну Всеволожскую.
Была она юная, красотой ласковая. Была она первой девушкой, посмотрев на которую защемило у Алексея Михайловича сердце.
Ефемию Фёдоровну объявили царской невестой, взяли на житьё в Кремль, и стала она ждать свадебного обряда.
…Метался по Москве расписной возок ближнего боярина Бориса Ивановича Морозова. При хорошей езде быстрее и веселее думалось. Ехал он к Илье Даниловичу Милославскому. Прознал Морозов, что у незаметного Ильи Даниловича подрастают красавицы дочери, Мария Ильинична и Анна Ильинична. Поглядел их Борис Иванович и затаил далёкую мысль. Дела свои совершал он тонко, и в 1646 году поехал русским послом в Голландию будущий боярин, Илья Данилович Милославский.
Зима в тот год закрутила жестоко. Снег падал густо, а не теплело.
Борис Иванович сидел на стульчике возле окна и думал о русском престоле. Думал о Михаиле Фёдоровиче. Выборный царь был одно название. Тупых, заевшихся, замшелых бояр слушался, как ребёнок. И что бы там ни говорили, своего добился. Остались Романовы в царях.
Алексей характером слабоват. Смышлён, набожен. С пяти лет читал, в семь писать научился. В девять знал церковное пение не хуже священника. Ему бы настоятелем, а он – царь…
Пришёл из посольского приказа дьяк, принёс донос о самозванце.
Борис Иванович бегло просмотрел дело. Польский королевич Владислав, всё ещё мечтая о русском престоле, пригрел Тимошку Анкудинова[80]80
Тимошка Анкудинов – подьячий, бежавший из России в 1643 году. Он выдавал себя за сына Василия Шуйского Ивана, пытался найти поддержку у правительств различных европейских государств, в 1653 году был выдан правительством Голштинии и казнён.
[Закрыть], мужика вздорного и хитрого. Тимошка служил в Москве писарем, сам вологодский. Проворовался. Сжёг дом, не пощадил жену. Сгорела в пожаре. Бежал в Польшу. Владислав объявил его Дмитрием – сыном царевича Дмитрия.
Борис Иванович усмехнулся. И вдруг ударило: а ведь того, кто замешан в эту таинственную историю с убиением царевича Дмитрия, тоже звали Борисом. Царь Борис Годунов. Царь Борис Морозов.
– Морозов! – сказал вслух и посмотрел на дьяка. Лицо непроницаемо. Отослал. Задумался, но дьяк вернулся:
– Царь едет!
Морозов накинул на плечи соболью шубу, торопясь пошёл за ворота встречать великого гостя.
Алексей Михайлович был весел необычайно. В глазах голубейших зайчики кувыркаются. Собирает губы, соблюсти чтобы строгость, а они растягиваются от уха до уха.
Зашептал Борису, наклонясь близко:
– С Матюшиным на женскую половину лазили. Полный подол невесте пряников насыпали. Она обмертвела от страха, а мы ей в окошко тайное показались и уж так хорошо засмеялась Ефимушка-то, а зубы – снег под солнцем. Жени меня, Борис Иванович! Поскорей ты меня жени. Люблю несказанно Ефимию Фёдоровну.
Морозов ласково засмеялся.
– Женим! Женим! Завтра выйдет она в золотую палату с боярами знакомиться, а там вскоре и под венец.
– В поля поскачу. Такой нынче день славный!
Царь, быстрый и лёгкий от своего счастья, убежал, уехал, умчался, а Борис Иванович кликнул служку.
– Заложи крытый возок!
И вслед первому слуге послал другого.
– Пусть не запрягают. Поеду, как стемнеет. Да чтобы лошади самые худые были и возок чтоб плохонький.
От Милитрисы, верной служки своей, услыхала жена боярина Василия Мария Романовна, что ближний боярин Борис Иванович Морозов собирается извести невесту царя прекрасную Ефимию Фёдоровну.
Всполошилась Мария Романовна. Разведала, что завтра, когда царь будет сидеть в золотой палате с боярами, выведут Ефимию Фёдоровну, тут-то всё и приключится.
Всю ночь не спала Мария Романовна. Утром затемно поднялась, села возле зеркала и без жалости размалевала белилами да румянами хорошее своё лицо.
На молитве боярин Василии так и ахнул, глядя на жену, и высказав удовольствие нежданной покорностью, про себя ругался: привык он уже к открытой красоте жены, и малевание показалось ему премерзостью.
В девять часов Мария Романовна прокралась в Кремль и шла уже по переходам в царицыны палаты, когда кто-то схватил её грубо в темноте и толкнул куда-то.
Пришла в себя – каменный погреб, без окон, но с дверью. Дверь глухая, железная, толкнулась – закрыто.
Крикнула – крик придавил к ледяному каменному полу. Некуда было вырваться голосу из тяжёлого мешка.
Упала Мария Романовна на колени и молилась за цветочек аленький, за молодую Ефимию Фёдоровну.
А Ефимию Фёдоровну наряжали уже.
Одевали в золотое платье, обвешивали дорогими тяжёлыми безделушками из чистого золота, усыпали бессчётными жаркими каменьями. Боярыня, убиравшая волосы, старалась. Завязала косы туго, каждый волосок с висков натянула волосником под венец, будто струны на гуслях: тронь – запоют. Так натянула, что кожа на лице затосковала: моргнуть нельзя. Повели к царю, а в голове шумит, слёзы от боли на глазах, и моргнуть нет силы.
Ввели Ефимию Фёдоровну в Золотую палату, а царь от радости и нетерпения поднялся с места навстречу любимой красавице своей. Отошли от Ефимии Фёдоровны служки, шагнула она раз, другой, покачнулась и упала вдруг.
Морозов так и кинулся к отцу невесты, к Фёдору Всеволожскому.
– Обманщик! Падучая у девушки. Больную в жёны царю подсунуть хотели! – и на колени перед царём.
– Прости, государь царь, Алексей Михайлович, не стерпело сердце!
Нахмурился царь, отвернулся, рукой шевельнул. Ефимию Фёдоровну унесли.
Мария Романовна очнулась от молитвы. Было холодно и сыро. Задрожала, пошла вдоль стены, ощупывая в темноте стены. Влетела неосторожно в нишу двери, стукнулась плечом, и дверь вдруг беззвучно растворилась.
Мария Романовна выбежала на площадь.
Навстречу ей шёл Борис Иванович Морозов, увидал боярыню, улыбнулся. У Марии Романовны сердце так и заколотилось: погибла царская невеста. Неужто дверь потайного погреба всё время открыта была? Когда же открыли-то её?
Мария Романовна побежала искать свой возок, и в это время проехала мимо тяжёлая чёрного дерева карета со стрельцами на запятках. Занавески чёрные опущены были. Мария Романовна догадалась и заплакала.
Красавицу касимовскую Ефимию Фёдоровну везли в монастырь. А утром в далёкую Тюмень поехал Фёдор Иванович Всеволожский – отец царской невесты.
Царь не находил себе места. В Думе сидел молча, на охоту ехать не хотел, молился да плакал. Тайком ночью пробрался в острог, роздал несчастным злодеям подаяния. Сон потерял.
Как-то, чуть не на заре, бродил по Кремлю, и возле Чудова монастыря кинулся ему в ноги оборвыш. Царь поднял его. Лицо у оборвыша недоброе, на лбу шрам, на щеке другой, одно плечо выше, левая рука не гнётся.
– Что тебе?
– Государь-царь, смилуйся и пожалуй! Казак я, Ивашка Нехорошее, из Сибири. Воевода Михайло Волынский для изувеченных, уволенных со службы казаков твоих устроил богадельню, а есть нам нечего, с голоду помираем. Смилуйся, государь-царь, князь великий, третью неделю, чтоб в ножки твои вдариться, стою здесь. Хлебного бы нам жалованья, смилуйся, царь, Алексей Михайлович.
Повезло сибирскому казаку Ивану Нехорошеву да его дружкам Петру Раю, Никифору Носу, Василию Басарге. От своей печали пожаловал царь на каждого по две чети хлеба, на всех – шесть пудов соли в год, да ещё по два рубля сразу дали.
В трудах да развлечениях забылось горе.
А через год Борис Иванович Морозов женил царя на Марии Ильиничне Милославской. Чтоб чего худого не вышло, на свадьбе спальню Алексея Михайловича оберегал Глеб Иванович Морозов, брат, родня верная.
Ещё через две недели Борис Иванович и сам женился. В жёны взял Анну Ильиничну Милославскую.
Царская жалостьПеред первым выходом в боярскую думу у царя в комнате собрались самые близкие родственники. Мать Евдокия Лукьяновна, дед по матери Лукьян Степанович Стрешнев, Никита Иванович Романов, учитель царя Борис Иванович Морозов.
Молодому царю нужны свои люди. Без своих людей даже царю нельзя править государством. Так вот и появился на Руси новый чин – «ближний боярин».
В Думе зачитали первую царскую грамоту.
Из бояр в ближние бояре были пожалованы: Фёдор Иванович Шереметьев, князь Дмитрий Мистрюкович Черкасский, Борис Иванович Морозов, князь Никита Иванович Одоевский.
Из дворян и стольников в бояре пожаловали князя Якова Куденетовича Черкасского, Ивана Ивановича Львова-Салтыкова, князя Фёдора Семёновича Куракина, Фёдора Степановича Стрешнева, Михаила Михайловича Темнина-Ростовского и Алексея Никитовича Трубецкого.
Все фамилии знатные, и все полюбили молодого царя. Теперь можно было и отдохнуть от государственных хлопот.
Царь уехал в любимый Саввин-Сторожевский монастырь, молился там и охотился.
Власть прибрал к рукам гордый, жадный до почёта, до богатства первый Алексеев временщик Борис Иванович Морозов.
Перед отъездом из Москвы царь заглянул в любопытное тайное место. Позвал вечером своего казначея и приказал повести в кладовую Московского царства.
Прошли палатой, где были развешаны золотые парадные одежды для великих торжеств, праздников и приёма иностранных послов. Одежд было много, костюмерная царя одевала не одну тысячу служилых напоказ. Несметно, мол, богато Русское царство и дворяне его богаты и люд.
В другой палате – опять же для пыли в глаза иноземщине – хранилась персидской красоты и красоты индийской, польской, немецкой, английской красоты и красоты русской серебряная, золотая, разукрашенная бесчисленными каменьями столовая посуда.
Прошли соболями. Тысячи и тысячи шкурок. На эту мягкую рухлядь, пожелай только, можно нанять армию, купить тайну чужого двора, а можно просто лечь и утонуть в драгоценном ласковом озере.
А потом стояли мешки с серебряными деньгами. Их было много, и молодой царь воскликнул:
– Богаты несметно!
А казначей вздохнул.
– Мы, государь, бедны.
– Столько серебра – и бедны?
– Бедны, государь! Стоит заплатить стрельцам – и не будет этих мешков.
– Надо купить серебра у немцев. Надо побольше наделать денег. Не хватит серебра – медные начеканить.
Казначей шевельнул бровями, но промолчал: царь был молод и неопытен. Отворил потайную дверцу. Здесь лежали старые книги в золотых пластинах, украшенных сапфирами, изумрудами, алмазами. Здесь была сокровищница. Здесь хранились самые неоценимые камни.
– Прадед, Иван Васильевич, – сказал казначей, – перед смертью, говорят, приходил сюда. Взял бирюзу и другим приказал взять. Видите, говорит, на ваших руках у бирюзы цвет природный, яркий, а на моей – тускнеет камень. Я заражён болезнью. Это предвещает мне смерть.
– А где жезл царя Ивана? – шёпотом спросил Алексей.
– Вот.
Жезл был украшен алмазами, рубинами, сапфирами, изумрудами, а сделан был из рога уже выбитого животного: единорога, погубил его рог. Верили в те времена, что нет сильнее лекарства, чем этот рог.
– Царь Иван Васильевич, говорят, очертил на столе круг жезлом и велел пустить в него пауков. Те пауки, что не попали в круг, бежали прочь, а которые попали – дохли. «Слишком поздно этому жезлу спасти меня», – сказал государь Иван Васильевич.
Он любил рубины. Говорил, что рубин врачует сердце и мозг, очищает испорченную кровь, укрепляет память. А вот алмаз не любил. «Он укрощает ярость и сластолюбие, – говорил государь, – даёт воздержание и целомудрие, малейшая часть его отравит лошадь, а тем более человека».
– Я люблю алмаз! – громко сказал Алексей и перекрестился.
Опять была охота. Опять загнали волка, только убивал его уже не царевич – царь. Все возрадовались, но Алексей приуныл вдруг.
– Скучная охота. Ты, Матюшин, давай-ка заводи соколиную. Тянет меня к ней. Красиво!
Ехали березняком. Места показались знакомыми. Вспомнил загубленного коня, остановился. Спросил свиту:
– Жильё далеко будет?
– Версты четыре, государь.
– Кто знает дорогу, веди!
Сорвались было в упреждение несколько всадников. Царь велел вернуть их. Подозвал к себе Матюшина.
– Помнишь коня моего? Посмотреть хочу, поправил, что ли, его мужичок. Боялся тогда батюшку огорчить… Царство ему небесное, покой вечный.
Как цари ни стараются застать народ свой в том, как он есть на каждый день, не выходит у них почему-то.
Встречали государя уже на околице хлебом и солью. На маленькой колокольне били в треснувший колокол.
Хлеб и соль поднёс царю одетый в дорогое польское платье дворянин с лицом без лба. Чуть позади стоял священник. Царь, приняв благословение, заговорил с ним. Священник отвечал умно, просто, но смешался и замолк, когда Алексей спросил про отрока, который не пожалел для царя, может быть, последней своей лошади.
Наступила тягостная тишина.
И вдруг, раздвинув толпу, выбежал из дальних рядов мужик, распластался перед царём и плачет. Царь наклонился, поднял мужика за плечи. Тот быстро-быстро заговорил:
– Смилуйся, царь-государь! Мой был Вася. Погубил его барин-то. И коня погубил. Смилуйся, царь великий, дослушай. За шапку дорогую, за перстень дорогой бил он Васю и покалечил всего. А потом пришёл на двор наш и сел на коня. Конь-то вот-вот пошёл бы, а он сел – и погубил и зарезал на глазах наших…
– Где отрок?
– Ушёл, калека, со странниками. Бежал от барина нашего, а барин за это спалил мою избу.
Царь поворотился к безлобому дворянину.
– Как же так-то? Живые ведь все. Ведь больно, когда бьют, и телу и душе.
– На моей земле шапка лежала. Значит, моя.
Выбежали царские слуги, поставили дворянина на колени. Царь отстранил их, плача, обнял жестокого глупца.
– Жалею тебя, да ведь страшные для людей твои дела. Наказать тебя надо. Отрубить тебе обе страшные твои руки, на цепь тебя посадить. Прости меня, грешного.
Царь плакал, и все плакали, а дворянин с помутившейся от страха головой лежал в пыли перед царём и перед теми, кого истязал.
– Ему, – царь показал на отца отрока, – поставить дом большой, дать две лошади, а найдётся отрок – сказать о том мне.
Вскочил на лошадь и ускакал. А позади дико орал схваченный и скрученный дворянин.
Царь подозвал Матюшина.
– Землю эту вели взять в казну.