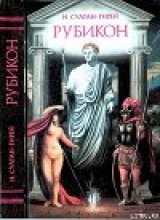
Текст книги "Рубикон"
Автор книги: Наталья Султан-Гирей
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 45 страниц)
Глава двенадцатая
IСын Цезаря искал забвения в искусстве.
Но литературные сборища у Мецента, фехтование афоризмами и жонглирование цитатами утомляли. Игривая непринужденность беседы искусно маскировала незыблемый этикет. Шутили те, кому было положено. Восхищались шутками те, кто зависел от шутивших.
Ни поток пышных од и остроумных безделушек Горация, ни сентиментальная слащавость Тибулла не могли напоить раненую душу. Некогда любимые александрийцы раздражали своей вычурной пустотой.
Император обратился к классикам. Перечел запоем Гомера, Эсхила, Гесиода. Их величественная мощь подавляла. Застывшие волны давно умершего моря... Пробегая глазами "Илиаду", усмехнулся сходству сварливой Геры, супруги царя богов, с императрицей. Даже в мыслях титуловал Ливию, чтобы торжественностью сана отгородить от тайной жизни сердца. Свое человеческое горе Октавиан не мог разделить ни с живыми, ни со славными мертвецами.
Только изредка в книжной лавке, над строфой забытых поэтов, губы приоткрывались и юноша повторял полюбившийся стих. В поисках целительных слов он перерывал груды рукописей...
Приходил сюда запросто и, раз навсегда приказав не обращать внимания на его посещения, перелистывал пергаменты, вслушивался в горячие споры, в живые, страстные, неумелые строфы молодых поэтов. У окон, склонясь над подлинниками, рабы с острыми стилями в руках размножали тексты.
За прилавком книготорговец беседовал с литераторами. Рукопись счастливца тут же передавалась переписчикам. Отвергнутые печально брели домой. Но, несмотря на неудачи одних, все новые и новые бойцы штурмовали римский Парнас.
– В бездне морской у Карпафа живет тайновидец Нептунов,
Это – лазурный Протей; на двуногих конях, в колеснице.
Или на рыбах несясь, просторы он меряет моря...
Октавиана поразила напевность и сила стиха. Точно вал в открытом море. Медлительно-пологий, мощный и плавный. Император поднял голову.
Высокий, узкогрудый провинциал лет тридцати, с некрасивым, бледным, но прекрасным от внутреннего волнения лицом, читал:
—...А земледелец вспахал кривым свою землю оралом —
Вот и работы на год! Он родине этим опора.
Скромным пенатам своим, заслуженным волам и коровам.
...Трижды блаженны – когда б они счастье свое сознавали! —
Жители сел. Сама, вдалеке от военных усобиц.
Им справедливо земля доставляет нетрудную пищу...
Книготорговец скептически улыбнулся:
– Ты ждешь похвал, но здесь коммерческое предприятие. Стихи не подходят.
– Почему же? – с отчаянием спросил провинциал. – Я пришел из Мантуи пешком. Стихи – единственное, что еще не отняли у меня. Я уже рассказывал тебе, что, пока я защищал Италию от пиратов и Брута, мой надел запахал сосед. Чем же мне жить? Я не прошу оплаты как для поэтов с именем. Но хоть за четверть цены... Ведь, право, неплохо?
Здравствуй, Сатурна земля, великая мать урожаев!
Мать и мужей! Для тебя в искусство славное древних
Ныне вхожу, приоткрыть святые пытаясь истоки...
Свойства земли изложу – какое в какой плодородье.
Цвет опишу, и к чему различные почвы пригодней...
– Я не говорю, плохо или хорошо, но их не сбудешь. Что такое Вергилий Марон, имя? Реклама? Из покойников в ходу Катулл, Энний, Плавт, из живых Тибулл, Тит Ливии, особенно Гораций. Они интересны всем. Пишут о любви и наслаждениях. Это понятно каждому. Римский читатель не пашет, не сеет. Деревня для горожанина – место приятного отдыха, что уже прекрасно изобразил Гораций. Но кому же интересно читать, как ты пахал, а твоя жена приносила тебе поесть и вытирала пот с твоего лба? Кого в наш век, когда гражданская война унесла тысячи жизней, растрогает забытая могила старого солдата?
– Меня. – Император выступил из полумрака.
Книготорговец улыбнулся растерянно и льстиво. Он позволил себе пошутить, он повелит сейчас же рабам-переписчикам размножить это замечательное творение...
Облокотясь о прилавок, Октавиан перелистывал какую-то рукопись и искоса наблюдал. Вергилий ему понравился. Талантлив, скромен, беден, будет счастлив милостью триумвира. Чуткий к впечатлению, производимому им на людей, юноша понял, что и он понравился поэту.
Окончательно договариваясь с книготорговцем, Вергилий то и дело кидал на него робкие, восхищенные взгляды. Октавиан, опустив ресницы, читал. Он знал, что в сумраке, подчеркивающем его хрупкость, задумчиво склоненный над книгой, он трогательно красив. Вергилий, смущенный и мимолетным вниманием, и кажущимся безразличием, колебался, припасть ли с благодарностью к ногам благодетеля или, чтобы не показаться назойливым, с безмолвным поклоном удалиться...
Но император сам окликнул его. Поэт обрадовано поднял глаза, и в робких темно-карих зрачках Октавиан увидел страстное, преданное обожание. Так на него иногда смотрел Агриппа.
Он покровительственно спросил, где мантуанец остановился. Вергилий ответил, хотел еще что-то сказать, но, заметив, что император вновь углубился в чтение, молча откланялся. Но в этот миг Октавиан лукаво улыбнулся. Вергилий неожиданно, как равный, ответил улыбкой и быстро вышел.
Император повелел Меценату разузнать все о талантливом провинциале и помочь мантуанцу. В гостях у своего вельможи Октавиан повторял наизусть строфы нового Гесиода. Над Тибром зажглась звезда Вергилия Марона.
IIМягкая зелень, голубые воды, невысокие округлые холмы...
Мантуанская долина богата садами, почва плодородна, и села зажиточны. Между нечастых поселений привольно раскинулись цветущие луга. Здесь еще не чувствовался избыток населения, как в центральной Италии. Если вспахать все эти Девственные угодья, Италия прокормит себя.
– Тогда Египет не страшен! – Октавиан натянул поводья. С лугов веяло мятой. Он был совершенно один...
Уже двенадцать дней, останавливаясь на постоялых дворах, император путешествовал под чужим именем. Выдавал себя за ученика риторской школы, возвращающегося домой на каникулы. Его страна каждый день открывала перед ним все новые и новые страницы...
Октавиан давно догадался о массовых спектаклях любви народной, устраиваемых для него Агриппой и Сильвием. Не желая огорчать верных служак, притворялся непонимающим. Несколько лет назад подобное открытие было бы для него ударом, а сейчас... Тайная охрана очень удобна. Императору, верящему в любовь своего народа, пристойней не подозревать об этих предосторожностях, принимаемых без его ведома... Но теперь он и в самом деле хотел побыть один. Не искал дорожных бесед, избегал попутчиков. В людных местах скрывал лицо капюшоном. Лишь среди полей с обнаженной головой спрыгивал с седла и, медленно ведя лошадь под уздцы, подставлял лицо и волосы теплому ветру.
Особенно хорошо было ранним утром. Чем дальше на север, тем свежее становилась зелень, нежнее голубизна неба и воды. На горизонте, легкие и розовые, вздымались Альпы. Солнце, еще не осветившее долину, уже коснулось далеких вершин. Однако в котловине и в рассветном полумраке кипела жизнь.
По бархату чернозема медленно шагали сильные серебристые волы. Вергилий пахал в поте лица.
– Певец и пахарь, я снова запрягаю в плуг строфу.
Я стих глубокой бороздою провожу в сердцах.
И песней, сложенной в час досуга, в часы труда на пашне ободряю
Помощников моих, безмолвных, серебристо-серых, круторогих...
Услышав в утренней тишине строфы из своей поэмы, пахарь с изумлением поднял голову. В одежде странствующего школяра, легко ступая по пашне, к нему приближался сын Цезаря.
—... И боги сходят ко мне, в мое уединение
Делить со мной и песни, и труды... —
продолжил Вергилий.
– Я бы предпочел видеть дюжих рабов, делящих с тобой труды. – Октавиан протянул поэту руку. – Разве ты сейчас в такой нужде, что должен сам идти за плугом?
– Я люблю сельские работы и утром до жары сам веду моих круторогих. В полдень раб сменит меня.
Вергилий не показывал удивления, не раболепствовал, но и не впадал в излишнюю фамильярность. Он пригласил императора отведать парного молока и меда в его домике. Пасека недалеко, если высокий гость пожелает, они пойдут туда попозже. Жизнь пчел мудра и достойна изучения.
– Ты женат? – неожиданно спросил Октавиан.
– Нет, государь.
Октавиан одобрительно склонил голову.
– Женщина – причина всех бед. Из-за Елены пала Троя. Ты мудро поступаешь, живя один.
– У меня есть подруга, государь. Раба Алексия хранит мой дом.
Тихая женщина, белолицая и черноглазая, встретила их у калитки. Она оправдывала свои имя – "безмолвная". Двигалась тихо, бесшумно прислуживала. Алексия не была ни вдохновительницей Вергилия, ни его страстной любовью. Но в доме, всегда чисто прибранном, царили порядок и тишина. Натертые воском дощечки всегда лежали на столе, блистающем чистотой. Молоко, так любимое поэтом, свежее и прохладное, всегда ждало в кувшине. В сундуки с бельем Алексия никогда не забывала положить несколько плодов крупной, душистой айвы, и одежда Вергилия хранила этот пряный аромат.
Алексия жила для друга, и целью ее жизни было его благополучие. Она не была музой поэта, однако музы, привлеченные уютом, созданным ею, чаще посещали сельский домик.
Вергилий не любил солнца, и сквозь прикрытые ставни проникали лишь слабые лучи, освещая на столе полевые цветы в лепном кувшине и золотые соты, вырезанные прямо из улья.
– Ныне о даре богов, о меде небесном, я буду повествовать... Отведай же этот дар богов!
Октавиан отказался. Его болезнь не любит меда, но говорить об этом унизительно. Прокаженный император – это трагично и величественно, но золотушный – смешно и жалко.
Алексия радушно угощала. Если высокий гость не желает меда, он не откажется от соленых маслин со свежим хлебцем?
– Она любила меня, когда я был еще юношей, – рассказывал Вергилий. – Семь лет ждала, терпела побои хозяина, преследования его сыновей. Я вернулся и выкупил ее, уплатив твоими дарами, мой император. Она не Елена и не Хлоя, но никогда не гаси светильник за то, что он не солнце. Алексия – верное, честное сердце.
– Нет ничего страшней, как ранить того, кто искренне любит тебя, – грустно ответил Октавиан.
IIIОни вышли в сад. Под цветущими яблонями ровными рядами, как палатки в военном лагере, белели ульи. Это был сказочный мир маленьких, крылатых, упорных и трудолюбивых созданий. Тут был и свой сенат. Толстые, крупные трутни гудели басом с важностью истых отцов отечества... Две расы граждан, гладкие, желто-черные – самоуверенные квириты и мохнатые – робкие италики, непрерывно носили с лугов сладкую дань в родной город. Внутри улья безбрачные девы-весталки лепили соты и заботливо взращивали потомство своих сограждан. Наследницу престола кормили двойной порцией сладкой пыльцы. Личинки плебеев-тружеников получали значительно меньше. У летка, входа в улей, бдительные легионеры обнюхивали и осматривали каждого, кто влетал. Чужих разили насмерть.
– Бывают целые войны между двумя породами пчел, – заметил Вергилий. – Они так напоминают людей...
Октавиан слушал, приоткрыв рот от восхищения.
– Я ехал навестить моего подданного, а попал в гости к царю, равному мне, императору Рима! Нет, не равному, а более могущественному! Моему правлению человеческое естество кладет предел, а твоя власть, власть стиха – от века, – вкрадчивым, нежным движением он притронулся к одеждам Вергилия. – Подари мне свою дружбу, поделись со мной бессмертием! Ахилл и мой прадед Гектор славны лишь потому, что о них пел Гомер. Ты обязан стать Гомером Италии!
Они лежали на плаще. Белые лепестки яблонь падали на их головы и плечи. Октавиан поднял на поэта восторженные глаза.
– Дай мне в супруги твою музу! О чем ты пишешь сейчас?
– О земле. Работаю над "Георгиками". "Гео", как ты знаешь, по-гречески "земля". Я пишу о ней.
Вергилий, склонив голову набок, наблюдал за муравьем. Муравей нес жучка. Ноша была в несколько раз крупней маленького труженика. Поэт сорвал былинку и преградил путь. Муравей, не бросая добычи, пустился в обход.
– Какое мужество и терпение! – Октавиан засмеялся. – Он тоже достоин поэмы. Почему поэты всегда воспевают любовное безумие, бессилие рассудка и воли перед хаосом страстей? Тоску, угасание... Воспой разум, силу сердца, победу разума, воли и долга над слабостью, чтобы моя империя крепла твоим стихом! Распущенной Элладе с их Еленой-разрушительницей противопоставь Рим!
Вергилий заглянул в расширенные от экстаза зрачки юноши.
– Ты, наверное, очень любишь декламацию?
Октавиан покраснел:
– Это плохо?
– Это модно. – Поэт опустил руку на его шелковистые, легкие волосы. – Я буду петь труд, упорный, неизменный, побеждающий все...
– Побеждающий хаос страстей? – шепотом спросил Октавиан.
– Ты боишься этого хаоса?
– Не знаю. Любовь всегда приносила мне боль. – Он еще больше понизил голос. – Меня так уже замучили, что я не хочу этой любви. Мне нужно тепло другой души, а меня терзают...
– И любовь, и дружба – это еще не главное, – тихо произнес Вергилий.
– Знаю, – нетерпеливо перебил Октавиан. – Доблесть, долг перед Римом – наизусть помню... – Он замолчал и, как бы прося извинения за внезапную резкость, шутливо прибавил: – Ведь я еще совсем недавно на школьной скамье изучал наших классиков...
– И доблесть – не главное, – все так же тихо уронил Вергилий.
– Не главное? – удивился Октавиан. – А что же главное?
– Главное? – Поэт улыбнулся горько и печально. – А разве ты поверишь?
– Поверю.
– Главное в жизни – знать, что ты засеял поле хлебом, а не плевелами-сорняками.
– Значит, у меня никогда не будет радости?
– Тебя благословят народы всей земли, если ты дашь миру – мир, – серьезно сказал Вергилий. – Ты дал нам землю, дай теперь и покой, чтобы мы могли ее оплодотворить.
Под цветущими яблонями жужжали пчелы. Из дому, неся в руках кувшин с молоком, шла Алексия.
– Вот воплощенная гармония. – Октавиан улыбнулся. – С ней, наверно, очень просто и легко живется. Она напоминает мне сестру внутренней тишиной.
IVЗакаты стали желтыми. Земля набухала, и молодая травка все упорней зеленела на пастбищах.
Стригли овец, и Лелия сама наблюдала за стрижкой, взвешивала шерсть, помогала связывать в бунтики, которые сытые, хорошо ухоженные рабы носили в сарай. Агриппа, стоя поодаль, любовался, как быстро и четко работали стригали, как хорошо Лелия справлялась с любым делом. Он посмотрел вдаль, где недавно поднятая пашня мягкой чернотой красиво оттеняла молодые зеленя озими.
По древнему обычаю Марк Агриппа сам провел первую борозду по своей земле и опахал вокруг всю будущую ниву. Но он отвык от сельского труда и, не дойдя еще до половины борозды, почувствовал, как больно ноют плечи. Однако, сжав зубы, довел волов до меты. Зато вечером чуть не уснул за столом.
Все эти дни он почти не видел Лелию. Как трудолюбивая белка, она мелькала то тут, то там, то у стригалей, то в сыроварне, то в саду, наблюдала, как ее рабыни белят стволы яблонь и груш. Новомодные вишни и персидские сливы еще не проложили свой путь в глубинные италийские земли. Их победоносное шествие остановилось на Семи Холмах. Но Аттик мечтал в будущем году посадить хоть парочку персидских деревьев.
– В тот самый день, когда внук закричит, – подмигнул старик зятю.
Агриппа промолчал и побрел в глубь сада. Медленно шел между кустами жимолости. Цветов еще не было, но веточки уже набухали бутонами.
Молодой полководец скучал. Так мечтал о сельской тишине... И вот ему скучно и тяжело в этом благодатном имении, благоустроенном трудами Лелии. От тоски все чувства обострились, и Агриппа ясно ощущал, что все это гостеприимное радушие Аттика вынуждено. Старик боялся рассердить всесильного патрона. Никто здесь не питал к незваному гостю сердечной склонности. Он был в этом доме чужой. Он даже еще ни разу не делил ложе со своей Каей, и если Лелия и придет к нему и он развяжет ей пояс, души их все равно останутся чужими.
Агриппа решил, что зря не хотел мириться, когда несчастный дружок умолял простить его. Во многом он сам виноват. Хотя Октавиан и заявил, что он зрелый муж, вершитель судеб Рима, все равно он – полуребенок. Есть люди, до седых волос остающиеся детьми и всю жизнь нуждающиеся в сильной дружеской руке. Слабовольного мальчишку опутали сетью искусно сплетенных интриг, сыграли на его болезненном самолюбии, а Марк Агриппа, вместо того чтобы бороться со злостными интриганами, с Ливией, с ее шайкой и с этим торгашом Меценатом, уступил им Октавиана, поддавшись глупому, недостойному чувству обиды. Какие могут быть обиды между ними? Агриппа вспомнил, как еще в Мутинском походе его слегка ранили в руку. Октавиан сам перевязывал ему рану. Рана была незначительна, и в тот же день Агриппа уже сидел в седле, но вечером он с изумлением увидел на руке Октавиана, на том же месте, где у него самого была рана, красное пятно такой же формы. Октавиан виновато улыбнулся:
– Ты можешь не верить, но я чувствую твою боль телом. Если тебя убьют, я в тот ж миг умру.
Это было шесть лет назад, с тех пор их дружба стала менее восторженной, но оставалась все же достаточно крепкой. Уже ни с кем у него не будет той душевной близости, такого полного слияния всех мыслей и желаний, как было с Октавианом. Часами они могли молчать, каждый занимался своим делом, но все равно каждый знал, о чем сейчас думает другой. Иногда просто сидели, прислонившись друг к другу плечом, и бездумно глядели в огонь, и обоим было хорошо. С Октавианом не надо было без конца говорить, украшать свои простые и ясные мысли заумными афоризмами, убеждать, доказывать. Его дружок все с полуслова улавливал, знал, когда приласкаться, когда переменить дощечку для письма, когда напоить горячей мятой, когда сжать его виски прохладными ладошками и, медленно растирая их, исцелить от усталости и страшных головных болей, что терзали молодого пицена.
Как хорошо работалось, когда Кукла вертелся рядом. Особо глубоких мыслей и дельных советов Непобедимый и не ждал от своего императора. Но было так уютно. Если, заработавшись, Агриппа начинал под утро зябнуть, его друг вскакивал с постели, чтоб накинуть теплый мягкий плащ на плечи своего труженика, подвигал жаровню с душистыми веточками можжевельника.
– От этой и половины таких забот не дождешься, а хорошего вилика я и на рабьем рынке куплю!
Агриппа вздохнул. Ему показалось, что легкий ветер донес с предгорий запах ландышей. Он глубже вздохнул, но аромат исчез. Ландыши здесь не росли.
VСельские радости окончательно опротивели молодому полководцу, и он решил, что, чем шататься из угла в угол, лучше еще раз перечесть Пифагора и попытаться связать таинственный египетский треугольник со сторонами три, четыре и пять с секретами восточного зодчества. В Риме до сих пор не умели перекрывать здания куполами, а двухскатные греческие фронтоны были бессильны подчеркнуть величественность огромных храмов, которые Марк Агриппа мечтал воздвигнуть в честь родных богов.
– Купол точно законченная мысль, – вслух проговорил он, – а двухскатная крыша как грызня в Сенате.
Агриппа опустился на скамью и стал выводить плавные линии купольного перекрытия. На чертеже все правильно, а как заставить камни ложиться так же плавно, по этим красивым закругленным линиям?
– Но все равно добьюсь!
И вдруг из-за кустов раздалось: "Что угодно господину?" Агриппа увидел маленького раба, выходящего из купы жимолости.
– Это тебе что-то угодно, мальчуган, – пошутил полководец. – А мне ничего от тебя не надо.
Но мальчик склонился в низком поклоне.
– Старый господин просит молодого господина подойти. Он просит прощения за беспокойство, но ноги уже давно не служат ему.
Укутанный во множество шерстяных покрывал, Аттик дремал на солнце в своем кресле-носилках. Увидя зятя, старик встрепенулся:
– Аве император! Что же ты от моей дочери нос воротишь, благородный Марк Агриппа? Она верно ждала тебя целых четыре года. Или дочь Лелия Помпония Аттика, потомка нескольких консулов, недостаточна знатна для тебя?
– От твоей дочери не я нос ворочу, а она меня не хочет!
– А откуда ты взял, что Лелия не хочет тебя?
– Не хочет. – Агриппа пожал плечами. – А я еще ни одну женщину силой не взял. Когда вижу, как несчастных пленниц легионеры за косы волокут, всегда думаю, проиграй я хоть одну битву – вот так же моих сестер поволокут!
– Ты мне зубы не заговаривай, – рассердился старик. – Не любишь ты Лелию, вот и строишь из себя целомудренного Ипполита, а всех моих рабынь в кустах перетискал.
– Сами как мухи на мед лезут.
Агриппа хотел уйти и оборвать этот тягостный разговор, но Аттик с неожиданной силой вцепился обеими руками в его одежду:
– Молю тебя, не любишь моей дочери, тут я не виню тебя, тут ты над собой не властен, но уж если ей и не бывать счастливой супругой, сделай ее хоть счастливой матерью. Молю тебя, Черным Дятлом заклинаю.
– Что ж, я должен обойтись с ней как с военной добычей? Уже два месяца я жду, когда она войдет в мою опочивальню.
Аттик весь затрясся от мелкого смеха:
– Непобедимый, сколько же тебе лет?
– Да уж за четверть века перевалило!
– А я-то подумал, не больше двенадцати! Где же это видано, где же это слыхано, чтобы девушка, да еще такая девушка, как моя Лелия, сама ночью пришла к юноше? Ты должен...
– Нет! – Агриппа мягко, но настойчиво освободил одежду от цепких рук старика. – Нужен я, пусть придет, а я первый не пойду!
– Я поговорю, я поговорю с дочерью, – залепетал Аттик. – Но молю, будь поласковей. Она столько лет верно ждала тебя!








