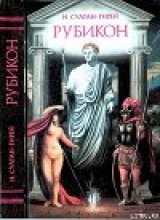
Текст книги "Рубикон"
Автор книги: Наталья Султан-Гирей
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 45 страниц)
Лелия шла к Югу, утоляла жажду в лесных ручьях, подкрепляла силы дикими орехами. Как смертельно раненное животное, бессознательно шла домой умирать. Шла, не думая, куда идет, не выбирая тропинок.
На седьмой день пути в оправе магнолий и кипарисов блеснули Путеолы. На вилле Цицерона суетились коммерсанты. Имущество покойного продавалось с молотка. Новый привратник не пустил Лелию.
– Идет распродажа. Нищих и бродяг велено гнать!
Вцепившись в узорную решетку, Лелия долго смотрела в сад. Потом безмолвно отошла. Проходила мимо знакомых дач. Стояла осень, и многие виллы были заколочены. У дома Атии она остановилась. В саду между теми же земляничными деревьями висел гамак. Но деревья не цвели. Ярко–красные, лишенные листьев и коры, ветви и ствол казались вымазанными свежей кровью. У ограды Филипп бранился с садовником. Супруг Атии был сердоболен и, придерживаясь древних суеверий, почитал отмеченных безумием. Он не узнал Лелию и протянул ей монетку.
Лелия машинально зажала в руке подаяние. Она отдаст эту монетку Харону, перевозчику усопших душ в царство теней. Даже на том свете, чтобы добраться до блаженного Элизиума или горестного Аида, нужны деньги.
Она спустилась к морю. Был отлив. Обнаженное дно морское дышало недавно ушедшей жизнью. В лужах копошились креветки, бились в агонии не успевшие уплыть рыбки и морские коньки. Быстро пробегали бочком крабы. Лелия шла по дну. Чуждая людям, она была здесь дома.
Девушка в глубокой задумчивости остановилась. Наяды не приплывут к ней. Пещера пуста, и не имеет смысла искать подводные цветы. Лелия опустилась на колени. У ее ног задыхался морской ежик. Она подняла его на ладонь и швырнула далеко в море. Ежик оживет в родной стихии.
Медленное неуловимое содрогание потрясло пучину. Вода сделалась выпуклой. С знакомым шумом прибоя покатились валы.
Синеокие, зеленокудрые наяды пели в волнах. Лазурная стена надвигалась. С высоты, сбивая девушку, ринулись волны. Она поднялась. Умереть пристало стоя, лицом к лицу со смертью, не дрогнув. Лелия, раскрыв объятия, бросилась навстречу приливу.
Волны снова сбили ее с ног, но Лелия поднялась вновь. Умереть... так просто... так безропотно... Нет! Она не смеет умирать... Убили Мудреца, но не его мысль! Мысль бессмертна, но ее, как малое пламя, надо сберечь!
Волны набегали, вновь и вновь опрокидывали девушку, волокли по каменистому ложу моря, но Лелия каждый раз вскакивала. Она хорошо плавала. То ныряя, то оседлывая волну, выплыла.
Всплески прилива выбросили ее на твердую землю. Волны едва касались ног. Какая наивность, какая трусость – искать смерти! А рукописи Мудреца? Его мысли, еще неизвестные людям? Ее долг – сохранить их!
Усталая девушка растянулась на пригретых солнцем камнях. Обдумывала... скорби не место... надо сражаться... сражаться словом, мыслью... бессмертным оружием против тленного...
Лелия поднялась и, стряхнув приставшие к одежде ракушки, медленно пошла к вилле Цицерона.
Уже смеркалось. Она легко нашла знакомую лазейку в ограде и, прячась за цветущим кустарником, пробралась к домику садовника. Осторожно заглянула в окно.
Знакомый с детства раб-садовник ужинал с женой. Его сыновей не было с ними. Наверное, молодых, сильных парней угнали на строительство дорог. Лелия тихонько царапнула косяк окна.
– Кто? Ты, мой мальчик? – с надеждой спросил старик и, взяв фонарь, вышел на порог. – Госпожа?!
Он упал на колени.
– Госпожа! Здесь? Скорей входи! – Садовник почти втащил ее в дом. – Великий Посейдон! Водоросли в волосах! Клеопо, достань сухое...
– Одень меня мальчиком!
– Клеопо! Достань хитон, сандалии, да, да, те, его детские... Лелию переодели, набросили на плечи теплый мягкий плащ. Жалостливо глядя на свою госпожу, старый раб и его жена потчевали Лелию горячими бобами, велели выпить неразбавленного вина.
– Добрые люди, – слезы навернулись на глаза девушки, – я лишена огня и воды!
– Утром, госпожа, расскажешь! – остановил ее старик. – Утром, а сейчас кушай и ложись спать с моей старухой, а я лягу у двери.
VIIУтром садовник отвел Лелию, переодетую юношей, к новому хозяину.
– Это Эптим. – Старый раб низко поклонился. – Он сопровождал покойного хозяина, теперь вернулся.
Бывший центурион Антония, плотный, коренастый, недоуменно оглядел хрупкого мальчика.
– Что умеешь?
Лелия промолчала, боясь, что голос выдаст ее.
– Он переписчик, – пояснил садовник.
– А! – довольно протянул хозяин. – Грамотный? Счета и документы переписывать набело умеешь?
Лелия наклонила голову.
Ее отвели в библиотеку. Дали тушь и пергамент. Бывший центурион показал на груду табличек:
– Напутаешь, выпорю!
С этими словами бравый вояка вышел.
Лелия подошла к столику, заваленному табличками и обрывками пергамента. Быстро разобрала. Быстро работала, переписывая каллиграфическим почерком неуклюжие каракули своего "господина" и его поставщиков.
К вечеру принесла переписанное хозяину. Тот удовлетворенно хмыкнул:
– Не бездельник! Кормят хорошо?
Лелия молча наклонила голову и, осмелев, прибавила:
– Господин, книги покойника большие деньги стоят.
– По мне, ни гроша!
– Я знаю в Риме людей. Они хорошо б заплатили, но много книг попорчено. Я б мог их подправить.
– Валяй! Найдешь покупателя? Ишь какой! Дохлый, а хитрый! Вот уж грек так грек! Наверное, процентики хочешь получить?
– Господин! Кто не любит золота?
Бывший центурион захохотал:
– Хвалю за откровенность! До обеда переписывай нужное, а там хоть всю ночь корпи!
VIIIТриумвиры залили Рим кровью. За три дня на плахе погибло две тысячи всадников и триста сенаторов. Их головы, воздетые на копья, ликторы носили по Вечному Городу, а обнаженные трупы толпа волокла по мостовой, непристойно потешаясь над мертвыми.
Рабам разрешили доносить на господ, и доносы наводнили канцелярию курии. Наряду с истинными виновниками гибли ни в чем не повинные люди.
Достаточно было Фульвии пожелать что–либо из имущества богатого соседа – и несчастный вносился в смертные списки. Алчность и клевета справляли в Риме свой страшный пир. Лишь прихоть триумвиров могла спасти жизни. Антоний щадил мужей и отцов хорошеньких просительниц, Лепид освобождал за крупные взятки. Октавиан был неподкупен и беспощаден. С горящими глазами и плотно сжатым ртом он подписывал смертные приговоры.
– Если эти люди невиновны сейчас, – бросил он в ответ на упреки, – они завтра станут врагами!
И среди этих оргий крови и смерти Антоний с невиданной пышностью отпраздновал свадьбу дочери. Брак Клодии и сына Цезаря был не просто семейным праздником, но союзом государственной важности, скреплением высокой дружбы двух триумвиров. Преисполненная сознанием священного величия, Клодия возлегла на брачное ложе...
И жизнь в доме Юлиев стала адом. Клодия требовала, настаивала, швыряла в Октавиана все, что попадалось под руку. Кричала, что она не Лелия, не позволит пренебрегать собой, доберется и до Марка Агриппы, выцарапает ему бесстыжие глаза.
На четвертые сутки счастливая новобрачная сбежала. Проснувшись среди ночи, Антоний не мог сообразить, кто тарабанит в калитку. Вслушавшись в женские вопли, различил рыдания Клодии и отборную брань Фульвии.
– Наглая тварь не захотела тебя, а ты еще плачешь о нем! Где Мешок? Мешок!
Антоний, полуодетый, выскочил в сад.
– Дорогая, ты звала меня? Где девочка?
Клодия, рыдая, упала в его объятия.
– Убей, но не возвращай на мучения!
Не обращая внимания на поток проклятий, извергаемых Фульвией, Антоний уговорил падчерицу вернуться. Октавиан перестал бывать дома.
IXВсе ночи Лелия проводила в библиотеке. Лихорадочно спеша, разбирала латинские манускрипты, греческие пергаменты, египетские папирусы со странными письменами. Нет, они ей не нужны. И вот, наконец! Рукописи ее учителя, письма Цицерона к ее отцу Лелию Аттику. Каждая – законченная философская миниатюра, изящная по стилю, глубокая по мысли. Их читал и перечитывал весь мыслящий Рим.
Сперва Лелия хотела снять копии и вынести, но поняв, что новый владелец этих сокровищ даже не подозревает о них, каждую ночь похищала несколько свитков. С помощью старого садовника закапывала их в винограднике. Рукописи опускали в обожженные глиняные сосуды, чтобы предохранить от почвенной влаги, и, запечатав воском, погребали.
Пусть Лелия не смогла зажечь погребальный костер своему учителю, она сохранит пламя его мысли! На века!
Безумие, охватившее страну, когда–нибудь кончится. Лучше даже, если бы установилась прочная диктатура, как при Сулле или Марии. Лелия представила Марка Агриппу повелителем Рима и усмехнулась. А чем он хуже Мария или Суллы? Во всяком случае, лучше Антония... Она часто вспоминала вихрастого пицена, всегда щелкающим орешки. Вот и все дела державные он станет так же просто щелкать своими крепкими зубами!
Днем она думала об Агриппе, но по ночам снился Октавиан. Жалкий, измученный, он жался к ее коленям и умолял спасти его. И вместо ненависти Лелию охватывала острая, ни с чем не сравнимая нежность. Просыпаясь, сердито спрашивала себя: неужели она все еще любит этого трусливого мальчишку, жестокого и лживого, убийцу ее учителя?
Но Марк Туллий Цицерон был для Лелии больше чем любимым учителем, ее наставником на всех путях жизни.
В маленьком потайном ящичке из черного дерева она нашла связку табличек, бережно перевязанных выцветшей алой лентой. Поднесла к глазам первую табличку. Это были письма Лелия Аттика Цицерону, нигде, никогда не опубликованные, не подлежащие публикации: "Не избегай меня, Марк Туллий! Виргиния, умирая, рассказала мне все. Я не виню ни тебя, ни ее. Виноват я! Нелепый, толстый, неуклюжий, я женился на такой прелестной девушке. Я любил ее, люблю и сейчас. И ее малютку буду растить, как родную. В ней душа и плоть моей любимой. Мы оба любили Виргинию, и память о ней дорога нам обоим. Приезжай же посмотреть нашу Лелию..."
Дальше Лелия не могла читать, хлынули слезы. Вот почему ее так любил старый ритор! Но как благороден, как чист душой тот, кого она всю жизнь считала отцом, стеснялась его недалекости, его претензий на эллинскую утонченность! А он... Он был добр и великодушен!
Лелия заплакала сильней. Слезы очищали ее душу, успокаивали, смывали всю горечь последних месяцев.
XВ Риме росло недовольство. Патриции, устрашенные казнями, бежали в Элладу к Бруту и в Сицилию к молодому Помпею. Народ, обманутый щедрыми обещаниями, неодобрительно наблюдал ненужные кровопролития.
Имущество казненных конфисковалось в пользу триумвиров. Антоний наполнял свои погреба, Лепид свозил на свою виллу оружие. Октавиан отбирал предметы искусства: вазы, ковры, статуи и золото. Ему нужно было золото, его единственная земная страсть, ведомая людям...
– К чему эти бесчисленные грабежи? – с тревогой спрашивал Меценат Агриппу. – Если он хочет стать вторым Катилиной и натравить чернь на граждан, я умываю руки.
Агриппа грустно молчал. Он редко видел Октавиана. Дни триумвиры проводили в казнях, ночи в оргиях. Антоний окончательно предался разгулу и за вечер менял по нескольку фавориток. По словам Лепида, он решил превзойти тринадцатый подвиг Геркулеса, подарившего за одну ночь царю Крита пятьдесят внуков.
Лепид, равнодушный к женщинам, вливал в себя целые моря фалернского. Бледнея от хмеля, он не спускал глаз с Октавиана, угощал, смеялся над неумением мальчика пить крепкие вина, рассказывал скользкие истории, особенно прохаживался насчет любовных приключений покойного Никомеда Вифинского. Октавиан краснел, но уйти было бы неловко.
– Что ты жмешься, как весталка! – крикнул сердито Антоний. – Ты только с моей дочерью корчишь невинную девушку из себя, а весь Рим о тебе знает!
Лепид налил вина обоим.
– Пей, малыш! У каждого свой вкус и привычки. Не оправдывайся!
Провожая Октавиана, он нагнулся к его уху и шепнул:
– Вдвоем всегда лучше, чем втроем, и безопасней, чем одному. Я верный друг и не имею дочерей, чтобы портить тебе жизнь!
Наследник Цезаря загадочно улыбнулся. Кто знает, может быть, говоря с Антонием, этот же Лепид продает Октавиана.
Эмилий Лепид внушал ему чисто физическое отвращение. Особенно манера хватать собеседника за руки. Насмешливый пьяница постоянно говорил комплименты младшему триумвиру, и каждый раз юноша болезненно передергивался.
Все же сын Цезаря не пропускал ни одной оргии. Не притрагивался к вину, не отвечал на улыбки красавиц, воспаленными глазами следил за собутыльниками, боясь пропустить хоть слово.
Лепид скрывал свои слабости. Антоний, не стесняясь, грешил. Октавиан афишировал несуществующие пороки. Он прилагал все усилия прослыть развратником. На улицах, в цирке в упор разглядывал молодых женщин и каждый вечер приказывал приводить новую избранницу к себе в спальню.
Красавицу ждали: постланное ложе, изысканный ужин, благовония и богатые дары. Наутро ее так же таинственно два вооруженных легионера провожали до форума.
За кубком Октавиан хвалился, что в его объятиях перебывали самые прекрасные и чистые матроны и невинные девы Рима.
– И ни одна добродетельная республиканка не закололась, ни одна! Все эти целомудренные Лукреции жаждали моих подарков, а их оскорбленные отцы и мужья ловили почести!
Однако самое таинственное в любовных похождениях триумвира было то, что он даже не видел близко жертв своей "безудержной страсти". Октавиан не ночевал дома и, забегая днем переодеться, смеясь, расспрашивал своих телохранителей:
– Была? Хорошенькая? Не обидели? Не обижайте этих дурочек, пусть только держат язык за зубами. Проболтаются – голову срублю!
XIК весне, как всегда, Октавиан начал худеть, кашлять... Лицо стало землистым, черты потеряли детскую мягкость. Он избегал друзей, родных, на заботливые упреки сестры огрызался:
– Не маленький, сам знаю, что делаю. Болен? Тем лучше! Легче умереть, чем жить среди этих скотов!
– Замучили! – жаловался он Агриппе, прыгая на стол и ставя ноги на колени к своему другу. – Согрей...
Агриппа разувал его и растирал ледяные ступни.
– Эмпедокл! Лукреций Кар! – Октавиан рассматривал разбросанные по столу рукописи. – Да ты ударился в философию! Пифагор, "О числе", Евклид, "Выкладки", Птолемей, "Система Солнца"... Да тут и математика, и астрономия... Готовишься стать верховным жрецом?
– Я очень мало знаю, но понял, какие мы самоуверенные невежды. Беремся править миром, а что мы о нем знаем? – невольно повторил он слова Лелии.
– Ты воплощенная добродетель! – уколол Октавиан. – У Лепида не бываешь, бежишь веселья.
– Я часто бываю у Мецената. На днях там читали "О природе вещей". Лукреций Кар утверждает, что мир состоит из невидимых глазу атомов. Их соединяет сила взаимного тяготения. – Агриппа перелистал рукопись.
– Сейчас мне не до мудрости. – Октавиан закашлялся.
– Тебе надо отдохнуть. Брось Рим, твоих собутыльников. Едем в горы. Так дальше нельзя.
Агриппа стал ходить по комнате.
– Два года, как умер Цезарь, а ни одно его обещание народу не выполнено, зато крови пролито немало. На смертных приговорах твоя подпись чаще, чем имя Антония или Лепида. Ты хвалишься бесчеловечностью. Ты утверждаешь, что ты, как божество, выше жалости, а к себе требуешь и жалости, и снисходительности, и нежности. – Агриппа круто остановился. – Я прощал тебе трусость, но жестокость мне отвратительна. Цезарь был милосерд.
– И его убили.
– Ты глуп! Ради чего ты себя, наконец, губишь? Впереди борьба...
– Нужно золото. Проскрипции дают его, – резко ответил триумвир.
– Золото сражаться не пойдет. Карфаген был богаче Рима и все же уничтожен римскими крестьянами. Нужны солдаты, верящие в твою правоту!
– Легионеры любят меня.
– Любили! Любил и я, а сейчас я стыжусь твоей дружбы, триумвир! Мне стыдно за мое обожание, за мою веру...
Октавиан, потупясь, не отвечал. Агриппа сел и притянул его к себе.
– Не отворачивайся, а смотри мне в лицо. Я отдал тебе жизнь и не жалею. Но мне больно за тебя, – Агриппа до крови закусил свою руку, – мне больно.
Октавиан обвил его обеими руками и, припав, разрыдался:
– Меня замучили! Кругом мерзость... Не бросай меня... Никогда не бросай...
XIIГорная дорога шла кверху. Маленькие выносливые лошадки карабкались по камням. На повороте Агриппа спрыгнул с седла и раздвинул кусты. Колючие заросли диких азалий перерезала узкая тропа. Он взял своего спутника на руки:
– Не смотри, голова закружится.
Заросль осталась позади. Серые камни, редкие кусты... Они пробирались по карнизу. За выступом скалы на горной террасе прилепился домик, окруженный садом.
– Моя нора. – Пицен поставил свою ношу наземь.
Октавиан с изумлением оглянулся. Цветы, деревья, проточный водоем над неприступной крутизной среди нагих и диких скал, а под ногами хаос камней. Вдали синела Адриатика. Над побережьем стелился мягкий розовато-серый туман.
Агриппа снова нахлобучил на гостя капюшон и свистнул. Из домика приковылял старый горец. Полководец бросил ему кошелек.
– У перевала кони, отведешь в деревню и отдыхай. Сам приду за лошадьми.
– Зачем ты угнал старика?
– А на что он? Сплетни разносить? Сам буду доить коз и тебя пасти. Отдыхай. Хочешь – читай, хочешь – мечтай, хочешь – говори со мной, хочешь – не замечай. Тебе надо побыть одному.
В домике темнела старинная утварь, у стены стояло широкое деревянное, застланное козьими шкурами, ложе, на полу шуршала сухая душистая трава. В пристройке блеяла коза. Октавиан поймал козленка и погладил. Тишина. Агриппа исчез... В водоеме журчала вода. В очаге трещал огонь.
Все еще держа козленка на руках, Октавиан вышел во двор: вечнозеленые олеандры, медвяно-золотой рододендрон, кустики с красными ягодами, колючие, как елочки, обрамляли садик. Он уселся над обрывом. Туман рассеялся. Между морем, окаймленным серебряной полосой песка, и грядою скал лежала цветущая долина.
– Хорошо? – Агриппа бросил вязанку хвороста и блаженно потянулся. – Никого. Нападут на узкой тропе – я один сотню уложу.
Дни стояли тихие, солнечные. Триумвир прогостил у друга больше декады. Агриппа не докучал своим присутствием. Просыпаясь, Октавиан находил на столе готовый завтрак. Поев, выходил в сад и грелся на солнце. Пил козье молоко. Ел, спал, жил, как молодое деревце, ни о чем не думая, не размышляя, наслаждаясь покоем и тишиной.
У ног его лежала Италия. В сумерках в зелени долины вспыхивали огоньки деревень. Над головой зажигались звезды. Возвращался Агриппа с вязанкой хвороста на плечах и подстреленной дичью за поясом.
Тщательно завесив окно, разводил огонь в очаге и, напевая под нос пиценские песенки, принимался стряпать. В домике становилось тепло, вкусно пахло жареным мясом с приправой. Накормив друга, Агриппа опускался на козью шкурку и сладко зевал:
– Всю жизнь бы так жить. Охотился бы, ловил рыбу, пахал, тебя пас, выбил бы всю дурь из твоей головенки...
Солнце всходило. Сквозь золотые пряди тумана сверкала огненная ширь моря. Собранный в путь Агриппа подошел к императору:
– Мы ударим на Брута раньше, чем он предполагает.
Октавиан с грустью окинул взглядом горы.
– Как жаль мне твоего царства!
– Вернемся еще не раз.
Внезапно на них упала тень. Крупная хищная птица парила в высоком небе. Высматривала добычу.
– На моих козлят метит. – Агриппа взял лук и, запрокинув голову, нацелился. – Не люблю разбойничье племя.
Большой, в блестящем коричневом оперении, орел упал к ногам Октавиана. В груди торчала стрела, но птица еще билась. Быстрым ударом ножа Агриппа прикончил хищника.
Глава пятая
IМарк Юний Брут сделал своей столицей Афины. Тираноубийца выступал перед эллинами с громовыми речами о зле единовластия и благе республиканского образа правления.
Кассий не ораторствовал. Он действовал. Обложил податью не только вольнолюбивых сторонников свободы, но и их скот. С каждой пары рогов, будь то мощный вол или малый ягненок, взимался одинаковый налог. В Азии освободители народа собрали подати за десять лет вперед.
Вербовщики загоняли местных жителей в вспомогательные отряды. Не желающих умирать за дело свободы и справедливости бросали в темницы и выкалывали глаза. Двух магистратов греческого городка Магнезии по приказанию Брута уморили с голоду в долговой яме – они не смогли вовремя внести проценты благородному Марку Юнию.
Беотийцы, фракийцы, ионийцы, эпириоты, вначале с радостью примкнувшие к мятежным консулам, начали колебаться. Октавиан, казня римскую знать, был снисходителен к провинциалам. А Брут и Кассий в своей надменной жестокости превзошли кровавые дни завоеваний Суллы и Помпея.
Роптали и италики. Из–за моря несся слух: император уже роздал ветеранам земли казненных патрициев и собирается разделить все латифундии между крестьянами. Даже рабам, если они уроженцы Италии, дадут землю и освободят.
Войска триумвиров вторглись в Элладу. Республиканцы отступали в глубь страны. Изнуренные переходами, терзаемые затяжным, вечно напряженным безделием, ополченцы Брута томились. Пьянками, посещением вертепов, безудержной игрой в кости пытались заглушить тревогу. Кассий не преследовал притонодержателей, присосавшихся к армии.
– Людям нужно забываться, – пояснял он Бруту.
Терзаемый желудочными коликами и угрызениями совести, Марк Юний Брут сам был бы рад найти забвение: его преследовали галлюцинации, он видел покойную мать, слышал голоса...
Когда палачи пришли забрать Порцию, сестра Катона, оттолкнув ликтора, подбежала к очагу. На глазах опешившей стражи безумная женщина проглотила горсть раскаленных углей и скончалась в страшных муках.
Марк Юний безучастно подивился мужеству жены и вновь погрузился в свой фантастический мир. Два года уже он жил, черпая силы в болеутоляющих средствах. В промежутках между приемами лекарства метался, казнил всех, кто попадается под руку, велел обезглавить каждого десятого в когортах, где было замечено дезертирство. Кассий отменил приказ.
– В таком случае, любезный Брут, – пытался он растолковать своему другу, – нам придется перебить самим все наше войско.
Квинт Флакк Гораций давно сообразил, что просчитался. Его кредитор пал еще при Мутине, а он все тянет лямку, отслуживая долг мертвецу. Тревоги войны полны поэзии в строфах Гомера, но в жизни отвратительны.
Веселый, добродушный, с лукавой хитрецой, Гораций не выносил постных рож блюстителей республиканских добродетелей. Товарищи списывали его эпиграммы. Начальство за каждое острое словцо мстило нарядами вне очереди. Все ночи Гораций мерз на карауле. С горя он переключился на элегии, и его оставили в покое.
Самнит Рекс, декурион и страстный игрок в кости, приютил поэта у себя в палатке. Рекс не выпускал костей из рук и даже во сне бормотал: "Удар Венеры – две шестерки подряд, рыбка – тройка, собака – четверка, черная кошка – пустышка".
Легионеры утверждали, что кости у самнита наговоренные. Гораций в качестве скептика решил проверить. К утру Рекс обыграл усомнившегося до ниточки. Даже солдатское довольствие Горация за месяц вперед перешло в распоряжение декуриона, но проигравший не пожелал платить, ведь он не может не есть. Пусть кредитор забирает паек через день в рассрочку на два месяца. Рекс выгнал неплательщика из палатки. Поэт подал великому консулу Марку Юнию Бруту петицию в стихах:
Умоляю богами, о Брут благородный!
Ты ведь с царями, что издавна Рексами
звали у нас.
Расправляться привык: для чего же ты медлишь
И этому Рексу шею свернуть? Вот твое
настоящее дело!
Брут, не читая, распорядился дать палок обоим. Бывших друзей вывели перед строем и принялись избивать.
– Лучше б я отдал тебе долг, – стонал Гораций.
– Лучше б я простил тебе проигрыш, – процедил сквозь зубы Рекс. – Нет, я больше не защитник Республики!
Он достал мазь из смальца с целебными травами и обильно смазал спину себе и своему должнику. Дружба была восстановлена. Рекс признался, что ищет лишь случая вернуться в Италию. Гораций боялся мести триумвиров.
– Апеннины велики, а там забудут. Подумаешь, Квинт Флакк Гораций – кто тебя знает?
– Никто, – согласился молодой поэт. – И этому добродетельному палачу я больше не солдат.








