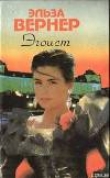Текст книги "Чистая сила"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
Горный переулок, вопреки названию, располагался в низине, а горы были едва видны вдалеке. Дом номер пять, как и все дома вокруг, – в зелени, с верандой на две стороны. Но вместо типового объявления на прямоугольнике тонкого металла, с головой овчарки сбоку и надписью: «Осторожно! Во дворе злая собака», был к калитке прикреплен медный квадрат, на котором замысловатой вязью было начертано: «Ирина Аркадьевна Мозолевская».
Потоптавшись возле калитки и довольно неуверенно покричав: «Есть кто-нибудь?», я перегнулся, отодвинул засов и вошел. На мой осторожный стук в дверь в доме залаяла собака – слишком резво, чтобы оказаться больших размеров псом, – и послышался женский голос, сказавший: «Мери – место!» (на что лай усилился), и дверь открылась. На пороге стояла женщина в темно-синего цвета длинном, до самого пола, китайском халате с широкими рукавами и поясом, и хвостом какой-то птицы, шедшим из-за спины и оканчивающимся где-то у живота, лет пятидесяти пяти, высокая и массивная, с крупными, но приятными чертами лица. Сзади лаяла маленькая, черной масти собачонка, то наскакивая на меня, то отступая, но не пересекая порога. Женщина улыбнулась мне, напомнила собаке о «месте», и, не дождавшись исполнения приказания, приподняла щепотью полу халата, и легким, но выверенным пинком удалила собаку, и в наступившем спокойствии обратилась ко мне:
– Я вас слушаю.
Голос у нее был густой, а выговаривала она слова не то чтобы растягивая, но как-то протяженно.
– Ирина Аркадьевна? – сказал я и, после утвердительного знака движением головы, добавил: – Я бы хотел Марту, – а так как она молчала, и только брови ее вывелись в какой-то выжидательный знак, я добавил еще: – Мне Леночка дала ваш адрес.
– Ах, эта Леночка, – протянула женщина с отдаленной лаской в голосе, но как говорят о детях. – Входите.
И я вступил в дом. В комнате, куда она меня привела, то было особенным (и это виделось сразу), что все вещи, начиная от плетеных стульев, плетеной же кушетки и до многочисленных коробочек, шкатулок и поставцов, расставленных везде, даже и на окнах меж цветочными горшками – все было как-то уж очень миниатюрно-подробным, тогда как сама хозяйка была высокого роста и плотности близкой к массивности, хотя черты лица – подвижные и из тех, которые запоминаются.
Она усадила меня за круглый столик, придвинула одну из трех лежавших на столе коробочек, коротким движением пальца ловко откинула крышку, сказав: «Курите». Я отвечал, что не курю. «Тогда морс», – сказала она, подошла к маленькому шкафчику у стены, достала оттуда графин и вместе с бокалом на тонкой ножке поставила передо мной. Когда она открывала шкаф, я успел рассмотреть ту самую птицу на халате, хвост которой я уже видел перед тем: белая, с раскрытым клювом, распахнутыми крыльями и растопыренными длинными острыми когтями, загнутыми крутым полукругом – испуганная и замершая в испуге.
– Так вы ищете Марту, – проговорила она, усевшись напротив и опершись концами пальцев о край стола. – Но вы ее не застали, она ушла.
– Да? – сказал я, пошевелившись. – Тогда я, может быть, зайду позже, потом?
– Ну что вы, зачем же. Она скоро обещала быть. А мы с вами будем беседовать. Вы давно ее знаете?
– Нет… не очень.
– Я так и поняла, что она не от вас убежала, – с поощрительной улыбкой произнесла Ирина Аркадьевна.
– Не от меня, – подтвердил я и стал оглядываться по сторонам.
Чувствовал я себя стесненно. И не потому, что сидел в чужом доме и разговаривал с незнакомой женщиной, и не потому, что она стала спрашивать меня о Марте. Во всяком случае, не только поэтому. Но одно положение занимало меня с того самого момента, когда я сел за овальный столик, – как войдет Марта и что будет, когда она войдет? Если бы я ждал на улице, то подошел бы, мог бы сказать, что сам не знаю почему, но хотел ее увидеть или что мне необходимо было ее увидеть, и так далее (если она станет слушать). А если не станет слушать, то я уйду – просто пойду по тротуару, может быть, даже смогу не оглянуться, пока не дойду по поворота. Но здесь, сидя на плетеном стуле, когда передо мной бокал на тонкой ножке и я уже отхлебнул сладкого напитка, среди этих коробочек и шкатулок, в приятной и вежливой беседе с хозяйкой… Я все представлял себе, как я буду уходить, когда она, возвратившись, холодно удивится моему присутствию и когда хозяйка скажет что-то вроде того, что она меня усиленно занимала беседой, а сейчас передает с рук на руки (что-нибудь такое или близко к таковому, по моему мнению, должна была выговорить Ирина Аркадьевна), – и я знал, как мне будет и что я смогу сказать, и главное, что будет чувствовать моя спина, когда придется развернуться к выходу. И из этого вороха предположений все явственнее выглядывала несомненная напрасность моих поисков и моего пребывания здесь, и всего того, что я придумал для себя в образе Марты. «Образ Марты и его влияние на жизнь героя», – невесело промелькнуло в моей голове, но здесь Ирина Аркадьевна сказала:
– Ну что ж – оставим Марту, хотя это очень достойная молодая особа, и я рада, что могу хоть немного ей помочь и укрыть под моим скромным кровом.
Высокопарная фраза прозвучала как-то просто, и я подчеркнуто огляделся, как бы не подтверждая слов о «скромности».
– Нет-нет, – поняла она меня, – и скромный и ветхий, я знаю, что говорю: одиночество – всегда ветхость. А я одинока.
Я чуть пожал плечами, не зная, как реагировать на такое внезапное признание; черная собачонка подошла ко мне тихо и осторожно понюхала носки туфель; я нагнулся ее погладить, но она отошла.
– Вам, может быть, удивительно, что я с вами, будем говорить, малознакомым человеком, начинаю об одиночестве, вместо того чтобы вежливо поразмышлять о погоде? Но о погоде можно говорить, а можно и молчать – разницы никакой, тогда как одиночество – вопиет. Да, да, не удивляйтесь слову, именно вопиет. И почему бы вам не послушать, а если вы умеете быть внимательным, то и прислушаться. Ну, отвечайте же что-нибудь, а то мне не хватает вздоха!
Я был в недоумении от такого зачина и, помявшись, ответил:
– Я не знаю.
– Ваши ответы могут и ничего не означать, вы не трудитесь. Они нужны для вздоха. Монолог – это всегда выдох. Но нужно и вдыхать.
– Нужно, – на этот раз улыбнувшись, сказал я.
– Ну вот и прекрасно, что мы так скоро пришли к пониманию. Должна вам в этой связи сказать, что у меня правило – не вести пустых разговоров. Я не говорю – умных или глупых, но – пустых. Может, это от моего образа жизни составилось такое правило. Отчасти. Но не в этом только дело. Вы знаете, сколько мы говорим друг другу пустых и незначащих слов, сколько общеизвестного переминаем: из вежливости или из лукавства – все равно. И разговоры такие есть только заполнение пустоты. Понимаете, пустоту заполняют пустотой. Разве не бессмыслица?
Всего я мог ожидать после этой таблички, этого халата с испуганной птицей, познакомившись с маленькой собачонкой черной масти, многого, во всяком случае, только не такого. Оно, конечно, можно и такое начало принять за досужие разговоры (вопреки заявлению!) скучающей в одинокости женщины (не водку же ей пить от скуки!). Мысль о досужих разговорах тоже у меня засветилась ненадолго и как-то сама загасла, только потолкавшись среди других и не найдя понимания. Не знаю, может быть, доверчивость тому виной, может быть, обаяние Ирины Аркадьевны (а оно было: тоже необычное, странное даже, тоже все из крупных черт, и не обволакивало, а затягивало в себя, словно и деликатной, но твердой рукой), может, собственная запутанность моя в окружавших меня чужих делах – не знаю, может, все это вместе или каждое в отдельности. Только необъяснимое было в том, что какие-нибудь полчаса назад я не знал эту женщину, а сейчас: смотрел – и верил, слушал – и доверял.
Все это так, однако от вопроса я удержаться не мог.
– Так в чем же разделение между пустыми и «полными» разговорами? – сказал я. – Кто эту грань устанавливать будет? Для умнейшего – и наши покажутся пустыми, а его пустые для нас – полными смысла. Конечно, это все тоже слова, но есть же граница, должна быть. Только кто ее установит? Или делить людей по уму? – для одной группы – своя граница, для другой – своя. Так можно.
– Э-э, да вы философ! – изобразив чрезмерное удивление, но, кажется, искренне довольная, воскликнула она. – Вот так так!
Она энергично поднялась, достала из шкафа бокал для себя, налила напитка и – выпила залпом (случайно или с умыслом, но бокал она себе взяла отличный от моего – пузатый и на низкой ножке). Бокал она поставила с четкостью, а крякнула и совсем по-настоящему.
– Люблю умных людей, – сказала она весело. – Да еще когда случайно попадаются.
Похвала эта мне не очень пришлась по душе, но я поблагодарил артистическим наклоном головы. Странно, но в эти последние минуты я почувствовал себя очень легко, даже, кажется, излишне. Невинный ли морс так ударил мне в голову?!
– Только в вашем рассуждении, – начала она серьезно, поставив локти на стол, сцепив пальцы замком и выдвинув оба указательных, – все неправда. Это я вам говорю. Начнем с «границы». Никакой границы нет. Да, для ума есть – там их без счета. Но разве я говорила об уме! Нет! Я говорила об искренности. Все пустоты от притворства: и вежливость, и лукавство, и всякое такое. Ум совсем ни при чем. Вот скажи, что из чего выходит: ум от души или наоборот?
– Ни то, ни это, – отвечал я, – они параллельно идут. Если бы ум от души шел, то из хорошей – всегда великий ум, а из плохой – слабый.
– Что значит из «плохой»? – почти резко возразила она. – Это из какой же такой плохой?
– Ну, из черной, там, подлой…
– Ах, из подлой, говорите. А у младенца тоже подлая или он ее потом, в процессе жизни, зачерняет? Так по-вашему?
– Примерно.
– Ах, примерно! Спасибо вам, – с ворчливым возбуждением проговорила она. – Хорошо получается. Нет! Нет! И нет! И не перебивайте. Ничем она не зачерняется – вот! А душа, если хотите, идеал.
– Еще и бессмертная, скажите, – вставил я.
– И скажу, – отвечала она с серьезностью. – Да, как идеал – бессмертна. А что же вы думали. Говорят – душа народа, это только, по-вашему, слова? То-то и оно. Именно бессмертна и именно идеал. Другое дело, что человек, сам того не замечая, живя и действуя, забывает про данный ему идеал и все на стороне что-то ищет. А он здесь, как говорится, за пазухой. И чем больше отдаляется, тем чернота на его проявлениях и лепится. На проявлениях. Только человек начинает эти проявления за душу принимать. Говорит: «Душа болит». Да господи, никакая не душа, это ком его проявлений от наростов задыхается. А что до ума, то вот что скажу: из души он выходит, только чем большую силу берет, тем больше над родительницей своей возвыситься хочет и ее собой подменить. А искренность – это есть единственная связь ума с душой, с родительницей своей. Вот этой связи и боимся мы, умные. Ум же только через искренность может всегда ощущать идеал и на него ориентироваться. Но боимся: вдруг душа нас поучать начнет да правду в лицо говорить. А это трудно, правду про себя слушать, особенно при большом уме и особенно когда ежеминутно.
Она откинулась на спинку стула и шумно вздохнула.
– Ну, чего молчите, я так и в одышку могу впасть совсем, а в мои годы – сами понимаете, – строго-весело глядя на меня, сказала она.
– Скажу, – отвечал я. – Это все вы хорошо построили, только здесь, в системе вашей, есть один недостаток…
– Ну, – перебила она меня, – если недостатками считаться, то никакой правды не добьешься, – не математика. Если так…
– Хорошо, – в свою очередь прервал я, – пусть так. Но все-таки ум-то разный: у Платона, к примеру, один, а у тети Вали, продавщицы газированной воды – другой, послабее. А если душа одна и идеал, и бессмертна, то как же она разные умы порождает? Получается, что все-таки и идеалы разные, с допусками, во всяком случае.
– Ну вот, договорились, – Ирина Аркадьевна покачала головой. – Откуда же я знаю. Наверное, разные способности. Ну, не знаю, не буду врать. Только скажу, вопросы задавать легко и ошибку выискать легче, чем все построить.
– Так что, теперь и вопросов не задавать? – произнес я довольно дерзко, но, вспомнив о месте и положении моем, поправился: – Извините.
– Вот это хорошо, что говоришь, – подхватила она, незаметно переходя на «ты», – то, что надо. Слушай, – продолжала она, довольная, – откуда ты явился? Я здесь сижу одна, кисну среди цветочков, всякие разности придумываю, а ты… Нет, ты ко мне приходи разговаривать. Придешь?
Я пожал плечами.
– Ты плечами не пожимай, ты прямо говори – придешь?
– Приду, – выговорил я наконец, и сам себе поверил, и не удивился этой ее внезапной и незаметно как наступившей власти надо мной. Вообще за последние два дня я стал как-то меньше удивляться внезапностям.
– Ну ладно, придешь, не придешь – дело вольное. А ты мне вот что скажи, что это с Мартой такое приключилось? Мне Леночка здесь наговорила, да разве ее поймешь; полслова свои, а все остальное из мужниных философий понадергано. Да ты, наверное, знаешь его, – она усмехнулась, – он человек умственный, с ним говорить – без словаря иностранного не разберешься.
– А Марта сама ничего вам не рассказывала?
– Не спрашивала я.
– Вы? – не сумел я сдержать улыбки.
– Чего улыбаешься?! Сама не спрашивала. А ты что думал, кто ко мне попадет, целым не уходит? Так, что ли? – она приставила указательный палец ко лбу и легонько постучала пальцем. – Здесь еще имею. И не ко всякому с разговорами полезешь – тоже понимать нужно.
– Понятно.
– Что тебе понятно? Ты на себя не намекай: ты здоровым пришел, а она, Марта, – больна. Ты мне скажи, если особого секрета не имеешь, что с нею такое стряслось? Ты, как я понимаю, о ее прошлой жизни мало знаешь. А все-то дело в прошлой жизни. Ну, скажешь?
Я задумался. Я хотел говорить, и рассказывать мне было нужно. Но я сейчас сообразил, что и рассказывать особенно нечего: все на моих ощущениях построено. А как их передавать станешь: ну, увидел… потом обратил… потом придумал… потом почувствовал.. Что знал я? Что Ванокин ее «вызвал», потому что «днями все решается». Но тогда нужно было и о Думчеве помянуть, а если и о Думчеве, то и…
– Не знаю я, как рассказывать. Может быть, и есть секрет, но я его не знаю. Нет, он есть, определенно, но… Видите ли, Ирина Аркадьевна, если честно говорить, то я с Мартой почти и не знаком. И когда она придет, то еще неизвестно, что я смогу… то есть, чем объясню…
Ирина Аркадьевна покачала головой, наполнила свой бокал, позабыв о моем, но на этот раз только пригубила.
– Ну ладно, не знаешь, так и не надо, – проговорила она медлительно, снова нараспев и думая о своем. – Жизнь такая. А скажи, – она подняла глаза и внимательно на меня посмотрела: – Твоя жизнь, она какая… была?
– Не знаю, – проговорил я задумчиво, но тут же, устыдившись, сказал бодро: – Да еще никакой особенной не было.
– Никакой особенной, – повторила она серьезно. – Но это неверно: всякая жизнь, что уже прошла, всегда особенная. Я знаю. Теперь знаю. А мы все вперед заглядываем, а впереди одни мечты: сбудутся, нет ли? Скорее, что нет. Все кажется – вот завтра особенное и настанет. А завтра ничего не настанет. Ничего – думаешь – послезавтра обязательно. Но то же и послезавтра. Так годы и идут. А потом хватишься: ни тебе «завтра», ни тебе «послезавтра» – одно сплошное вчера.
Она встала, подошла к окну, постояла так, спиной ко мне, погладила пальцами бархатистый листок комнатного цветка и – вдруг – быстрым движением пальцев надломила ветку; листок повис.
– Знаешь, – она медленно обернулась ко мне, – я теперь только во «вчера» и смотрю. И понимаю это. А все равно себе какое-то «завтра» придумываю. Видишь, – вот цветочками обложилась, халат этот надеваю, манеры соблюдаю, собачку свою не как-нибудь, а Мери назвала. И все я понимаю, что ширма это только, а все равно играю из-за ширмы. По привычке, знаешь. Вот я тебе сразу сказала, что одиночество вопиет. И слово-то такое отыскала. Замечаешь? А что я здесь живу? Чем? Мне бы не понимать ничего и ночами бы не думать. Вот Марта явилась вчера, так словно ее мне подарили. А ты вот пришел за ней. Да – за живой жизнью живая и тянется, а за неживой – ничего, нитка только оборванная.
Она вяло усмехнулась, повела по лицу рукой:
– Я тебе тут про искренность толковала и что правило у меня. Да что говорить – пустое. Вот Марта пришла – у нее горе, может быть, а мне – счастье. Не знаю, может, на пару дней всего, но ведь счастье! Во всяком случае развлечение. Ты не смотри так, что я про развлечение говорю, для меня развлечение – не забава. Так вот сидишь здесь, кажется, что до конца так и будешь, и вдруг – раз – и влечение куда-то. А к чужому горю – оно самое сильное. И не из радости, что другим плохо, а мне хорошо. Им – другим – им в движении плохо, а мне – в стоянии, в неподвижности то есть. Разница. Ты думаешь, почему я тебя этими словами… огорошивала. А потому, что нужной хочется быть. Уж не говорю – необходимой. Хотя бы нужной. Что же мне теперь, на улицу выйти, встать посередке и кричать: мол, если кому нужна, то отзовитесь, все, мол, готова совершить, что в силах и сверх того, только понуждайся во мне кто-то! А ребенок какой подойдет да спросит: «Вы что, тетя, тут стоите, вам плохо, вам врача вызвать?» – «Нет, – скажу, – не нужно мне врача, не нуждаюсь я в нем, а ты сам ни в ком не нуждаешься?» – «Нет, – скажет, – у меня мама есть». Да, так и скажет. Вас вот в семье сколько? Или один ты?
– Двое. Брат еще.
– Двое, – она вздохнула. – И родители?
– Да.
– А я вот замуж вышла, восемнадцати лет. Муж мой, покойный, на четырнадцать лет старше. Сначала детей нельзя было: он еще в аспирантуре учился, кандидатскую нужно было готовить, а я в институте – на первом курсе. Я «иностранный» кончила, немецкий язык. Ну, пока заканчивала (заочный), муж мой в большие люди вышел: в оборонной промышленности работал, и на больших должностях. Квартиру нам дали просторную, из четырех комнат, достаток, сам понимаешь, приличный. Да что там – богато жили. Как-то так получилось, что на работу простую мне несподручно было при таком муже идти. Я и не пошла. Ну, а делать надо что-то: муж на работе с утра до вечера, а иногда и ночами. Решила я переводами заняться. И не простыми, а поэзию переводить. И что меня подвигнуло, думаешь? Талант открылся? Ничего он не открывался. А только сидишь так среди мебели дорогой, что захотела – тут же тебе есть, ни о чем никакой заботы (к нам женщина ходила – убирала, готовила). Ну вот – от праздности богатой и возмечталось. Обычно наоборот: из бедности бьются, работают, творят, чтобы потом в таких четырех комнатах, к примеру, пожить. А у меня все это уже было. Я все эти жизненные невзгоды поэтов заочно прошла. Пустяк оставался – потворить. Мой муж был доволен моим решением: он вообще был мною доволен, потому что очень занятой человек. Он даже мне сказал, что готов всеми силами помочь… и прочее. Ну, я, конечно, всех в известность поставила (моих литературных друзей; были уже, вроде меня), что я теперь не просто Ирина-при-муже, а поэт-переводчик Ирина Мозолевская. Мозолевский – это фамилия мужа, а моя девичья – Кротова, что тоже знаменательно. Ну вот, поносилась я со своим решением с полгода, порассуждала обо всем, о чем можно было – время настало за дело приниматься. А как теперь с маленького начинать, когда столько людей уже (и настоящие литераторы были, но в основном – начальники литературные; и здесь связи мужа), столько людей поэтом-переводчиком величают. Один такой мне на обеде по случаю дня рождения мужа и говорит: когда, говорит, новыми переводами нас порадуете? Знаешь, когда в определенный круг попадаешь, там уже твои заслуги само собой разумеются, то есть, если ты с ними, то понятно, что не просто так, а за «заслуги». И знаешь, у мало-мальски ловких людей очень даже все хорошо выходит – лишь бы в круг попасть. А для меня это заботой не было – само собой, как дар от рождения, вернее, по замужеству дар. Так вот: взялась я за переводы. Разумеется, что по рангу моему утвержденному я не могла за что-нибудь взяться, чтобы для учения, для начала. Нет, не могла, не смела уже. Взялась я за Рильке (знаешь? ну вот…), сонеты переводить. А он поэт сложнейший, его и на немецком читать… Понимаешь сам. Но все обставлено было серьезно: консультации со специалистами (это другим было трудно до специалистов добраться, а не мне), литература и все прочее. Перевела с десяток сонетов. Добрые люди посоветовали их публично опробовать, не напечатать, конечно, этого и «добрые люди» посоветовать не могли. Устроили мне несколько выступлений, как у нас говорили – престижных. Ну, почитала, ну – послушали, и – разошлись. Друзья меня, естественно, восхваляли, об ассоциативном мышлении и потоке сознания говорили, будто это я придумала, а не Рильке. Но, думаю, что от Рильке там немного осталось – так что они были правы. Потом, и это естественно в моем положении, наступила полоса непонимания и отвержения. «Ничего, – похлопывали меня по плечу начальники (фигурально, разумеется), – что делать, еще читатель не дорос. Но главное сделано, а в будущем – поймут». И так далее, что в таких случаях говорят. Должна сказать наперед, что тот десяток так ни на один сонет больше и не увеличился. Зато жизнь моя теперь основу обрела. Знаешь, я даже когда в ателье звонила или домоуправу, то представлялась не иначе как поэт-переводчик. Ничего – проходило. Знаешь, все это долго длилось – лет десять. Трудно поверить – но так. Правда, о поэте-переводчике уже меньше заявляла, а больше литературным салоном занялась. Литераторы-то настоящие ко мне не приходили, а так – всякие случайные и кто при вышестоящих. Так и жила, как птичка божья: ни забот, ни трудов. Муж мой трудился, меня любил, когда свободное время находилось, а я – не знаю, я как-то о любви тогда не думала, все в себя смотрела. С детьми потом и не получилось, хотя он хотел. То есть, сперва вместе не хотели, потом я не хотела, потом, когда вместе захотели – не вышло.
Она прервалась и, как бы только сейчас увидев меня, спросила:
– Тебе сколько лет?
– Двадцать четыре.
– Двадцать четыре, – повторила она, глядя поверх моей головы. – Двадцать четыре. А мне тогда было тридцать восемь… нет, тридцать девять. Да, точно – тридцать девять. Наступил этот год, и все порушилось: мое глупое житье и деятельность моего мужа. И жизнь… его. Он не старый был еще – пятьдесят пять. Вдруг у него на работе все сорвалось и – его отставили. Знаешь, я не очень в этом разобралась. Он говорил, что не виноват, что интриги… и прочее. Но, кажется, не совсем так. Ну… не знаю. Понимаешь, он для меня – как бы это лучше сказать – он был для меня как бы родной-посторонний. Я была с ним и не знала его. Я сейчас думаю, что кроме его вечной занятости и моей «творческой» жизни, это потому еще, что у нас не было детей. Многое познается через ребенка. Через него и переливается: от мужа к жене и обратно. Пока нет ребенка, то супруги могут быть, к примеру, большие любящие близкие, но – не кровные. А когда ребенок, то – кровные. Будь у нас ребенок, я бы об этом не думала, все было бы само собой. Но я знаю теперь – это так. А без ребенка… Что без ребенка?! – я знала, что муж мой честен, что всего себя отдает работе, что человек государственного мышления, семьянин хороший, неприхотлив, скромен. Короче, как в анкетах, только подробнее, интимнее, что ли. А здесь вдруг такое: вопрос стоял даже об исключении из партии. Но до этого не дошло. Он даже и оправдался как будто, но, как говорится, – поезд ушел. А самое-то главное, что я ему в этом всем поддержкой не смогла быть. Как бы это лучше тебе… Понимаешь, для деятельности у меня не хватало жизни, обстоятельств (здесь обстоятельства тоже очень важны), а для женственности – ума. Я не оговорилась – именно ума и не хватало. Не верю, когда говорят, что это природное, чувственное. Конечно, природное, но только как и все в человеке. А чтобы это природное в себе понять, нужно постоянно стремиться к этому, цель такую иметь, если хочешь. А чтобы применить – нужен ум. Быть женственной ведь тоже себя нужно приучать. А чтобы был ответ (а без ответа все гаснет), нужно еще и форму найти, чтобы он, супруг, понял и оценил. Конечно, есть женщины, которым это от рождения дается. Но это – как талант. А талант – редкость. Такой характер – редкость. А если ты с таким характером не родилась, а знаешь, что он тебе необходим, то – сделай, чтобы он был, трудись. Ты скажи, тебя слова эти не смущают: трудись, ум, и так далее.
– Нет, я понимаю.
– Вот и хорошо. И так… От этого удара и здоровье мужа покачнулось. Я всегда знала, что здоровье у него хорошее (он никогда не жаловался, да и некогда ему было болеть), а как пришлось по-настоящему узнать – оказалось, что совсем и не хорошее, даже слабое, и куча болезней. Потом у него с сердцем случилось – два раза за короткий срок. И решили мы двинуться в теплые края: ему нужно было климат сменить и от всего случившегося подальше, а мне – куда мне было деться! Вот тогда и началась для меня настоящая жизнь. Пошла я на работу – в первый раз – преподавать в школе язык. Да, забыла, мы тогда сюда переехали и этот домик купили. Квартиру мы тогда уже потеряли, как говорится, по независящим причинам. Ну, это ладно. Сейчас-то я понимаю, что еще тогда, когда переезжали, он не жилец уже был, хотя как будто здесь ему получше стало. Стали жить. Только долго и не прожили, всего два года с небольшим. Как-то раз он меня ночью тихо так позвал. Я к нему. Зажгла свет, смотрю, а у него лицо бледное и на губах как бы налет серый. Я к нему: что с тобой, и прочее. А он смотрит и ничего не отвечает. Только смотрит. А на меня как будто что-то нашло: стою, ничего не предпринимаю и тоже смотрю. Так мы друг на друга смотрели, пока не поняла я, что его уже минут пять как нет. Так и умер, глаз не закрывая.
Она замолчала, потрогала бокал рукой, похлопала сверху по ободку ладонью, сказала:
– Ты чего не наливаешь? Не нравится?
– Не хочется уже.
– А есть хочешь? У меня, правда, обеда нет, но вот, – она встала и все из того же шкафа достала тарелку с песочным пирожным, – съешь, вчера брала. Я сама не особенная мастерица печь, но сладкое люблю. За те два года, что с мужем здесь прожили, я готовить немного научилась, а потом, когда одна осталась, разучилась быстро, – она усмехнулась. – А напитки делаю: в саду ягода, так поневоле.
– А вы работаете, – сказал я, надкусывая пирожное, – там же, в школе?
– Нет, не в школе, – ответила она быстро и отрывисто. – Нигде.
– А-а, – протянул я и положил пирожное на тарелку.
– Что, не вкусное?
– Вкусное.
– Тогда что?
– Так.
– Что так? – нетерпеливо сказала она. – Ну?
– Да ничего, – пожал я плечами. – Так просто спросил.
– Ну, если просто… Может, еще чего хочешь спросить?
Я внимательно на нее посмотрел: смеется или серьезно? Во всяком случае, была очевидна какая-то неловкость. «Вот и разговаривай потом с женщиной, выслушивай», – подумал я, и – здесь опять вошло все: о Марте, и предстоящее завтра сидение за занавеской, и Алексей Михайлович с этим своим загадочным бывшим другом и с этой женщиной из письма… И вообще: какая-то нелепость этих последних дней ощутилась явно. И нелепость моего сидения здесь, и этого разговора – ненужного, лишнего, а в свете последних событий так и совсем излишнего. «Что они все от меня хотят – все разом, и все навалились. Я, наверное, мягкотелый, не личность, если я им только как слушатель и исполнитель нужен. А они мне нужны? – вот вопрос. Никто из них такого вопроса себе не задает – им некогда, у них дела. Так хоть я задам. Нужен. Нужен. Всем нужен».
Но, сказав это себе, это последнее, я вдруг запнулся, и такое у меня возникло чувство, что я что-то забыл, что-то очень важное. А вспомнить не могу.
– Ты что – заснул? – грубовато окликнула меня Ирина Аркадьевна (но грубовато-примирительно, что, собственно, и не таила).
– Нет, я так… думал… – но я не договорил, потому что вспомнил, уж не знаю в какой связи, что она будет стоять на улице, на самой середине, и будет кричать, чтобы кто-нибудь откликнулся, потому что ей необходимо быть нужной; и подойдет мальчик, кажется, и спросит: «Что у вас болит?» – а она скажет, что ничего, а он… что у него есть мама.
– А у вас есть мама? – спросил я.
– Что? А – нет. Мама умерла рано, я только замуж вышла, и она умерла. Еще до войны. А отца у меня не было… вообще. Я помню, что…
– Постойте, постойте, – остановил я ее вдруг и вдруг вспомнил. Нет, не улица, и не крик, и не мальчик, а другое:
– Так, получается, что в войну были, это… ну, поэт-переводчик? И не работали, и выступали где-то?..
– Во время войны я училась, – сказала она сухо. – А это… это было уже потом, после войны.
– Сразу после?
– Я не понимаю, при чем здесь война?
– При чем? – я говорил так, будто говорил с одним собой и как будто внимания на ее ответы не обращая. Я боялся потерять мысль, только сейчас уловленную. – Вы, когда я слушал… когда вы говорили… – я никак не мог начать. – Нет, я подумал вот: вы все это рассказывали про свою жизнь, то есть – и «поэт-переводчик», и «салон», и другое, но… Вы так рассказываете, как будто не было войны. А ваш муж, он?..
– Он был специалист. У него была бронь.
– А вы?
– Что я? Почему на фронте не была?
– Нет. Но для вас как будто не было войны.
– Ты что – меня допрашивать здесь пришел? Ты кто такой есть, чтобы такие вопросы мне задавать? А? Кто ты такой есть?
Мне надо бы было остановиться. Но было уже поздно.
– Я не кто такой. Но я вас слушал, – проговорил я, вставая. – Вы все так умно мне говорили. И что «душа народа». Так вот как у вас «вопиет»?
– Что ты знаешь! – выкрикнула она. – Мальчишка!
Но было уже поздно:
– Пусть я «мальчишка»! Пусть! А вы говорили, что… нужны, а сами… Вы в этом домике живете, ягоды собираете… Что вы про душу говорите, когда ничего не помните, как будто ничего и не было. А еще «душа народа»!
Меня понесло, я не мог остановиться:
– Пусть я «мальчишка» и ничего не испытал. Зато я знаю, что мой отец воевал, а мать в деревне… они голодали, а работали они…
Она тяжело поднялась, стояла, держась за стол. Губы ее вздрагивали. Она набрала воздуху – мне показалось, что она выкрикнет сейчас… Но грудь ее медленно опустилась.
Я же не мог остановиться и теперь. Не знаю, но даже как будто озлобление нашло на меня и слова выскакивали с какою-то острой радостью, словно сидели годы под замком и думали: пожизненно, и смирились, что пожизненно, и вдруг – поворот, в стене дырка, и – на волю.
– И нечего вам на улице кричать! Хоть год кричать будете, а только никакой мальчик к вам не подойдет и ничего вам не скажет.