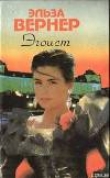Текст книги "Чистая сила"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
ГЛАВА ВТОРАЯ
1Во все это время, и потом, меня занимало множество вопросов, но главный среди них, тот, который хоть как-то присутствовал в каждом, это – зачем? Вопрос этот имел разные оттенки, смотря по тому, в какую минуту задавался, и по тому, в чью сторону был направлен – но по сути оставался однозначным: зачем происходит все это, что происходит? Вопрос, может быть, и наивный, даже дурацкий – может быть. Но он неотступно вертелся передо мной, и когда я закрывал глаза, чтобы его не видеть, он проникал под веки, и из черного, начертанного типографской краской, делался под веками оранжевого цвета, и – не растворялся, и не отступал. И я привык к нему и уже не прятался, но все равно, даже и привыкнув, я мучился им.
Вопрос все больше вертелся вокруг меня самого. Казалось бы понятно: если ты участвуешь в чем-то, то должен понимать, для чего ты это делаешь. Потому что, если не понимаешь и если не сознаешь, в чем участвуешь, то можешь и, скорее всего, будешь служить нечестному делу, нехорошему, злому, в конце концов. И если ты ввязываешься в дело, смысл которого и задачи тебе неизвестны, то желание участвовать есть, из романтизма ли, от нечего ли делать, или из другого чего… то тогда это может называться просто – авантюры. Авантюра же безнравственна уже сама по себе, от своего исходного, и никакие благие цели, а под нее подводят обычно благие цели, ее не оправдают.
Но есть еще одно положение: стечение обстоятельств. Сам порой не знаешь и не ведаешь, что в дело втянулся, а там – и бросить не можешь, и уйти, несет тебя, как будто сильным течением, и нет времени подумать: к какому берегу пристать? И только бы выплыть.
Все это так, и стечение обстоятельств вещь серьезная, но только и этим на вопрос не ответишь: зачем-то все так происходит? зачем-то эти обстоятельства так стекаются, а не иначе? И еще: зачем-то тебя этот вопрос мучает, и зачем-то ты на него ищешь ответ?
«Э-э, скажут, брось глупости! Такому вопросу ответа нет, и нечего голову ломать: все идет, как идет, все движется, как движется. Самому надобно знать – чего стоишь. А если будешь знать, то никакие обстоятельства тебя к плохому не собьют, и какая бы буря ни бушевала, какие бы волны тебя ни несли, все равно к нужному берегу пристанешь».
Оно верно – слов нет. А только хоть и закроешь глаза, хоть и отгонишь от себя все, хоть и станешь для забывчивости себе глупый мотив напевать, и приспособишься о приятном думать – все равно: зачем? Зачем?
Коробкин ждал меня в условленном месте, и весь его вид был таинственным. Он сидел на скамье, заложив ногу за ногу и широко разведя руки, держал разворот газеты и смотрел в разворот; главная же таинственность его вида заключалась в шляпе: она не была соломенной, но очень соломенного цвета, как бы все равно что соломенная; окантована широкой красной лентой, концы которой свисали с полей. Она мне напомнила матросский головной убор начала прошлого века, который я видел в каком-то, кажется, учебнике. Но на картинке в учебнике такие шляпы были лихо сдвинуты на затылок, тогда как Коробкин надвинул ее на глаза. Более нелепый головной убор трудно было придумать. Тем более, очень он уж был запоминающийся, а сейчас это было совсем ни к чему. Я хотел было заметить это Коробкину, но когда подошел и встретил серьезный, почти торжественный взгляд его голубых глаз, мне расхотелось делать ему замечание.
Он аккуратно сложил газету и подвинулся на скамье, освобождая место для меня. Я сел.
– Ну что? – сказал Коробкин, оставив газету на коленях и сложив руки на груди. – Будет?..
– Будет, – подтвердил я. – Сейчас пойдем.
– Я вот что хотел спросить, – после некоторого молчания проговорил он, осторожно берясь за шляпу и еще дальше надвигая ее на глаза. – Только ты правильно меня пойми, я не для чего-нибудь, а только чтобы знать: это опасно?
– Что опасно? – не понял я сразу, потому что все еще «не отошел» от разговора с Мириком.
– Нет, ты меня правильно пойми, я пришел… и готов, а спрашиваю только, чтобы знать.
– А-а, – сказал я и, обернувшись к нему и отметив предельную серьезность его настроя, решил, что лучше будет ответить в положительном смысле. – Возможно, – и я медленно наклонил голову, – хотя прямой опасности… может и не быть. Но возможно, что…
– Я понимаю, – быстро вставил Коробкин.
– Но возможно, – продолжал я, – если, – здесь я замялся, – обстоятельства сложатся, то есть стечение обстоятельств будет… располагать.
– Понимаю, – опять сказал он.
И здесь я пожалел, что пригласил Коробкина, и все это дело со страховкой внизу представилось мне очень уж несерьезным. Но что было делать: отступать было некуда. Да и не мог же я теперь так вдруг обмануть его ожидания.
Время уже подходило к назначенному часу, я сказал: «Пора», и мы отправились. Коробкин шел рядом, больше вопросов не задавал, но я видел боковым зрением, что он часто взглядывал на меня; легкий ветерок шевелил красные ленточки его шляпы.
Веранда и комната Никонова выходили на противоположную сторону от входа; мы обогнули корпус, прошли по узкой, с поломанным асфальтом и поросшей жесткой травой дорожке, и я указал Коробкину на ту часть веранды, где располагалась дверь Никонова. К самой дорожке подходил кустарник, окаймлявший довольно широкое пространство, засаженное низкими деревцами; и если наблюдать за верандой, то лучше было стоять где-нибудь меж близкими к кустарнику деревьями. Я сказал об этом Коробкину.
– Я посмотрю, – проговорил он, сделав четкий жест рукой, и, раздирая спутанные кусты, полез на ту сторону.
– Видно, – сообщил он мне, став у дерева. – Пятое окно справа?
– Да, кажется, – отвечал я, не будучи полностью уверен. – Я когда поднимусь, то с веранды укажу.
– Понял, – сказал он, направился ко мне и встал напротив; кусты разделяли нас.
– Я тебе подам знак, – сказал я, но, подумав, добавил: – Или сам смотри, по обстоятельствам.
– Понятно, – сказал он, но не очень уверенно.
Я кивнул ему и пошел по дорожке. У угла я обернулся: он смотрел мне вслед, наклонив голову набок, и ленточки вяло свисали с полей.
Поднявшись на веранду и посмотрев вниз, я не сразу заметил Коробкина; то есть я бы его вообще не заметил, если бы он сам не вышел на открытое место. На голове его не было шляпы, в руках – тоже. Он помахал мне, а я показал на дверь старика. Он сделал мне знак, что понял. Я постучал в дверь.
Я ошибся, полагая, что процедура открывания будет такая же, как и в прошлый раз: дверь раскрылась быстро и решительным движением. Никонов был в костюме «тройка», белой рубашке и галстуке в крупный горошек. Я невольно смутился, но, скорее, не такой перемене в нем, а своему такому неторжественному виду, тем более что он оглядел меня всего быстрым взглядом. Вообще в каждом его движении теперь была четкость и энергия, а сам он выглядел как хозяин какого-нибудь дипломатического приема.
– Ну-с, – сказал он, сведя ладони лодочкой, – будем считать, что началось.
Я стоял, ничего не отвечал и чувствовал себя неуютно. Чувствовал же я себя так потому, что неожиданному изменению внешности хозяина соответствовали изменения в комнате: кровать была аккуратно застелена покрывалом без единой морщинки, стол теперь стоял в центре и блестел отполированной поверхностью, на столе – ваза с фруктами: яблоками и персиками; все источники света были включены: люстра, бра на стене и ночник на тумбочке; у стола два стула, и еще два рядом у стены. Но самое главное, и это мне сразу бросилось в глаза, проем двери ванной комнаты был занавешен тяжелой портьерой – это и было, судя по всему, моим укрытием.
Он указал мне на стул у стола, сам сел напротив.
– Я знал, что вы придете. Я не ошибся, – проговорил он с наклонением головы. – А только, если помните, я еще просил о человеке, чтобы вы…
– Уже, – сказал я и повел рукой в сторону окон. – Внизу, под верандой.
– А-а, прекрасно, – он опять наклонил голову. – Тем более.
Он щелчком сбил невидимую пылинку с поверхности стола; при этом лицо его выразило озабоченность.
– Пыль, видите ли, как ни борешься… – обратился он ко мне. – Ну, да ладно. Значит, вы готовы. Очень хорошо! Да-да, очень. Тогда позвольте показать вам… место.
Он встал, подошел к портьере и осторожно отодвинул ее; она оказалась из двух половин, хотя издали это нельзя было заметить; собственно, и вблизи тоже. Там, где половины сходились, с тыльной стороны, они были скреплены бельевыми прищепками – двумя, примерно в десяти сантиметрах друг от друга. Он пояснил мне, что это для наблюдения, так как меж ними был незаметный просвет. Сразу за портьерой стоял на мягком коврике стул, а рядом, чуть сзади – табуретка, и на ней стакан с жидкостью оранжевого цвета; стакан прикрыт листком бумаги.
– Это если захочется пить, – отвечал он на мой недоуменный взгляд. – Ведь неизвестно, как долго… Апельсиновый сок, свежий, я туда и лед положил, – он потрогал стакан, – еще холодный. Надеюсь, вам здесь будет удобно. Только свет, конечно, придется погасить. А так… Думаю, будет удобно.
– Удобно, – подтвердил я. – Вполне. Моему приятелю на улице будет не так удобно.
– Да? – сказал он озабоченно. – Это может быть. Хотя, можно и ему… что-нибудь вынести. Я, право же, не знаю, но… может, персик?
– Нет, персика не надо.
– Так, может, воды. У меня есть бутылка воды. Правда, не охлажденная.
– Нет, и воды не надо. Ничего не надо. Это я так.
– Хорошо, хорошо, – он помахал рукой в знак согласия. – Вам виднее.
Несколько помявшись и потирая пальцы, он сказал:
– Вы бы… попробовали. Лучше сейчас примериться, чтобы потом… без затруднений. Вы садитесь, а я выключу свет и отойду к столу, а вы посмотрите, хорошо ли видно.
У меня не было желания «примеряться», и я всем своим видом это нежелание показывал. Хотя теперь, когда я пришел, а Коробкин стоял под верандой, выдерживать характер было довольно непоследовательно. Я сел на стул.
– Можно поближе подвинуть, – заботливо суетился возле меня старик, – чтобы не сгибаться, а то спина устанет.
«Уж помолчал бы», – досадливо сказал я себе, а вслух:
– Ничего. И так хорошо.
– Нет-нет, лучше все-таки придвинуть, – не унимался он. – Я здесь пробовал, но не учел ваш рост. И скрепки выше передвинем. Вот так. А стул не скрипит? Вы попробуйте.
Я попробовал.
– Вот видите, – обрадовался он, – можно будет и позу поменять. Только все-таки лучше бы осторожно. Сами понимаете – всякий звук… Теперь гасим свет, и я удаляюсь.
Он подошел к столу и сел на свой стул.
– Ну как – хорошо? – сказал он в мою сторону и пересел на другой стул. – А теперь?
– Видно, – отозвался я, едва заглянув в щель.
– А так? – сказал он опять.
Я снова приблизил лицо к щели, но не увидел старика, а только стол и стулья. Тогда я пальцем поддел портьеру, увеличивая угол обзора: старик стоял возле кровати, выставив перед собой ладонь и помахивая ею, как бы корректируя.
– Нет, нет, – сказал он, – руками нельзя, – заметно. Только не прикасаться. Только не прикасаться.
Он подошел ко мне, включил свет, одернул портьеру:
– Это ничего. И необязательно, чтобы туда видеть. Я постараюсь не вставать, чтобы все время находиться в поле вашего зрения. А если он что-нибудь… Но вы сами увидите, если что.
– А что – «что-нибудь»?
– Вы понимаете, – начал он осторожно. – Иначе я не утруждал бы вас.
– Он может напасть? – сказал я, упирая на «напасть».
– Не думаю, – отвечал он серьезно и как бы размышляя. – Но – не исключено. Это такой человек, что всего можно ожидать. Да – не исключено.
– А ценности у вас? – спросил я вдруг.
Он бросил на меня быстрый взгляд:
– Ценности? Ценности при мне. Они всегда при мне. А что вас заинтересовало?
– Я к тому, что он тоже может знать об этом.
– Не только может, – ответил он, четко выговаривая слова и чуть улыбнувшись, – но знает наверное. Потому что я не скрываю. Мне нечего скрывать. Это такая сила, которая… – но он перебил себя: – Это сейчас не важно. А все остальное вы сами поймете из разговора. Не хотелось бы вас предупреждать, но этот человек, он может говорить всякое. Он для того сюда и придет. Но, я думаю, вы сами разберетесь. Что же касается того, что он может, как вы выразились, «напасть», то думаю, что все же не посмеет. Хочу думать. Но – мало ли что. Но вообще: его задача не в том, чтобы самому взять, а в том, чтобы я сам отдал. К тому же…
Но здесь раздался стук в дверь: мы оба повернулись и замерли. Стук повторился.
– Он, – прошептал старик. – Все! Все! Он задернул портьеру и громко спросил:
– Кто там?
– Судьба, – прозвучало из-за двери. – Открывайте.
– Сейчас, – стараясь сказать громче, произнес Никонов где-то с середины комнаты, но потом его шаги быстро приблизились ко мне и свет в ванной погас. – Сейчас.
Я приник к щелке, но не мог видеть Никонова, а только слышал, как повернулся ключ в замке и дверь отворилась. Никонов прошел к своему стулу и сел боком ко мне, глядя в сторону двери. Потом я услышал, как дверь, по-видимому пущенная твердой рукой, захлопнулась с резким стуком, и в поле моего зрения оказался пришедший. Неожиданности не случилось – это был Ванокин.
2Он подошел к столу, помедлил некоторое время, нехорошо улыбаясь и в упор глядя на старика, и потом как-то вдруг с размаху сел. Одет он был причудливо: на голове синяя шапочка с длинным козырьком, полукуртка-полужилет, без рукавов, синяя же рубашка в крупную клетку, на шее – что-то вроде тесемок; только брюки и сандалии были прежние: брюки узкие, а сандалии размера на два больше; в руках он держал трость (такую, какие продают на курортах – резную), на конце которой был приделан кусочек кожи. Это была уже не трость, а был стек.
Усевшись напротив старика, он шапочку небрежно бросил на стол, а стек аккуратно положил рядом и стал медленно перекатывать его пальцами.
– Ну что ж, бесценный Владимир Федорович, – проговорил он, закидывая ногу за ногу и заводя руку за спинку стула. – Время расчета – посчитаемся?!
– Прошу вас вести себя прилично, – быстро сказал старик, впрочем, довольно сдержанно. – Иначе я не буду с вами говорить и вам придется уйти.
– Ну что вы, – протянул Ванокин. – Что за детские фантазии: и говорить вы будете, и уйти я никуда не уйду. Что за фантазии! И разве это в вашей воле? Нет, бесценный Владимир Федорович, я вас об аудиенции только из приличия известил, а разрешения не спрашивал. Я вам совсем не нужен для разговора, но вы, вы мне очень нужны, и не только для разговора. Если же вы будете благоразумны, на что я надеюсь, сочувствуя вашему нездоровью, то разговор наш может быть коротким. Подумайте, что здоровье – бесценный дар. И в ваших летах о нем следует заботиться особо.
– Оставьте мое здоровье в покое! – резко воскликнул старик.
– Вот именно, – так же развязно продолжил Ванокин, – об этом я и пекусь, о том, чтобы и вы и здоровье ваше оставались в покое. Потому и призываю вас проявить благоразумие.
– Что вы хотите?
– Как – разве вам это неизвестно?! Ну, вы даете, доложу вам.
– Говорите, что вы хотите от меня, или… уходите.
Последнее старик выговорил тяжело и прерывисто дыша.
– Как все-таки вам вредно нервничать в вашем возрасте, – проговорил Ванокин, качая головой. – Так и до беды недалеко. Но я и это предусмотрел. Вот – оцените!
При этих словах Ванокин полез в карман брюк и достал пузырек; судя по всему, это было «сердечное». Он поставил пузырек на стол перед собой и, вытянув указательный палец, стал его подталкивать к старику, как в игре, стараясь вести по прямой. Доведя до центра, меж собой и стариком, Ванокин отдернул палец и сказал:
– Вот.
– Я прошу вас говорить, – слабо сказал старик, намеренно не глядя на пузырек.
– Говорить? Будем и говорить. Только я вас хотел еще спросить: как это вы, при своем некрепком здоровье и зная, скажем, неблагоприятное к вам отношение с моей стороны, решились встретиться со мной один на один? Опрометчиво, не правда ли?
Он подождал ответа старика, но Никонов молчал, глядя в стол перед собой, и Ванокин продолжил:
– Впрочем, это только говорит о вашей смелости…
– Мне нечего бояться, – вдруг перебил его старик.
– Говорит о вашей смелости, – повторил Ванокин, словно не услышав слов старика. – Или, в чем я все-таки очень сомневаюсь, о чистой вашей душе.
– Я вас прошу! – старик коротко ударил кулаком по столу.
– Хорошо, хорошо, – Ванокин поднял руки перед собой, как бы прикрываясь ими. – Будем считать, что вступление окончено, – и уже другим тоном, жестким и деловым, он сказал: – Я пришел за своей долей.
– У меня нет вашей доли, – тоже жестко проговорил старик, сделав ударение на «вашей».
– Я беру у вас только часть, тогда как мог требовать все, – спокойно сказал Ванокин. – И вы знаете почему. Напомню вам, что по уговору с моей матерью все деньги, которые вы оставили у нее и из которых, замечу вам, даже в самые трудные дни она не взяла ни копейки, в случае вашей смерти оставались за ней.
– Я не оставлял никаких денег!
– Да, да, – согласился Ванокин, – денег вы не оставляли. Простите, я ошибся в определении. Денег вы и в самом деле не оставляли – вы оставили бриллианты. Но я назвал это деньгами только для удобства. И еще потому, что главное достоинство ваших камушков состоит в том, что их легко можно выразить в хрустящих или не очень хрустящих (но не в этом дело) бумажках различного достоинства. Достоинство, как видите, достоинства.
– Они не выражаются в бумажках.
– Да? Вы так считаете? – взявшись обеими руками за край стола, Ванокин перегнулся к старику. – Я это уже слышал: сила, и прочее. Но, – он опять откинулся на спинку стула, – не будем вдаваться в теоретические подробности – ни к чему. Да и бесполезно. Вы, я слышал, философ. Так вот – я совсем наоборот. Я – человек действия. Но не в этом дело. Продолжаю. Я сказал, что в случае вашей смерти. Так вот, я имею достоверное свидетельство этого самого случая.
Он расстегнул верхнюю пуговицу своей жилетной куртки, достал объемистый бумажник, раскрыв и порывшись в нем пальцами, вытянул сложенный вдвое листок, расправил его и, помахав листком в воздухе, протянул его старику:
– Вот оно – свидетельство. Достоверное.
Никонов взял листок в обе руки, долго смотрел в него, потом небрежно его бросил на стол и отодвинул ладонью.
– Можете даже уничтожить, – мягко проговорил Ванокин, – это, как видите, копия. Но есть и оригинал. Вот здесь, – он постучал по бумажнику. – Не сомневайтесь. И обратите внимание на число и шифр. Или – как это называется? – исходные, выходные… Так вот: по известному соглашению, при получении такого свидетельства (для времени войны – «похоронки»)…
– С этим не шутят, – перебил старик.
– А я и не шучу. Я только поясняю, чтобы вам понятнее было. Ну ладно, будем говорить – свидетельство. По получении свидетельства мать стала владелицей денег (простите, ценностей), а вы – вы перестали быть владельцем. И те жалкие гроши, которые вы посылали матери, – буду справедливым – ничего, понимаете вы, ничего не меняют.
– Дальше.
– Пока все. Но учтите, только пока!
Сказав это, Ванокин взял свой стек и легонько хлопнул кусочком кожи по столу.
– Моя мать была женщина простая, и вам легко было ее провести. И она отдала вам ценности, которые уже вам не принадлежали, а принадлежали ей.
– Но я ведь остался жив. Это была ошибка.
– Допускаю. Но примите во внимание вот что: с того самого дня, когда она получила извещение о вашей смерти, она стала полноправной владелицей и могла спокойно пустить ваши – то есть уже свои – ценности в оборот. Ваше же замечательное воскресение могло застать ценности – а прошло около года, если мне не изменяет память, – уже не в такой целости. Короче говоря, допустим, что она потратила половину. Вы допускаете, что такое могло случиться?
– Нет.
– Отчего же?
– Вам этого не понять. Но они не могли быть разменены. Это не то, что вы думаете, это неразменная… сила.
– Ах, вы опять! Сколько же можно: разменная – неразменная. Все это, советую вам, при себе держите. Это позиция другого, будем говорить, толка. Еще раз повторяю вам, что мать моя была женщина простая. И если бы даже она и хотела бы разменять, то не знала бы, как это делается. В отличие от вас, она за всю свою жизнь не имела дела с ювелирными изделиями.
– Она была лучше вас, – сказал старик, прямо устремив глаза на собеседника.
– Возможно, – тоже не отрывая взгляда от старика, отвечал Ванокин. – Далее определенно лучше. Но ведь и лучше вас. Я думаю, вы с этим спорить не будете? Повторяю, что она была простая женщина, а простым легче быть лучше. Знаете, меньше всяких соблазнов… умственных. Но только она же мне и рассказала обо всем. По простоте. Хотя и эти переводы денежные, загадочные, они тоже обращали внимание… Ну, ладно. Я остановился на том, что она имела полное право потратить часть и только случайно не потратила. Я же хочу, чтобы вы мне вернули мою долю: нашу с матерью, если хотите.
– У меня нет денег, – упрямо сказал старик.
– Это ничего. Я возьму и камушками. Хотя лучше бы деньгами, чтобы не возиться.
– У меня нет «камушков».
– Ну, хорошо. Испытывая собственное терпение, я поставлю вопрос в более близкой для вас… Мне нужна часть, так сказать, силы. Ну что – так вас устраивает?
– Нет.
– Ага, значит – нет?
– Нет.
– Хорошо, – он опять приподнял стек и хлопнул им по столу. – Хорошо, я другого от вас и не ожидал. Но – буду последовательным. Я хотел, чтобы мы поладили полюбовно, то есть без осложнений. Тем более – ваше состояние… Но – вы сами отказались и сами себе тем вредите. Что ж – я сделал все, что мог. Больше я ничего сделать для вас не в силах. Буду говорить по-другому. Но смотрите…
– Что вы имеете в виду! – сказал старик и всем телом подался назад.
– Не бойтесь. Пока – я подчеркиваю – я еще не буду применять, – здесь он хмыкнул, – силу. Физическую, разумеется. Мне бы не хотелось до этого доводить. Пока. У меня имеются многие доказательства. Они тоже кое-что стоят, тем более что я затратил на них много труда. Начину по порядку. Итак: жила-была женщина по имени Марина. В то примечательное время она была молодой и красивой. И с этой женщиной вы…
– Это знаете как называется! – перебил его старик.
– Конечно, знаю, – невозмутимо отвечал Ванокин, – это называется шантажом. Мне нечего притворяться, я называю вещи своими именами. Что поделаешь, если нет другого средства взять свое. Поймите это – свое! Продолжаю. У вас с этой женщиной случился роман. То есть это у вас был роман, а она любила вас искренне. И вот, в один прекрасный момент вы попадаете в трудное положение. В очень трудное положение. А в военное время положение это могло стоить вам жизни. Свободы уж во всяком случае. И тогда, как видно, руководствуясь высшими соображениями (полагаю, что и тогда вы любили о высоком помечтать), вы попросту предали свою любовницу…
– Не смейте! – выкрикнул старик и резко выкинул вперед руку.
Ванокин отшатнулся, хотя понятно, что старик достать бы его не смог.
– Вы что это, папаша? Нервишки гуляют? – произнес Ванокин со смешком, но внимательно следя за стариком. – Так и до беды недалеко.
– Не сметь! – глуше и уже не выкрикнул, а выдавил из себя старик.
– Вы на голос не берите, – зло сказал Ванокин. – А «сметь» или «не сметь» – это мне решать. А я – смею. И потом – что вам беспокоиться. Мы, кажется, одни! А я и без того все знаю. Впрочем, как и вы. Так что – секрета никакого. А если вам неприятно слушать, что я допускаю, то давайте покончим, как я вам и предлагал: отдавайте долю, и я ухожу.
– Ничего не получишь!
– Ах, вот вы как! Невежливо, нехорошо. А еще старый человек, философ.
Старик не отвечал, и, насколько я мог видеть, лицо его побледнело, а руки дрожали, хотя он и плотно прижимал ладони к столу.
– Ну ладно, хватит мелодрам. – Ванокин взял стек за оба конца и чуть согнул его. – Продолжим разговор. Но учтите, чтобы не возникало недоразумений: он для меня такой же приятный, как и для вас.
– Что вы от меня хотите? – еле слышно произнес старик; сказал он это едва шевеля губами, и я понял смысл сказанного, скорее, из ответа Ванокина:
– То, что я хочу, вам известно. Надоело повторять, ей-богу. Но я вижу, что ваш вопрос имеет иной смысл. Что ж – отвечу и на иной. И здесь хитрить не буду. Я стану мучить вас, пока не расколетесь. Хоть бы вы и богу душу отдали. Если и не получу, то хоть знать буду, что и вам не жить и что денежки ваши – тю-тю, ничейные. Думаете, я не знаю, что вы здесь замыслили! Думаете, не знаю, для кого приготовили! Только не будет этого. Во-первых, этот ваш достойный человек и сам побоится связываться, тем более что денежки-то ваши нечистые, а во-вторых, я не позволю. А в-третьих (я об этом еще вам расскажу подробно), на остальную долю (после моей) имеется законная наследница.
Старик поднял голову и, прищурившись, словно что-то рассматривая на лице Ванокина, смотрел на него.
– Не смотрите, не смотрите, я не оговорился и не придумал: не имею такой привычки. А только факты, факты, бесценный Владимир Федорович. Ваша дочь – вот кто наследница.
– Какая дочь?
– Ваша. Ваша. Плод любви. Ваша и преданной вами Марины.
– У меня не было дочери… ребенка.
– Не было? Нет – есть. А то, что при вас не было, так вам, наверное, не надо напоминать, что дети не сразу рождаются, что их еще девять месяцев носить надо.
– Да, – сказал старик, но не отвечая, а про себя, себе. Голова его была склонена набок, глаза полуприкрыты, одна рука неподвижно лежала на столе, а пальцы другой медленно перебирали по лацкану пиджака; лицо же его как будто потеряло всякое выражение.
Молчал и Ванокин. Жесткий его взгляд не то чтобы помягчел, но как бы лишился остроты.
Я сидел в своем укрытии и в наступившей тишине слышал собственное дыхание и еще как с длинными промежутками капала вода из крана: звук выходил глухой, но казалось, что его не могли не слышать в комнате. Спина моя затекла, но я не позволял себе шевелиться, а только время от времени пытался чуть расслабить мышцы.
Несколько раз с начала разговора я порывался встать, обнаружить себя и вмешаться. Но порывы эти только касались моего сознания и были недостаточно сильны. И дело не в том, что не чувствовал своего права, и не в том, что мне было стыдно обнаружиться – но в другом, особом, чего я выразить не умею. Наверное, это было все-таки что-то похожее на выбор, который я не смог сделать. Хотя как будто и выбирать мне ничего не надо было: я здесь сидел по просьбе старика, был на стороне старика, взялся, в конце концов, защищать старика; да и притом Ванокин был мне, только мягко выражаясь, неприятен, и неприятен не чем-то, не какою-то чертою, но всем своим существом: начиная от звука голоса и кончая этим нелепым кусочком кожи на резной палочке, изображавшей стек.
И все-таки, сидя за портьерой, чувствуя, как затекает спина и поясница, и повторяя про себя, что нужно встать, выйти и прекратить все это, я не только не вставал, но сколько возможно сдерживал дыхание и настороженно прислушивался к звуку редких капель за моей спиной.
– Ну что, так и будем сидеть? – прервал молчание Ванокин, коротко усмехнувшись одной стороной лица; но мне показалось, что щека его дернулась непроизвольно.
Старик не ответил, сидел в той же позе, но рука его, перебиравшая на лацкане, замерла.
– Я могу понять ваши чувства, бесценный Владимир Федорович. Что бы вы там ни думали обо мне, но я многое могу понять и многому посочувствовать. Я и сочувствую. Тем более в связи с таким знаменательным для вас открытием. Но я вам хотел напомнить, что наше с вами время все-таки уходит и не можем же мы здесь сидеть бесконечно. Что же касается вашей дочери…
– Все вы врете! – поднял голову старик и опять с прищуром и зло уставился на Ванокина; но я видел, что он смотрел не на него, а как бы сквозь.
– Нет, – спокойно, и даже с сожалением, отозвался Ванокин, – я не обманываю вас: все в точности так, как я сказал. Если же вам опять нужны доказательства, то у меня имеются письма вашей Марины, и я могу вам их представить.
– Откуда у вас письма?
– Откуда? Да все оттуда же – из дома, из моего то есть дома. Мать мне их и передала. Не надо вам было адреса нашего Марине сообщать. И зачем вам это понадобилось?! Тем более при такой вашей осторожности и… идее. Хотя кто же мог заранее знать! Никто ничего заранее знать о своей судьбе не может, – заключил он несколько поучающим тоном.
– Все неправда, – опять сказал старик.
– Ну, Владимир Федорович, с вами не соскучишься. Что вы все заладили: неправда да неправда. Моя карта – козырь, и без крапа, уверяю вас. Да вот, можете сами убедиться.
Ванокин достал из бумажника сложенный вчетверо листок:
– Вот, – протянул он листок старику, – одно из печальных писем. Копия, конечно.
Старик листка не принял, а когда Ванокин, чуть подождав, разжал пальцы и уронил листок на стол, старик резким движением отшвырнул его от себя. Сложенный вчетверо листок проехал по гладкой полировке стола и упал на коврик возле ног Ванокина. Тот проследил за падением взглядом, но не нагнулся поднять.
– Значит – так? – проговорил он с угрозой. – С вами, я вижу, по-хорошему не получается. Значит, грехи свои старые вы искупать не желаете и взывать к вашему благоразумию не имеет смысла. Хорошо, не будем взывать. Только я хотел вас вот о чем еще спросить (не по делу, а только чтобы убедиться): вам совсем не жаль Марину? Она ведь не в каком-то переносном, а в абсолютном прямом смысле от вас пострадала. И не просто вы ее бросили, но предали, а проще говоря, оклеветали. И не перед соседями или перед родными, а перед судебными инстанциями. И не ради какой-то идеи, а только чтобы себя спасти. Себя-то спасли, а душу погубили.
Губы старика дрогнули, в лице его теперь проявилась решимость; он сжал кулаки и выставил их далеко перед собой.
– А ты что здесь за праведник! – проговорил он как бы и не своим голосом и очень громко. – Откуда ты такой выискался, чтобы мою жизнь судить! Какое тебе дело до моей души! Долю получить хочешь?! Ничего не получишь! И нечего меня прошлым поучать! Я долгую жизнь прожил, всякое повидал, и ты такой для меня не новинка. Малолетним тебя еще у матери твоей, святой женщины, видел… – так вот ты в кого вырос! Что ты здесь мне твердишь про мою идею. Для тебя это звук пустой. Ты-то сам чем живешь? Деньги ему подавай. Да что ты в своем ничтожестве понимать можешь! Моя сила в такой сумме выражается, что тебе ни в одном твоем дурном сне не приснится. А я с силой этой рядом живу, но никогда – слышишь ты! – никогда это средством для жизни не считал. Я ее не умножил, но и на долю не уменьшил. Да кто ты такой есть, чтобы с этим ко мне приходить! Да если я тебе ее даже и покажу, перед самым носом твоим выставлю – разве у тебя смелости хватит взять?! Да что там говорить…