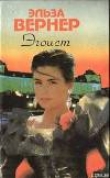Текст книги "Чистая сила"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
Андрей Ильич потупил глаза.
– Ну, какой я шахматист! – проговорил он, поведя головой в стороны; но, кажется, остался доволен рекомендацией.
– Не скромничайте, – сказал Алексей Михайлович и, обратясь ко мне, пояснил: – Андрей Ильич кандидат в мастера.
Думчев поднял на меня глаза, и я вежливо покачал головой.
– Так не будем сегодня играть? – сказал Думчев, опять выразительно на меня поглядев.
Взгляд этот стал мне неприятен, и я даже хотел что-то ответить, но Алексей Михайлович опередил меня:
– В другой раз, Андрей Ильич, в другой раз. Кстати, вот вам вопрос: что вы думаете о Ванокине?
– Это который? Попугай? – почти с важностью ответил Думчев, совсем не удивившись вопросу. – Что о нем говорить – прохвост.
– Однако, – заметил Алексей Михайлович, кажется, немного смущенный неожиданной оценкой. – Что это вы так резко, он если и… то, по-моему, безобидно. Кажется…
– Пусть вам не кажется, – в прежнем своем тоне проговорил Думчев. – Самый настоящий прохвост. Если не хуже. Он думает, что никто его не понимает. Но Думчева не проведешь!
– А что – не понимают?
– Многого. Я, правда, еще совсем не разобрался, но будьте уверены, – он со значением посмотрел на Алексея Михайловича.
Алексей Михайлович с тем же торжественным значением наклонил голову и, поведя рукой в мою сторону, сказал:
– Можете говорить свободно.
– Не сомневаюсь, – в свою очередь наклонил голову Думчев и продолжал: – Знаете, что та самая женщина, которая с этим Ванокиным… что она… Все знают, что они здесь познакомились. Но знаете ли вы, что они знакомы давно и что они здесь съехались, а вернее, что он ее вызвал?
Сказав это, он обвел нас снисходительным взглядом. Я, признаться, не понял, в чем здесь важность, но, глянув на Алексея Михайловича, увидел, что у него удивленно поднялись брови; на этот раз удивление было настоящим (так мне показалось, во всяком случае).
– Как это вызвал? – проговорил он озабоченно.
– А просто, – с победным смешком пояснил Думчев. – Телеграммой.
– Вы уверены?
– Точнее не бывает. Сам при этом присутствовал, хотя и инкогнито, – он сделал паузу, но, так как мы молчали, продолжил: – Сидел я возле почты. Предположим, что случайно. Вижу, Ванокин на почту зашел. Казалось бы – обычное дело. Но – вид! Вы бы видели его вид! Я как будто ничего не замечаю, сижу себе и газету раскрыл. Но, как можете понять, наблюдаю. Он один бланк исписал – отбросил, второй исписал – отбросил. Только с третьего раза сочинил. Пошел, отправил телеграмму и быстро так вышел. Как он ушел, я встал – и на почту. Он так спешил, что бланки испорченные на столе оставил. Я и заглянул. На одном бланке такой текст: «Срочно выезжай», а на другом еще интереснее: «Все решится днями. Выезжай немедленно». Но самое главное – вы следите – адрес корреспондента. И имя. А адрес такой: «Каргополь, Советская, 23, квартира 9». Но имя!.. – Думчев поднял палец. – Кто бы, вы думали, там значится?!
– Кто? – не выдержал Алексей Михайлович.
– А вот кто: Марта Эдуардовна Романевская.
– Марта?
– Она самая. Она через три дня после телеграммы и появилась. Вот тут-то он из себя волокиту и стал изображать, а она – следите – вроде и в дружеских с ним, но независимо.
– Да-а, – протянул Алексей Михайлович.
– Это еще что! Так, мелочи.
– А что – есть…
– Есть. – Думчев сложил руки на груди и склонил голову набок; так он просидел некоторое время, потом медленно поднял голову и внимательно осмотрел потолок. – Есть и еще, – и опять замолчал.
– Да говорите же, – нетерпеливо, легонько постучав по столу пальцем, воскликнул Алексей Михайлович.
– Есть и еще, – снова повторил Думчев, как бы не замечая нашего нетерпения; но наконец двинулся: – Еще я видел, как в одном секретном месте, за скалой у пляжа, Ванокин эту Марту свою очень даже, я бы выразился, ругал, только что не ударил. Но и это мог, потому что замахнулся. Я, к сожалению, слышать разговора не мог, но видел все подробно. Хоть и находился в воде. И достаточно не близко. А приблизиться не мог вследствие морского волнения. Да и рисковал быть обнаруженным. Но самое главное то, что Марта Эдуардовна – вы ее неприступность и гордый характер могли заметить – так вот, она хоть бы словом, хоть бы жестом ответила. Так нет; со страхом на него смотрела.
– Откуда же понятно, что со страхом, – сказал Алексей Михайлович. – Вы же далеко были.
– А по положению тела, – быстро ответил Думчев.
– Ну?
– А то, что со страхом. А это уже кое о чем говорит.
– Да о чем же?
– Если просто взять, как отдельный эпизод, то ни о чем. А если в свете некоторых фактов, то – о многом.
Он опять замолчал. Как видно, томить слушателей доставляло ему прямое удовольствие. Алексей Михайлович побарабанил пальцами по столу достаточно громко.
– Знаете вы здесь такого старика, Никонов – его фамилия? – медлительно заговорил Думчев. – Вы с ним сегодня, кажется, за обедом разговаривали.
– За завтраком, – поправил Алексей Михайлович.
– За завтраком, – поправился Думчев и хотел было снова замолчать, как Алексей Михайлович сказал:
– Да что же Никонов, говорите?
– А то Никонов, – похожим на роковой голосом произнес Думчев, – что он с ними в сговоре.
И он снова сделал паузу.
В первую минуту мы оторопели от такого сообщения. Поворот был явно неожиданным. Думчеву же последняя пауза удалась как нельзя лучше.
– А-а, – протянул Алексей Михайлович и тут же снова перешел на тон игривой заинтересованности, который, к слову сказать, совсем к нему не шел, – в сговоре, говорите? Да-а… Так, может быть, вы откроете нам, в чем, собственно, смысл…
– Суть пока не выявлена, – глубокомысленно отвечал Думчев, – информации для обобщения не достает. Но надеюсь, что на днях уже смогу…
– Так вы полагаете – это серьезно?
– Более чем, – отрезал Думчев и, сведя губы трубочкой, отвернулся с независимым видом.
Мы с Алексеем Михайловичем переглянулись, и Алексей Михайлович, незаметно от Думчева, приставил палец к губам.
– Любопытные вещи вы рассказываете, Андрей Ильич, – сказал он. – Мы здесь все шутками… а оказывается, что здесь – дело.
Думчев, как бы нехотя, повернулся к нам и сказал внушительно:
– Шутками, конечно, заниматься можно, и не возбраняется – я сам люблю пошутить. Но должен вам заметить, что эти тоже не так просты и умеют себя вести. Их поведение на том и построено, чтобы нелепостью главное прикрывать. Они и добились: вы шутите, другие шутят, а дело движется. Они умеют ловить.
Последняя фраза, кажется, вышла невпопад. Но Алексей Михайлович этого будто и не заметил.
– Да ведь не попались, – сказал он. – Вот вы.
– Опыт, – скромно заметил Думчев. – Опыт и логика.
Алексей Михайлович перестал спрашивать; в один только момент как будто приготовился уже спросить, но удержался и продолжал молчать. Так мы просидели некоторое время. Наконец Думчев поднялся, сказал, что пойдет готовиться к ужину, захватил шахматную доску и ушел. Алексей Михайлович его не удерживал, но вежливо проводил до двери.
– Ну, что скажешь? – обратился он ко мне, возвращаясь к столу.
– Что ж вы его еще о Никонове не спросили? – сказал я.
– А зачем? Он и так все расскажет. Сам придет рассказывать. Ты, наверное, понял, он из этих, детективов-любителей. Настоящие детективы начальству докладывают, а любители, будем говорить, – публике. Мы с тобой эта публика и есть. А то ему так неинтересно, все равно нужно же кому-то о своих подвигах… Он, это, на рыцаря без страха и упрека мало, как видишь, похож. А это, про Марту – это очень любопытно, знаешь. Кажется, и в самом деле все не так просто. Ну ладно – будем ждать.
Я было хотел продолжить разговор, но Алексей Михайлович как-то сник, отвечал неохотно и односложно. Я сказал, что пойду. Он кивнул.
2Вернувшись к себе, я, может быть, минут всего пять посидел в комнате. Сначала хотелось подумать обо всем этом в тишине, но – тишина была, а мыслей – ни одной: во всяком случае, сколько-нибудь продуктивных. Внезапная потеря интереса к разговору у Алексея Михайловича тоже меня озадачила. Но поспешных выводов делать не следовало. И я это себе сказал. Еще я подумал, что все равно во всем этом так сразу, с наскоку, не разобраться, и если есть что-либо по-настоящему серьезное (во что я еще недостаточно верю), то все должно проявиться само собой, и может быть, фраза Алексея Михайловича о том, что нужно подождать, сейчас наилучший выход.
Я достал чемодан, вытащил свои бумаги и разложил их на столе, рядом положил ручку. Отошел и посмотрел на стол с противоположной стены: представшая картина мне понравилась. Только вот стопка чистой бумаги была внушительной, а исписанной – совсем тонкая. Но даже эта тоненькая стопка радовала глаз. Я сказал себе: вот с сегодняшнего дня и начну. И буду писать каждый день – удача, как известно, в постоянстве. Труднее было другое – о чем писать. Но я знал, что лучше об этом сейчас не думать, чтобы не испортить приятного состояния духа, в который привел меня вид готовой к работе бумаги на столе. И о собственной готовности можно было сейчас и подождать думать.
Решив так, я вышел из комнаты, спустился вниз и направился в столовую. Но оказалось, что я пришел рано. Тогда я вспомнил, что за целых полтора дня еще не удосужился побывать у моря. И хотя особенной любви к этому огромному пространству воды я не испытывал никогда (много милее мне были маленькие, почти пересыхающие летом речушки нашей степной полосы), но уж раз приехал на море, то положено было увидеть и познакомиться с главным предметом.
Я спустился к набережной и сразу увидел его: оно было большим. Я облокотился на перила и стал смотреть вдаль. Вода в эту пору уже потеряла свою голубизну и была серой, с чуть заметным желтоватым оттенком. Только кое-где, играя под закатным солнцем, проявлялись и исчезали густые синие полосы. Так я простоял, глядя вдаль, не знаю уж сколько времени (наверное, совсем недолго), и вошло в меня странное ощущение – тоски и одинокости моей в мире: не наигранное и придуманное, не такое, как от потери чего-то близкого тебе, но как бы само по себе; само по себе и просто так. Я смотрел на море, и пространство рассеивало мой взгляд, и он уже сам стал, как море, – широкий и беспредметный. Что я здесь? Почему я здесь? Отчего я приехал отдыхать? И вообще – отчего приехал?
Так я стоял, спрашивая себя, и ничего ответить не мог. Много позже я понял, что большие пространства, те, что нельзя окинуть взглядом, всегда почему-то приводят в состояние безотчетной тоски. Именно безотчетной: мне некому было дать отчет, да и не знал – в чем, собственно.
Мне казалось тогда, что стоит только переменить место, как поменяются и обстоятельства, и, главное, что-то сдвинется с места, что-то сдвинется во мне, какая-то сила, уснувшая в привычности насиженного угла, пробудится вдруг, увидит, что слишком уж долго она пребывала в бездействии, выпростает накопленное, развернется во всю свою мощь и кинется со всего маху совершать чудесное и удивительное. Я думал о том, что Гоголь за этим же самым бежал в Италию, так сказочно непохожую на его родную Украину, как непохож сосуд тонкого фарфора – изделие знаменитого мастера – на глиняный толстый горшок, слепленный на глазах строгого покупателя деревенским гончаром в Сорочинцах. Но заморский дивный сосуд стоит на резной подставке красного дерева, и его не заполняют водой или молоком, разве что сухую, с причудливым изгибом ветку вставит в него изнеженная женская рука; а горшок висит вверх дном на колу кривого забора – неминуемая жертва озорников-мальчишек или разъезженной по весне ухабистой узкой дороги, бросающей из стороны в сторону скрипучую телегу возвращающегося от веселой компании местного весельчака и гуляки, который не смотрит за лошадью и во все горло распевает песни. Сухая ветка не прорастет в пустом сосуде. Но, может быть, глядя на нее, человек прорастет тоской, и губы его тронет забытый вкус парного молока, а в глазах его блеснет отблеск взгляда зардевшейся статной молодки, неотрывно следящей, как с каждым твоим глотком поднимается к синим небесам коричневое, как суглинок, дно щербатого глечика.
На юге сумерки внезапны: я и не заметил, как даль затуманилась ими – видно, я смотрел в другую даль.
Неспешно побрел я по набережной: то вглядываясь в лица проходящих, то глядя под ноги, то совсем никуда не глядя – шел себе, шел…
– Ну, наконец-то! – произнес голос у самого моего уха; я поднял глаза и увидел Ванокина. – А я думал – уже не придешь. Вдруг – явление! Посмотри, Марта, – лунатический человек.
Рядом с Ванокиным стояла та самая женщина, что спрашивала меня сегодня о времени и так внезапно удалилась.
– Ты что, от воздуха опьянел? – Ванокин дергал меня за рукав. – Посмотри, Марта, на этого элегического человека.
Я смотрел на Марту, которая не смотрела на меня и была явно рассеяна, потом перевел взгляд на колоннаду здания, оказавшегося «главным корпусом», потом на часы над колоннадой: стрелки показывали семь с четвертью. «Почти точен», – подумал я с сожалением.
– Вот, познакомься, – сказал Ванокин, не отпуская моего рукава, – мой новый друг, который лучше старых двух, – при этом он громко рассмеялся, кивая головой в мою сторону и приглашая свою спутницу последовать его примеру; но Марта оставалась холодна.
Я полупоклонился в сторону Марты (впрочем, чуть боком) и назвался.
– А время вы уже уяснили? – проговорила Марта, приподняв уголки губ (почему-то, но сразу и невольно, я вспомнил улыбку Ванокина – усы в стрелку – и взглянул на него; но лицо его не улыбалось, а изображало удивление).
– Что это за время? – сказал он, наконец выпустив мой рукав, но тут же ухватившись за расширенный книзу рукав голубой блузки Марты.
– А это наш секрет, – отвечала она.
– Как – уже секреты? – Ванокин дернул ее за рукав и строго посмотрел на меня.
– Секрет, я сказала, – отрезала Марта и быстрым движением высвободила рукав.
– Понятно… – начал было Ванокин, но вдруг, взмахнув рукой и резко продолжив ее движение куда-то за мою голову, прокричал:
– Мирик! Мирик! Мы здесь!
Я повернулся в ту сторону. Знакомый уже мне, солидной комплекции бородач неторопливо сходил со ступенек и был всего метрах в пяти от нас; рядом с ним легко шла молодая маленькая женщина, в которой я узнал ту самую Леночку из столовой. Она энергично помахала рукой и звонко воскликнула:
– Идите! Идите!
Бородач при этом медленно повел головой в нашу сторону. Ванокин вновь ухватил меня за рукав и потянул к бородачу:
– Вот, Мирик, я тебе говорил: Саша из наших.
Бородач неторопливо и внимательно меня оглядел: всего – думаю, что даже сумел определить размер моей обуви – и вдруг – этого я совсем не ожидал – по-детски мне улыбнулся, осторожно протянул ладонь (но почему-то тыльной стороной вверх; мне пришлось как бы подсунуть свою – тыльной вниз – под его руку).
– Мирослав Германович, – сказал он, продолжая улыбаться, и, чуть прикрывая веки, словно мое пожатие тронуло его особым теплом, добавил: – Очень приятно.
Потом, отведя плавно руку, представил мне Леночку, которая руки не подала, но коротко присела; Марте он поклонился вежливо, а Ванокина не заметил совсем.
Должен заметить, что «Мирик» – совсем не шло к его летам (я думаю, ему было немного за пятьдесят) и ко всей внушительности облика. Однако, когда после взаимных приветствий Леночка произнесла певуче: «Ну что – Мирик…», он, обведя всех нас внимательным взором, словно перечтя, ответил веско, солидно и как ни в чем не бывало: «Думаю – пора!» Проговорив это, он двинулся первый, жена за ним, потом – Марта, независимо и будто в стороне, потом – мы с Ванокиным, который не выпускал моего рукава, эта его привычка – хватать за рукав – очень меня раздражала. Но, во-первых, не одного меня он так ухватывал, во-вторых – не вырываться же ежеминутно!
Идя вслед за Мириком, мы вышли к самой отдаленной части парка, и, кажется, под последним фонарем у аллеи, у самой ограды (парк опоясывала каменная, сложенная как бы из валунов ограда высотой в человеческий рост, но не сплошная, а с живописно разбросанными то там, то здесь отверстиями) я увидел просторную беседку; в ней уже сидели.
– Это у них называется сиреневой беседкой, – прошептал мне Ванокин и, указывая глазами на сидевших внутри, добавил со смешком: – А это – члены.
Я оглянулся кругом, но не заметил ни одного куста сирени; впрочем, было темно.
«Члены», а их было четверо – двое мужчин и две женщины – вполголоса о чем-то говорили, но, заметив нас, умолкли все разом и, внимательно вглядываясь, ждали нашего приближения. Мирик вступил в беседку первым и, не поздоровавшись и как бы не замечая присутствующих, сел к нам лицом, и я сразу понял, что это центральное место. Леночка присела рядом, мы – Марта, я и Ванокин, сели с другой стороны, напротив «членов». Все замерли. Шевеления прекратились. Наступила тишина.
Четверо сидящих напротив нас ничем примечательным не отличались, но в продолжающемся молчании я стал их разглядывать. Первая пара – он и она – похожи друг на друга, если и не как брат и сестра, то, во всяком случае, как близкие родственники: оба маленькие, он – лысый совершенно и с веснушками, она – тоже с веснушками и редкими волосами, зачесанными на пробор; лицо не неприятное, потому что глаза были широко раскрыты, а в них – немного жалостливое удивление; его же лицо настолько сморщено, насколько была разглажена кожа на голове; обоим – лет, наверное, под пятьдесят.
Вторая пара: он – черноволос и худ, уши врастопырку, а на мочках значительный волосяной покров, она – полная, с круглым лоснящимся лицом, узко сдвинутыми глазами. Примерно так. Но я не мастер описывать внешность, тем более что было темно.
Все молчали, поглядывая на Мирика. Но и он молчал. Только Ванокин, толкнув меня локтем, прошептал: «Врачебная компания. Тот, что с толстой женой, кажется, по ногам, а лысый – зубной техник».
– Познакомьтесь, – наконец произнес Мирик, но при этом головы не повернул, а продолжал смотреть в пространство перед собой, то есть во входной проем.
Все, я и те четверо, что-то пробормотали приветственное с наклонением голов, имен я не разобрал. На этом предварительная процедура закончилась. Ее подытожил Мирик, произнеся: «Так!»
– Ну, что у нас сегодня? – бодро, словно получив разрешение, звонким голосом воскликнула Леночка, оглядела всех и улыбнулась; произнесла как хозяйка, приглашающая гостей приступить к еде, но не на званом ужине, а в дружеской компании; она хотела еще что-то добавить, но, взглянув на мужа, благоразумно поняла, что это будет лишним. Но улыбаться не перестала.
– Так! – повторил Мирик, но с большим значением. – Разумеется, все продумали вчерашний тезис, – и, слегка наклонив голову к «лысому», сказал: – Иван Егорович, напомните слушателям.
Иван Егорович несколько суетливо поднялся и, перебирая быстрыми движениями пальцы, начал:
– Да, да. Тезис, значит, такой… Вот, значит, так, что мы несовершенные, и поэтому работать не должны, потому что…
Но Мирик его строго перебил:
– Вы что, Иван Егорович, вы что – простую мысль изложить не можете.
– Затрудняюсь… это… – виновато пробормотал Иван Егорович.
– Затрудняетесь! Все переврали, – Мирик досадливо поморщился (жена лысого при этом испуганно взглянула на мужа), – вас послушать, так… Ведь в прошлый раз все объяснил.
– А что – хорошее дело, – громко вставил Ванокин и подмигнул Леночке, – несовершенны, так и работать не надо.
– Вы, Петя, всегда на это переводите, – укоризненно и с некоторой обидой сказала Леночка.
– А что – мне такой поворот очень даже… – не унимался Ванокин. – Работа – она совершенства требует.
– Да ну вас, – Леночка махнула на него рукой, но теперь не без кокетства.
– А разве не требует? – вдруг проговорила негромко Марта; все к ней обернулись. – Когда человек всю любовь отдает, а взамен слова получает – тогда как?
При этих словах все с удивлением посмотрели на… Мирика, только жена лысого смотрела на мужа.
– Мысль ваша, Марта Эдуардовна, видимо, интересная, – произнес терпеливо Мирик, – но должен вам заметить, что у нас другая тема.
– Ну и что, что другая, – с вызовом отвечала Марта, – а у меня одна эта.
– А что – поговорим! – провозгласил Ванокин. – Женские темы, они, может быть, самая соль. Полюбила я миленка, а миленок…
– Я прошу не устраивать балаган! – почти выкрикнул Мирик, но, сделав паузу, сказал спокойнее: – Мы здесь не для того собрались, а если кого не устраивает, то…
Он не договорил и снова стал смотреть перед собой.
– Да нет, я это… так, к слову только, – примирительно проговорил Ванокин и толкнул меня в бок. – Я – за!
Марта сидела прямо, не шевелясь, казалось, и не дышала. Я думал, что после слов Мирика она здесь не останется. Но она осталась. Это было странно, потому как не вязалось: ни с ней самой, ни с тоном, ни с настроением.
Помолчав с минуту, Мирик заговорил опять:
– Иван Егорович сформулировал неточно, потому скажу я. Вопрос был поставлен так: всякая серьезная деятельность (я имею в виду творческую и не ради хлеба насущного) невозможна до тех пор, пока человек не достигнет совершенства. Достижение совершенства – вот задача всякого мыслящего человека. Это понятно. Но заблуждения происходят от того, что считается: на каждом этапе совершенствования совершенствуется и деятельность, то есть они – совершенствование и деятельность – идут параллельно. Но в этом главная ошибка. Я думаю, Иван Егорович, вы теперь уяснили?
При этих словах он выкинул руку в сторону Ивана Егоровича, который торопливо кивнул несколько раз и опять принялся перебирать пальцы. Жена тронула его руку, и он, мгновенно перестав, поднял голову и быстро проговорил:
– Уяснил: идут параллельно.
– Вот и прекрасно, что уяснили, – сказал Мирик и повернулся к «черному». – Ну, а что вы скажете? Вы, Борис Ефимович, что-то молчите сегодня?
– Что ж, – Борис Ефимович, до того сидевший невидно, закинул ногу за ногу и обхватил колени руками. – Что ж, я с этим согласен, что параллельно. Но – пути? Мы забыли о путях. Деятельность – это понятно: если врач стремится стать Фрейдом, ученый – Эйнштейном, поэт – Пастернаком – это понятно. Но пути? Это если каждый начнет совершенствоваться по системе, то что же будет… с личностью? Как же с личностью быть? Никто не оспорит, я думаю, что всякий великий – личность.
– Нет, дорогой Борис Ефимович, здесь у вас ошибка, – Мирик снисходительно покачал головой. – Ошибка у вас.
– Да в чем же ошибка? – в тон ему проговорил Борис Ефимович.
– А в том ошибка, – неожиданно резко отвечал Мирик, – что путь совершенствования один. И не «пути», как вы выражаетесь. Это если каждый по своей дорожке идти станет, то неизвестно, куда забредет. Другой вопрос – по силам ли каждому? Отвечаю: каждому не по силам. Дело-то в том, что только личность о совершенствовании задумывается, только она. Что же касается параллельного хода деятельности и личного совершенствования, то, – он ткнул в сторону «лысого», потом в сторону «черного», при этом Борис Ефимович руки с колен снял, а Иван Егорович сначала стал перебирать пальцами, но потом скрепил себя с видимым усилием, – никакого параллельного хода быть не может, а есть один путь: сначала совершенствование, а потом деятельность.
– Да, сначала нужно самому устать, а уж потом… – вставила Леночка.
– А что потом? – вновь подмигнув Леночке, сказал Ванокин.
– А то! Будто сами не понимаете, – проговорила Леночка быстро и отвернулась.
– Я тоже не понимаю, – сказала со своего места Марта.
Мирик бросил на нее быстрый взгляд.
– А то, – заговорил он в пространство, – что пока человек не достигнет определенной степени (вам слово «совершенствование» не нравится, так я его «готовностью» заменяю), так вот: пока не достигнет определенной степени готовности, он не имеет права за серьезную деятельность приниматься. Повторяю, что разумею деятельность на пользу человечеству, а не ради хлеба… Заключаю: деятельность неподготовленного человека не может быть полезна. Она – вредна.
– А если предположить, что это и так, – сказал «черный», снова сцепив руки на коленях, – то все-таки: каковы же пути? То есть, по-вашему, путь?
– Скажу и об этом, не беспокойтесь, – бунтарские нотки в тоне «черного» были ему явно неприятны. – Путь один: примирить духовное с телесным.
– Хорошенькое дело! – как бы для себя, но достаточно громко проговорила Марта.
Но Мирик на возглас внимания обратить не захотел и продолжал так же рассудительно:
– Если называть это теорией, то она называется «Теория родства». Поясню. Считается, что главное для духовности – освободиться от плоти, от тела. Более того, считается, что плоть надо умерщвлять, мол, от этого духу только свободнее. Но тело сильно и живуче, и духу приходится вступать в борьбу. Общеизвестно, что тело почти всегда побеждает в этой борьбе. И вот вопрос: для чего духу тратить свои ценные силы на борьбу с собственным телом, если от него все равно до самой смерти не уйти? Вывод: с телом нужно войти в согласие, устранить противопоставление и тем самым погасить вражду.
– Так, значит, – да здравствует желудок! – не мог утерпеть Ванокин.
– Между прочим, здравствовать желудку тоже не мешает, – заметил Мирик. – Но это только к слову. И не надо так вульгарно, не надо крайностей! Я говорю о примирении тела и духа, как о примирении отцов и детей, потому что ведь духовное порождено телесным – мы материалисты. Так зачем же восставать на родителя, даже если родитель в чем-то и отстал от новых веяний. В древности говорили: «Чти». Не говорили: «люби» или «уважай», но – «чти». Поэтому путь простой: компромисс. Даже если и излишеств требует тело – дай ему, прости его несовершенство и собственно телесную суть: от себя оторвешь, но зато для своей духовной работы много сил сбережешь. Хотя, конечно, очень распускаться позволять нельзя. Этого требует, в конце концов, и гигиена тела. Вот и нужно тело в примерных таких рамках держать. Я думаю, медикам понятно. А вот аскетизм – тоже понятие широко распространенное и, к сожалению, еще не изжитое – вещь и вредная и безнравственная. Все равно, как если бы сын посадил отца на хлеб и воду, пусть даже и ради каких-то великих целей. Страдание еще хуже. Если там только тело страдает, то здесь еще и дух. Страдание, если хотите, – эгоизм духа. Страдая сам, он заставляет страдать и тело, то есть своего прямого родителя. Вот что я хотел сообщить. Вкратце, конечно.
Окончив свою речь, Мирик глубоко вздохнул и, сложив руки на груди, откинулся на спинку; Леночка потянулась заглянуть ему в глаза и тронула его колено рукой. Но он смотрел прямо, а колено осторожно отвел.
Все молчали, даже Ванокин. Я взглянул на Марту и встретил ее ответный взгляд. Он мне показался теплым.
И тогда я сказал:
– А кто их кормить будет – этого отца с сыном, – пока они свои дела улаживать будут и к пониманию приходить?
Все посмотрели на меня, и даже Иван Егорович расцепил пальцы.
– А минимум? – легко улыбнулся Мирик. – Минимум: немножко руками, немножко головой – вот и хлеб насущный.
– А вот, разрешите, такой вопрос, – пошевелился в своем углу «черный», – как с образованием дело обстоит? Положим, станет он, сын, готов к деятельности, а знаний маловато. Все примирением с отцом занимался: силы-то берег, но время-то упускал.
– Это, простите, наивно, – Мирик склонил голову набок. – Вот скажите нам, Борис Ефимович, вам с супругой по сколько лет?
Супруга «черного», слегка колыхнувшись в кресле, обратила к мужу строгий взгляд.
– Мне – сорок семь, а… – проговорил холодно Борис Ефимович, – а при чем здесь возраст?
– А при том, – предвкушающе улыбнулся Мирик, – что вы, как я помню, всего год назад стали такими вопросами задаваться. В шестнадцать лет не начнешь, да и в тридцать – еще маловероятно, в общем. Следовательно, вполне успеете изначальное образование получить.
Здесь Ванокин громко рассмеялся, кажется, без притворства на этот раз. Мирик строго к нему обернулся, но Ванокин не переставал.
– Ой, не могу, Мирик, – сквозь смех заговорил он. – Мне тут идея пришла… Не могу. Ты про возраст спросил, а мне идея пришла: а если в пятьдесят лет об этом совершенствовании думать начнешь, то отцу, получается, не меньше семидесяти. Так у него одни излишества: по поликлиникам бегать. Ему бы лежать, а он по поликлиникам – вот и все излишества, вся гигиена!
И он продолжал смеяться, но теперь не так натурально. Я опять посмотрел на Марту: она низко склонила голову.
Мирик не стал отвечать на выпад Ванокина, хмыкнув еще несколько раз, тот смолк сам.
Тут я не смог удержаться. Знал и чувствовал, что не нужно говорить, но… Если бы не Марта.
– Все, что вы говорили здесь – может быть и умно, – сказал я четко и не скрывая вызова, – но только все это – одни слова, потому что никто из вас не сказал: какая польза людям, что вы будете совершенствоваться, примиряться и – всякое другое. Это ваше дело – частное. Значит, пока вы будете примиряться, другие за вас работать будут, человечеству служить! Каждый волен дома на голове стоять, когда один. Но уже и при жене не очень постоишь…
– А при любовнице можно на голове? – произнес Ванокин и оглядел сидящих.
– А вы не суйтесь! – резко к нему обернувшись, почти выкрикнул я. Выражение моего лица было, как видно, таковым, что Ванокин не счел возможным продолжить. Он улыбнулся этой своей улыбкой и пожал плечами. Мирик сидел невозмутимо; Леночка – чуть приоткрыв рот; «черный» с любопытством меня разглядывал; на Марту я не смотрел.
– Вы здесь всё умно говорили, – повторил я, – только какая от вашего совершенствования польза? Если все начнут, по-вашему, совершенствованиями заниматься, то кто же работать станет? Потому что…
– Все не начнут, – негромко и невозмутимо произнес Мирик, словно и не перебивая меня, а как бы остановив.
– Что не начнут? – я потерял мысль и не сразу понял.
– Совершенствоваться все не начнут, – повторил он и, сделав паузу, которой я не успел воспользоваться, окончил: – Все не начнут по той простой причине, что они – все.
– Ах так! – я даже обрадовался. – Понятно теперь: это вы-то и есть – не все!
– Мы-то и есть.
– Значит – избранные?!
– Значит.
– А право у вас есть?! Есть у вас право! Оно у вас есть, чтобы за счет других жить?
– Ах, вот вы куда! – со скрытой угрозой проговорил Мирик, разделяя слова. – А у вас, молодой человек, права есть, чтобы здесь кричать? Мы вас не приглашали.
Мне нужно было встать и уйти. Я чувствовал, что могу ударить этого человека, схватить его за шиворот и так потрясти, чтобы из него все его теории с металлическим стуком посыпались, я был уверен, что они сыпались бы с металлическим стуком. Но я не встал и не ушел, потому что рядом со мной сидела она. И она не пошла бы за мной. Она бы даже и не знала, что можно пойти за мной.