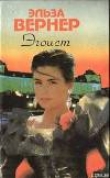Текст книги "Чистая сила"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
– А ну, уходите все отсюда! – крикнул я, взмахнув рукой, обращаясь ко всем, но глядя только на Думчева. – Убирайтесь все отсюда!
Ванокин вскочил со стула и шагнул в сторону (думаю, что не от слов моих, а от энергичных взмахиваний руками), но ничего не ответил, хотя весь был в напряжении, и не отрывал от меня взгляда. Зато Думчев, к которому, собственно, в наибольшей мере все это и было обращено (учитывая и движения руками), не замедлил с ответом. И хотя голос его, не скажу – дрожал, а скорее, вибрировал, в глазах не было и доли нерешительности или растерянности.
– Те-те-те, – подразнил он меня. – Все отсюда, все отсюда. А не желаете ли сами отсюда, молодой человек. Наемник! – вот что я вам скажу. И нечего, нечего – не запугаете! Ах, молодой человек, такой был тихонький, такой был паинька, такое уважение к старшим проявлял, что на любую выставку «пай-мальчиков» первым номером бы пошел. Без всяких разговоров – первым номером. Наемник! – опять воскликнул он и кивнул на меня головой Ванокину. – Еще нужно проверить, за сколько ваших камешков этот молодой человек подрядился. И этого нанял, матроса, как вспомогательную силу. Только мы не дадимся. Так ли? – и он подмигнул Ванокину. – Не дадимся мы, потому что «око за око», так сказать, а если рукой еще махать станете, то и «зуб за зуб». Ну, что скажете?! А! То-то же!
Последнее его восклицание было не совсем верное, потому что не его слова меня останавливали и не он сам. Хотя и «то-то же» было. Но вся слабость моего положения исходила из самого меня. Слабость же была в том, что я не мог идти до конца.
Чтобы победить, нужно знать и чувствовать наверное, что будешь и сможешь идти до конца. Что если замахнулся, то сможешь и ударить. Если даже не ударишь, то противник должен знать, что сможешь. Противник должен знать, а не чувствовать только, что за всяким твоим всплеском что-то стоит. И это «что-то» – уверенность, что будешь идти до конца. Вот этой-то уверенности во мне самом не было. И как мог чувствовать ее Думчев, если не чувствовал я. А ведь не чувствовал.
И дело было не в том, осознавал ли я свою правоту или нет, то есть не в том только было все дело. Если честно говорить, я тогда еще не мог разобраться. Да и голова шла кругом. Дело было в том, что я н и к а к о й уверенности в себе не ощущал вообще, безотносительно, то есть даже и тогда, если поставить меня вне людей и событий. Это была чистая неуверенность. Вот это и видели во мне. Вот это и видел в моих глазах Думчев, это самое и вызвало «то-то же».
Вот так я и стоял и не умел даже сохранить на своем лице те остатки гнева, который еще был внутри, хотя я проявлялся, а строго говоря, не проявлялся совсем слабо.
После некоторой паузы, небольшой и, как мне думается, для того только сделанной, чтобы все успели ощутить его надо мной победу, Думчев сказал, опять подмигнув Ванокину:
– Теперь самое время за хозяина браться. А, хозяин? Думаю, самое время. Как я понимаю, добровольной сдачи ценностей не предвидится. И хотя жаль, потому что я уверен – сдача все равно состоится и мы только тут теряем время, а хозяин – здоровье, следует перейти ко второму этапу. Предлагаю назвать этот второй этап: «Почти семейное дело». Итак, у вас, хозяин, есть дочь, о которой вы, как видно, и не подозревали. Но может быть, что и подозревали. Но – не в этом дело. Как бы там ни было, а дочь имеется, так сказать, в наличии. И жаждет вас увидеть. То есть жаждет увидеть того самого ее отца, который не только покинул мать и совершил в ее отношении действие, именуемое клеветой, а по-народному – наговором, но и оставил ее с грудным ребенком без средств, хотя имел – это подчеркиваю – крупную сумму денег, выраженную, по-видимому, в драгоценных камнях большой стоимости и в золотых изделиях, то есть из благородного металла. Вслушайтесь в это слово – «благородный». Это, так сказать, преамбула. Теперь хочу пояснить. Думаю, мне позволительно, – обратился он к Ванокину.
– Это дело не просто лично-семейное, – начал говорить Думчев как будто в раздражении. – Оно было бы таким, если бы не коробочка. Но она есть, и от этого никуда не деться. Вот этот человек, – он не указал теперь, а просто махнул в сторону Ванокина, даже не повернув головы, – он на нее имеет право сразу с двух сторон: со стороны своей матери, с которой у вас был уговор и которую вы так ловко обманули, и со стороны дочери – вашей дочери, конечно. Мы не взываем к вашей совести, понятно, что это напрасный труд. Что взывать, если вы даже от дочери родной отказываетесь. Единственное наше средство – гласность. Гласность – великое средство! Когда скрываемое выходит наружу, то как тайна обращается в ничто, – закончил Думчев афористически и замолчал, уйдя в очередную свою паузу.
Пауза продолжалась несколько секунд (не менее десяти), но никто в этот промежуток времени ничего не произнес, не издал никакого звука – не хмыкнул, не кашлянул и даже не пошевелился. Короче говоря, победа Думчева на этом этапе представлялась полной, и его лицо без малейшей доли скрытности или смущения отразило это, то есть радость.
– Итак – гласность! – начал он, широким жестом отводя руку. – И гласность широкая, разумеется, много шире, чем среди данного состава присутствующих. Я имею в виду всеобщую, так сказать, всеобъемлющую гласность.
Он опять сделал паузу, но на этот раз всего только секундную, как бы для того только, чтобы набрать побольше воздуха.
– И он жертвует! – провозгласил Думчев и, выкинув руку, зафиксировал ее на Ванокине; мне показалось, что Ванокин вздрогнул. – И он жертвует этими проклятыми ценностями, на которых если и не кровь, то грязь – застарелая и несмываемая. Пусть! Пусть! Ничего ему не надо. А только чтобы честь была спасена. Здесь замешана честь, честь женщины, то есть женская честь. Он от всего отказался ради чести, он уже многое претерпел, он жизнь свою, может быть, исковеркал. Но он защитник, а она оскорблена и – оскорбляема. Каждый – да! да! – каждый может считать ее…
Последнее он прокричал в восторге. То есть, если бы не смысл их слов, то можно было сказать, что в восторге. Впрочем, и несмотря на смысл, восторг все-таки присутствовал.
Кричал же он громко, почти во всю мощь, во всяком случае, чтобы успеть докричать и заглушить возможные возражения. Этот его крик был так внезапен и так внезапен был поворот мысли (или суждения, или игры), что никто из нас сразу не нашелся. И даже Ванокин. Он только смотрел на Думчева (тот указывал на него пальцем, но лицом был обращен к нам) и морщился, как при острой зубной боли.
Последующее произошло столь же внезапно.
– Молчать! – что было сил закричал Ванокин и, замахнувшись тростью, бросился на Думчева.
Думчев резво, словно мог ожидать нападения и приготовиться, забежал за стул и, когда трость Ванокина вот-вот должна была уже опуститься на его голову, ловко толкнул стул ногой. Ванокин споткнулся, трость описала в воздухе полукруг, и нападавший едва удержался на ногах.
В этот самый момент я бросился к ним со своей стороны, а Коробкин – со своей. Но я не успел добежать. Я резко остановился на полдороге. Я видел, что Коробкин тоже остановился, сделав, быть может, только два шага.
Дверь была распахнута настежь, а на пороге стояла Марта.
5– Марта! – воскликнул я невольно, сам по себе, потому что это и не к ней было обращено, и не для того, чтобы остановить схватившихся.
Понятно, что я был поражен ее неожиданным появлением. И хотя разговор все время шел вокруг нее, первое сообщение Думчева, что она должна прийти сюда и придет, как-то забылось, а вернее, было заслонено всеми последовавшими за тем событиями. И потом, кроме первого раза, имя ее больше не упоминалось, а говорили «дочь». Но вот она появилась, сама, Марта, «дочь», стояла на пороге и смотрела на Ванокина – смотрела и молчала.
Воспользовавшись таким оборотом событий, Думчев тихо-тихо боком отошел и встал за другой стул. Но Ванокину было теперь не до него: он, неотрывно глядя на Марту, поднял упавший стул, отошел к столу, но не сел, а только легко оперся рукой об угол.
– Как ты здесь? – сказал он отрывисто.
Марта не ответила и оторвала от него взгляд: повела его в стороны, на каждом из присутствующих секундно останавливая его. Лицо ее, кажется, было бледным (при ярком электрическом свете это всегда трудно определить), но не только не взволнованным, но даже и не тревожным. Она, Марта, была как бы не в себе, словно сразу после тяжелой и затяжной болезни, когда потеряно много сил, а выздоровление еще не осознано. То есть ее взгляд и выражение лица можно было бы назвать наивными (нет, не то чтобы непонимающими, но наивными). Нельзя сказать так же, что взгляд ее «блуждал», нет, она узнавала всех, но все без интереса. Наконец взгляд ее остановился на старике: она рассматривала его; она даже склонила голову набок, чтобы лучше рассмотреть.
– Почему ты здесь?! Тебе здесь не место. Уходи, – опять столь же отрывисто, но теперь с очевидно властными нотками, проговорил Ванокин.
Но она словно не слышала, да, может быть, и не слышала, она смотрела на старика, и на лице ее – еще постепенно и едва уловимо – проявилась какая-то мысль, которую она сама как бы не могла в себе оформить.
– Вот и… – начал было Думчев, вполне уже придя в себя и осанисто расправляя плечи.
Но он осекся, потому что в этот самый момент Марта сказала тихо:
– Мне сказали, что вы можете быть моим отцом. Это правда?
– Нет, Вы кто? – проговорил старик, тревожно оглядываясь на нас и не глядя на говорившую. – Я болен. И мне нельзя… И покой…
– Значит, они меня обманули? – так же тихо и ровно сказала Марта и добавила, но уже как бы только для себя самой: – Я так и думала.
– Марта, тебе не место… ты иди, – проговорил Ванокин, уже не властно, а скорее просительно; он сделал к ней шаг, но остановился, не отрывая руки от края стола.
– По-зволь-те! – воскликнул Думчев, и хотя разделил первое слово, потом заговорил торопливо: – Как это – «не место»? Как это?! Для Марты Эдуардовны это самое место и есть. И вас, Марта Эдуардовна, никто, никто ни на вот столько, – он показал краешек мизинца, ограниченный большим пальцем, – не обманывал. Все истина, чистейшая и святая истина! И вот этот благородный старик, к которому вы только что так робко обратились, он и есть ваш родной отец, а не только, как вы выразились, может им стать.
– Да замолчите вы, наконец! – крикнул ему Ванокин, больше с досадой, чем грозно, и, обойдя меня (а я стоял все там же, где и застал меня приход Марты, то есть между ею и Ванокиным), подошел к Марте, взял ее за руку. – Пойдем. Тебе здесь не надо, пойдем.
Он, правда, не тянул ее, но руку держал крепко и говорил горячо: она руки не отнимала, но с места не двигалась и все смотрела на старика.
– Петр, – сказала она, – это он? Ты мне скажешь? Это тот человек?
– Марта! Я прошу тебя! – не отвечая ей, заговорил Ванокин. – Пойдем, Марта, тебе здесь не место. Пойдем, я тебе все объясню. Слышишь?!
Но она не слышала:
– Это он?
– Он, он, он самый и есть, – подтвердил Думчев, в возбуждении переминаясь с ноги на ногу, но не решаясь выйти из-за стула. – Вне всякого сомнения, Марта Эдуардовна, вне всякого сомнения.
– Я тебе потом все объясню, – потянул ее за руку Ванокин.
– Не верьте! Не верьте, ничего он не объяснит, – прокричал Думчев. – Он это, он – ваш единокровный папа!
Я взглянул на старика: он беспокойно оглядывался и беспрестанно трогал руками грудь.
Ванокин с силой потянул Марту к двери, но она резко выдернула руку:
– Оставь меня, – сквозь зубы выговорила она, тряхнув рукой. – Оставь!
Ванокин отпустил ее и стоял теперь, глядя на нас исподлобья и сжимая трость обеими руками.
Марта помедлила, словно раздумывая, подняла глаза и, подойдя ко мне, встала вплотную.
– Извините меня, – сказала она, и я теперь увидел на ее лице растерянность и тревогу. – Я ничего не понимаю… здесь. Так много… Вы говорили тогда, что хотите мне помочь. Я прошу вас мне помочь. Вы можете мне сказать откровенно, как есть?
Я утвердительно кивнул.
– Спасибо, – продолжала она. – Помните, я тогда вам сама рассказала про все. Я не хотела тогда… И я вас тогда обидела. Но я прошу вас сказать мне. Я вас очень прошу. Как вы скажете, так и… будет. Скажите, это правда, что он… что они говорят?
Что я мог ей ответить? Если бы я знал. Но я сам толком ничего не понимал. То есть я стал догадываться, что их уловка не совсем уж такая уловка и что в ней есть… Но разве я мог знать наверное?! А ведь она просила сказать. Я чувствовал, что эта минута для меня сейчас может быть решающая, потому что о н а меня сейчас с а м а п р о с и т. Просит о том, что я сам ей хотел дать и чего она от меня не хотела принять тогда. А сейчас…
Я понимал, что мне нужно ей ответить, что нужно ответить и помочь ей, что в моем ответе должно быть в с е и что это в с е должно быть такое… Но я не знал, что должен выразить мой ответ, а знал только, что должен выразить в с е. Но какое это «все»? И что это вообще такое – в с е?
– Почему вы молчите? – проговорила она чуть слышно, едва пошевелив губами.
– Ну же! Ну же! – подбодрил меня Думчев.
– Вы не хотите ответить? – голос Марты прозвучал теперь ровно, и в нем не было тревоги, но уже что-то похожее на вызов.
– Я не знаю, – сказал я.
– Вот так так! – прокричал Думчев. – Вот он – роковой ответ! Вот он, вселенский ответ человеческий – «не знаю».
– А я думала, вы скажете, – проговорила Марта.
– Но я не знаю, – сказал я горячо. – Я в самом деле не знаю. Я бы вам сказал. Но я не знаю. Понимаете вы, я не знаю, я сам здесь… случайно.
– Ну да, – подал голос Ванокин; Марта резко обернулась к нему. – А за занавеской кто прятался? Или ты тоже туда «случайно» попал? Дверь перепутал?
– Какая занавеска? Что ты говоришь? – сказала Марта.
– А то, – Ванокин усмехнулся длинной усмешкой. – А то и говорю, что я целый час здесь беседовал, а твой… друг вон там, – он ткнул пальцем, – в ванной, вот за этой занавеской на стульчике сидел. И стульчик-то загодя приготовил «случайно». Сидел на стульчике и в дырочку подглядывал, пока я его оттуда за шиворот не вытянул.
– Так и надо шпионов – за шиворот! – вставил Думчев радостно. – За шиворот, и в собственное же… тыкать, тыкать носом.
– Ну вы, дядя, полегче, – вступился Коробкин. – Вас первого, положим… это… тыкать.
– Вас прошу не встревать! Матрос! – отпарировал Думчев.
– Это кто «матрос»?! – шагнул к нему Коробкин.
– Но-но, уже видали! – запальчиво крикнул Думчев и, передвинув стул, прикрылся им.
Во все время этой вдруг вспыхнувшей перепалки Ванокин улыбался длинной своей улыбкой и похлопывал тростью по ладони; Марта переводила взгляд то на Думчева, то на Коробкина, то на меня, и выражение лица ее сделалось испуганным и непонимающим, то есть неизвестно чего было больше – непонимания или испуга.
Уверенная запальчивость Думчева не остановила Коробкина: со злым лицом он подошел к стулу, за которым укрывался Думчев, взялся за спинку и с силой рванул стул на себя; сказал ровным тоном, но с несомненной угрозой:
– Это кто это «матрос»?
– Кто? – быстро, в свою очередь, спросил Думчев, отступив на шаг.
– А то! – надвинулся на него Коробкин.
Но столкновения, казалось теперь неминуемого, опять не произошло. Думчев в своем таком безвыходном положении предпринял неожиданный маневр. Он вдруг присел, выкинул руку перед собой и, указывая пальцем в сторону кровати, то есть за наши спины, прокричал:
– Вот он! Держи его! Прячет!
Крик был так внезапен, что сперва никто не повернулся в указанном направлении, но все уставились на присевшего Думчева. Дело в том, что присутствие старика здесь, в комнате, как-то вылетело из головы и сам он как-то забылся (это «забывание» случалось за все время не менее двух раз, но теперь особенное). Секунды две-три все смотрели только на Думчева (надо же было и сообразить), а потом разом (я подчеркиваю, что все разом) обернулись к старику.
Но старика не было на кровати, и я не сразу понял, куда он мог скрыться. Только присмотревшись, я заметил его голову за дальней спинкой. То ли он сидел там на корточках, то ли стоял на коленях; глаза его находились на уровне спинки, и он неподвижно смотрел на нас.
– Вот он, вот он каков, благородный старик! – выпрямляясь, восклицал Думчев, не забыв при этом осторожным движением и как бы машинально потянуть «защитный» стул к себе. – Пока мы тут разбирались, он времени не терял. Хорош! А еще здоровьем слабый! Вот она, коробочка-то ваша, в тайник уплыла. Даешь коробочку!
Старик с усилием, и это было видно, поднялся и обогнул кровать, не спуская с нас взгляда, оперся рукой о стол и тихо, но внятно и твердо проговорил:
– Не подходить!
– А! Что я говорил! Что я говорил! – всплеснулся Думчев. – Перепрятал, а теперь – «не подходить». Не выйдет. А ну-ка, подходи все! А ну-ка!
Но никто не сдвинулся с места; и сам Думчев тоже, хотя совершал, стоя за своим стулом, призывные движения руками.
– Ну что – довольны? – сказал старику Ванокин и с силой хлопнул тростью по ладони. Мне показалось, что он намеренно хотел сделать себе больно.
– Петр! – тихо сказала Марта. – Что это?
– Что это? – раздраженно обернулся Ванокин. – Ты хочешь знать – что это? Ты для того сюда и явилась, в это «общество»? В это наше общество любви и согласия.
– И надежды, – вставил Думчев. – Надежду забыли.
– Хорошо, я тебе объясню, – продолжил Ванокин. – Если ты так жаждешь, то я тебе объясню. Вот этот вот человек, – он нервически ткнул несколько раз пальцем в сторону старика, – тот самый, о котором я тебе так много говорил. Тот, за которым я столько гонялся. Это – твой любезный папа. Да-да, и не надо делать лицо – он самый и есть. Можешь подойти и потрогать его руками. Ты подойди, подойди, – он легонько подтолкнул ее в спину. – Подойди и представься. И познакомься. Надо же когда-нибудь познакомиться.
– Петр! – сказала Марта.
– Что, Петр?! Сама хотела, теперь уж иди до конца. Скажи, что ты его дочь, напомни, что твою мать звали Мариной, он по старости лет мог и позабыть. А как познакомитесь, то ты его по-родственному попроси, чтобы он несколько камешков тебе отсчитал, хоть бы и на приданое. Должно же быть у тебя приданое при таком богатом папаше.
– Коробочку просите, Марта Эдуардовна, – не унимался Думчев. – Пусть коробочку покажет.
– Ну, вы… – оборвал его Коробкин, – вам-то что до этого? Вы-то чего суетитесь?
– Вам я отвечать не намерен, – отрезал Думчев.
– А я вот как сейчас за шиворот тряхну, так станешь «намерен», – отпарировал Коробкин.
– Вы бы, молодой человек, – несколько сбавив в тоне, сказал Думчев, – при вашем возрасте могли бы принять во внимание мои седины.
Упоминание о «сединах» при абсолютно лысой голове Думчева прозвучало комично. Даже сам Думчев, кажется, понял свою оплошность и, вытащив платок, обтер им голову. Но Коробкин за «седины» не ухватился, а только усмехнулся презрительно и языком издал звук, как если бы плюнул. Словесная перепалка на этом закончилась, тем более что Марта сказала старику:
– Это правда, что он здесь сказал?
Она подошла к столу и стала у противоположной от старика стороны.
– Я не знаю, что здесь говорят, – после некоторого молчания произнес старик. – Здесь много уже наговорили… и наделали. Вас, по-видимому, ввели в заблуждение относительно… Суммируя все, что здесь происходило, могу заявить, что все это не одно только недоразумение, простите, но намеренный, как я уже сказал, шантаж.
– Подождите, подождите. Что это вы так распушились? «Недоразумение», «шантаж»! – вступился Ванокин, подходя к Марте. – Ты хотела выяснить? Будем выяснять. Пусть он прямо ответит: жил он с женщиной, которую звали Марина Романевская? Пусть для начала на это ответит, а то: «мы с вами, к сожалению, не родственники».
– Еще неизвестно, к чьему сожалению, – проговорил Думчев.
– Ну так отвечайте: жили ли вы в войну, а точнее, в сорок втором году, с женщиной, которую звали Марина Романевская? – настаивал Ванокин.
– Почему я должен отвечать? – отрывисто произнес старик.
– Ага! Слышала, Марта, он не хочет. Ты понимаешь?
– Вы знали мою мать? – проговорила Марта.
– И не только знал… – начал Ванокин, но Марта его перебила:
– Подожди, Петр, – сказала она и, обратившись к старику, повторила: – Вы знали мою мать? Ее звали Мариной.
Старик коротко взглянул на меня, потрогал рукой грудь, так, словно что-то лежало под рубашкой, а он удостоверялся, что лежащее там цело; потом повел головой в сторону, только скользнув взглядом по Марте, и опустил глаза.
– Да, я не отрицаю, – медленно выговаривая слова, сказал он, – что был знаком с женщиной, носившей это имя.
– И фамилию, – сказал Ванокин.
– Да, если хотите, и фамилию. Но что из этого выходит и о чем это говорит? Я знал в своей жизни много людей, среди них и… женщин.
– Наконец-то, – облегченно вздохнул Ванокин. – Наконец-то признался. Слышишь, Марта, – он тронул ее за плечо, – он знал твою мать. Это он. Он.
– Аплодирую, – прокричал Думчев. – Рукоплещу благородству и смелости. Смелости и благородству.
– Почему этот человек вмешивается? – повернулась Марта к Ванокину.
– От нечего делать, – пожевав губами, ответил Ванокин. – Не обращай внимания.
– И не обращайте внимания, любезная Марта Эдуардовна, – благодушно отозвался Думчев. – Не вмешиваюсь. Поверьте, что в мыслях этого не имел. А только от умиления, от одного только умиления, что присутствовать пришлось при столь знаменательной встрече.
– Вот видишь, – сказал Ванокин, – только от умиления. Так что признаете теперь, что это ваша дочь? – обратился он к старику.
– Мне нечего признавать, – быстро ответил старик.
– То есть как это нечего, когда вы уже признались сами и вот дочь ваша перед вами стоит. Не надо было говорить, что знали Марину Романевскую. Но теперь уже поздно отказываться.
– Как это поздно?! – вскричал старик так, словно все дело было в том, что «поздно». – Я ни от чего и не отказываюсь, хотя мог бы и не говорить – это мое дело, личное, одного меня касающееся.
– Что значит «одного меня»? Не одного. Если хотите знать, то и меня касается, но прежде всего – вот ее.
– Подожди, Петр, – попыталась остановить его Марта.
– Нет, – явно горячась, ответил Ванокин, – теперь ты обожди. Пусть он скажет. Пусть ответит. Он всю жизнь жил в свое удовольствие, на коробочку свою любовался.
– Я не любовался! – воскликнул старик.
– Нет, любовался. И еще как любовался, – опять сжимая в руках трость, проговорил Ванокин. – Не трогал из коробочки – это я понимаю и допускаю. Уверен даже, что ни одного камешка не тронул. А не трогал потому, что любовался. Целостью и любовался. Или как этот сейчас сказал, – не поворачивая головы, он указал тростью за спину, – умилялся. Идее своей и умилялся. Тому и умилялся, что ни одного камешка не тронул. А что из того? Как в игрушки играл. Нечем было жить другим, так из себя «хранителя» сделал. Куда как приятно сознавать, что ты все это сохранил. Куда как приятно. Только ведь свое хранил и тому умилялся, что с в о е г о не тронул. Что ж, благородно, – Ванокин обвел всех нас взглядом. – Благородно, говорю я, слышите, – благородно! Только здесь есть одно маленькое «но». Совсем маленькое, можно и не замечать. Но оно есть, никуда его не денешь, а оно-то все и переворачивает. Все благородство и поворачивает. Положим, что не брал, что хранил, что хлебом черствым питался, а не взял. Так. Так! – и спорить нечего, сильно. Но только ведь знал, что, случись какая-нибудь особая роковая минута, крайняя минута, самая-самая крайняя, и… А коробочка-то у тебя под рукой. Вот она, только резинку сдерни.
– Петр! Я прошу тебя. – Марта взяла его руку.
Но Ванокин резко отстранился:
– Пусти. Я свое должен теперь сказать. Мне не деньги его нужны. Не нужны мне теперь его деньги.
– Роковой поворот! – воскликнул Думчев.
– Цыц! – оборвал его Ванокин, и Думчев осекся и сделал движение, как бы отодвигаясь, словно Ванокин подошел к нему вплотную, хотя их разделяло не менее пяти шагов.
– А вы как думали?! Вы-то все что думали?! – громко сказал Ванокин, обращаясь уже ко всем. – Думали, что, кроме мечты об этих паршивых камушках, во мне ничего нет. Вот она, одна она, – указал он на Марту, – верила, что во мне еще и другое есть. Да и то – недолго верила. Да и то усомнилась. А теперь я вижу. Я теперь на него посмотрел и вижу – себя самого.
– Не надо, Петр. – Марта опять взяла его руку; на этот раз он руки своей не вырвал.
– Вот и хорошо, – сказал он, – вот и договорились. До самого главного и договорились. Но не совсем. Не совсем. Я теперь все скажу.
– У вас было время, – неожиданно прервал его старик, не поднимая глаз.
– Время? Да, это вы верно заметили: время было. Много было времени. Но только не то это было время. Та самая нужная минута еще не наступала. Теперь наступила. Вот она теперь, передо мной, – заговорил Ванокин в каком-то исступлении. – Я много сказал всякого и делал много всякого. Да только все не то говорил и все не то делал. А теперь все сказать должен. Потому что если не скажу и упущу эту минуту…