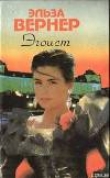Текст книги "Чистая сила"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
Мысль эта показалась мне остроумной. Но тут же я подумал: «А не издевается ли он надо мной?» Хотя лицо его было серьезным.
– Так получается, что актер уже и есть безнравственный человек? – сказал я, чуть только улыбкой скрашивая серьезность, которая невольно во мне проявилась (я ее стыдился – своей серьезности, потому что все-таки не очень мог доверять Ванокину: не может быть, чтобы такой – говорил совершенно серьезно).
– Получается, что так, – отвечал он. – И чем сильнее актер, тем он безнравственнее. Хотя и поневоле. Вследствие, так сказать, специфики профессиональной.
– Значит, и писатель – он тоже… – воскликнул я, не сумев сдержаться.
Здесь он поднял руку, и я подумал, что он опять сделает свой жест отделения пространства, но он осторожно дотянул ее до затылка и чуть к нему прикоснулся.
– Не думал, – проговорил он. – Честно говоря, не думал. Но… – он прищурил глаза, – если поразмыслить, то… если поразмыслить… Нет – с писателем другое. Он ведь не воплощается, он со стороны видит. А это – другое. Хотя и сам может быть подлецом, но это уже не от искусства.
Но здесь главное возражение его рассуждению у меня прояснилось. Я ему обрадовался и решил высказать без подготовки. Впрочем, я уже был втянут в беседу и стал понемногу горячиться.
– Значит, все правильно, и в жизни нельзя быть артистом. Значит, если вы допускаете, что можете быть артистом, то и допускаете, что можете быть безнравственным, – выговорил я поспешно (замечу, что «ты» я так и не смог ему говорить, хотя его «ты» принял, поневоле).
– Можно, – в тон мне и тоже быстро сказал он. – Артистом быть можно. Ты же здесь сказал не про актера. Ты его формально с одной сцены на другую перенес. Но я же сказал: жизнь не сцена. И я настаиваю на этом.
– Да какая же разница: актер, артист. Только в словах.
– Не только в словах, – заметил он строго, – но и по самой сути.
– Ну, так можно все передернуть, – проговорил я чуть ли не с обидой, сам не знаю, откуда и обида-то взялась тут.
– Передернуть можно. Только неизвестно, кто из нас больше передергивает, – он тоже заметно стал горячиться. – И какой мне смысл передергивать. Тоже мне – слово нашел. Писатель! Думать надо больше! И выбирать…
– А мне выбирать нечего, я не навязывался.
– Выходит, это я навязываюсь. Да сто лет мне нужно…
Но он не докончил. Он все-таки сумел себя удержать. Но я встал. Теперь я уж непременно должен был уйти. Я и сделал шаг уже (все-таки не пошел сразу, а сначала шаг сделал). Но он ловко поймал мою руку. Мне бы надо было ее отдернуть, но я не сумел и осторожно потянул на себя. Эта моя осторожность ободрила его. Он даже засмеялся вслух, хотя и не совсем натурально. Со скамейки же он все-таки даже не приподнялся, а сидел в прежнем положении и руку мою держал крепко – кстати, цепкость в пальцах у него была ощутительной. Так длилось несколько секунд. Наконец… я сдался. Да и не вырывать же мне было руку. И вообще, все происходило не без мелодраматичности. Я сел. Он еще несколько мгновений не выпускал моей руки, как бы убеждаясь, что я внезапно бежать не намерен.
– Ну вот, поссорились, – сказал он примирительно и поднял обе руки вверх. – Но я виноват полностью, в чем и признаюсь, – и он улыбнулся, хотя на этот раз усы в стрелку не вытянулись и улыбка вышла не такой уж неприятной. – Признаюсь и каюсь, – продолжал он. – Ну – мир?!
И он протянул мне руку. Я, чуть помедлив, протянул свою. Он крепко ее пожал и держал так, пока не ощутил ответного пожатия, хотя и не столь значительной крепкости.
– Вот и хорошо. А то сразу бежать. Успеешь еще, набегаешься. От старика небось не бежал. Ну ладно. Я, пойми, почему так резко об этом «артисте», что это для меня важно. Весь смысл в этом.
– Так вы о самом важном так всякому встречному и рассказываете? – не мог удержаться я, чтобы не сказать, хотя и не посмел произнести настоящее слово – «выкладываете».
Зато удержался он:
– Не всегда, – сказал он сдержанно. – Да и почему ты знаешь, что ты «первый встречный»? Может быть, я с умыслом тебе все рассказываю – почем знать. Может быть, ты просто о моем умысле не знаешь. А он, может быть, и есть. И самый настоящий. Но – об этом потом. А сейчас доскажу. Ты сказал, что в жизни быть артистом нехорошо. Сценическим, согласен, нехорошо. А артистом жизни – так вот я перед тобой.
– Ну и что?
– А то. Вот все говорят: смысл, смысл, человек, мол, должен смысл своей жизни искать. Есть такие, которые и находят, но все равно – только приблизительно, как и все в жизни только приблизительно. Остальные из ищущих – только притворяются, что нашли. Третьи не ищут, а просто живут. Неправы все. Но последние, они больше всех оправдания достойны. Все было бы правильно в этих поисках, если бы жизнь каждого сама по себе самоценна была. Без связи с другими. Но разве она самоценна? И разве без связи? Да хоть и на самый необитаемый остров заплыви, все равно с человечеством связан, раз словами говорить умеешь и на четвереньках не ползаешь. А мне говорят: личность! Нет никакой личности, есть только исполнитель жизни, потому что смысл – он недоступен. Вот «артист» – исполнитель, он эту недоступность принимает и к ней с уважением относится. Задача артиста удержаться от поисков этого самого смысла жизни. Вот его смысл. Одно только принимать, что жизнь сама знает, как тобою распорядиться. Я все принимаю: и общественную пользу, и государственную необходимость. Но сам я одно помнить должен – жизнь сама мне роль назначит. И если кому покажется, что роль подлеца выдаст, то пусть тот как хочет думает. А я буду исполнять. Только почему бы не представить, что, подлец, он своей собственной волей и порождается, опять же – личностью, а жизнь – она мудрее, и что может показаться подлым со стороны, то, может быть, для общей пользы самый сокровенный смысл имеет. А может быть, и самый ключевой.
– Так все-таки допустимо подлецом быть, по-вашему?
– Вообще-то подлецом никому не дозволено, – ответил он рассудительно.
Но я не унимался:
– Тогда в чем же разница меж теми, кто о смысле не знает… не ищет то есть, и «артистом»?
– А в том, милостивый государь, – проговорил он и снова проделал плавное движение рукой, – что «артист» различает: когда жизнь его направляет, а где собственная свободная воля норовит вмешаться. На то она, между прочим, и свободная. А «артист» у нее на поводу не идет. В том и разница.
– А как же знать: когда воля, а когда жизнь?
– А в этом и талант, – он улыбнулся, и на этот раз усы точно в стрелку вытянулись. – В этом и наука.
Теперь я не нашелся. Этим своим последним, о таланте, он как-то все завершил, прикрыл вопрос. И хотя я чувствовал, что что-то здесь не так, то есть что совсем не так, мысли мои бурлили во мне и никак ни во что не оформлялись.
– Ну что, нет больше вопросов, я думаю? – воскликнул он с бодростью.
– Не знаю… – неопределенно отвечал я.
– Вот как поднимутся, так сказать, со дна души, так и поговорим.
– Не поднимутся, – сказал я.
– Это почему же?
– Так.
– Ну ладно, – он хлопнул ладонями о колени. – Я вот что хотел сказать: этот старик приставучий, он что это так долго тебя томил? А?
– Да так, – ответил я неохотно и словно чего-то стыдясь. – Дело у него одно…
Но здесь я осекся и поднял глаза; его взгляд, казалось, неотрывно ко мне приклеился.
– Ну!.. – выдохнул он глухо.
Но я промолчал, и теперь уже сознательно. Ему не надо было так смотреть. Но он как будто не мог пересилить себя.
Так мы смотрели друг на друга, наверное, с полминуты. Наконец он вернулся в себя, хотя и с видимым затруднением. Мне так и хотелось задать ему вопрос в лоб, но я сдержался. А он, возвратившись, теперь уже не мог меня возвратить: то проговорил невнятно «м-мда», то принялся поправлять ремень сандалии, и не зная, что с ним делать, просто подергал несколько раз; потом, повернувшись ко мне, подмигнул; но и это не получилось. Теперь я почувствовал себя свободным. И встал.
– Я пошел.
Он, как я и предполагал, за руку ловить меня не стал. Но, когда я сделал уже несколько шагов, поспешно поднялся.
– Уже уходите? – сказал он вдруг на «вы». – А то прогулялись бы к морю. Я там… места знаю. Ты же еще не был.
– А вам откуда известно?
– Мне? Почему же? – он впервые, кажется, не знал, что говорить. – Так.
– Не был, – с похожей на прошлую его наставительность проговорил я. – Не был, но устал и сейчас иду отдыхать. И провожать меня не надо.
Последнее это было уже совсем по-мальчишески, но я не смог себе отказать хоть в этой безобидной мести.
– А вечером? – спохватился он. – Что ты будешь делать вечером?
Я не ответил. Победа эта была мне приятна, хотя я и не знал, в чем она, собственно, состояла и какова в ней моя л и ч н а я заслуга.
– Слушай, – он догнал меня и легко тронул мою руку, – хочешь, я тебя к Мирику свожу?
– А кто этот Мирик? – я чуть замедлил шаги.
– Ну, это интересно, – почти обрадовался он. – Уж получше твоего старика.
– Так уж и получше.
– Да ты не думай, я ведь не так просто. У них там клуб. Ну, вроде собрания. Они не всех принимают, но я тебя введу. Там о смысле жизни всякое…
– Мне и незачем о смысле жизни.
– А посмотришь, – не унимался он. – Они любопытные. И жена у него, Леночка, тоже… Но не в ней, конечно, дело. Они там рассуждениями всякими занимаются. Иногда книжки вслух читают, а потом говорят, а иногда так, без книжек. Да ты не подумай: у них не по-курортному, чтобы от скуки, у них это – как работа. Я так предполагаю, что они съехались сюда специально. К тому же и природа… располагает. Говорят, что так они совершенствуются. Правда, после бесед этих про совершенство они в шашлычную часто заглядывают – они люди с деньгами. Попировать любят. Я тоже с ними был: за троих едят. Тоже, видимо, для совершенства. Но, как говорится, «ничто человеческое»… Но все равно они любопытные.
Мы дошли до поворота аллеи. Мне нужно было сворачивать направо. Я приостановился. Он понял:
– Ладно. Иди. До вечера. Ты придешь?
– Вряд ли, – пожал я плечами.
– Приходи обязательно, буду ждать. У главного корпуса, в семь.
Я сделал неопределенное движение рукой и повернул в свою сторону.
– Слышишь, в семь, – прокричал он мне вдогонку. – У главного корпуса.
Когда я остановился у крыльца, я только тогда понял, что почти бежал. Дыхание мое было скорым и неровным, а в боку покалывало. Я оглянулся. На дорожке никого не было. Но просвет деревьев… Я не знаю, что мне привиделось в этом просвете: я слишком был не в себе. Так я постоял с минуту. Но, кроме шороха листьев, ничего расслышать не смог. И хотя солнце еще было высоко, мне казалось, что я сам стою среди сумерек. Я, осторожно ступая и несколько раз внезапно оглянувшись, взошел на крыльцо. Входная дверь как-то уж очень длительно заскрипела. Под лестницей было темно, я вышел на веранду, осторожно вставил ключ в замочную скважину и легко толкнул дверь. Она раскрылась без скрипа. Я постоял несколько мгновений на пороге, осматриваясь, и только тогда вошел. Шторы я задернул перед уходом, и в комнате стоял полумрак. Прикрыв за собой дверь и повернув ключ, я еще несколько мгновений постоял неподвижно. Потом снял туфли и, ступая на носки, подошел к окну. Просунув ладонь меж шторами, я заглянул в просвет: та часть дорожки, что была видна, наполовину покрылась тенью. Я вытянулся, стараясь заглянуть подальше, но мешали деревья. Затаив дыхание, я прислушался. Странно, что в целом корпусе не слышно было ни единого звука. Как будто я был в доме один. Стараясь, чтобы штора не колыхнулась, я отвел ладонь. Угол чемодана выглядывал из-под кровати – с его бока свисала лямка майки. Я попытался припомнить – трогал ли я белье перед уходом, тем более что оно было уложено снизу, под рубашками и пиджаком; но припомнить не сумел. Нет, кажется, я не переодевался. Но тогда зачем мне нужна была майка? Это было странно. Я дотронулся до лба: он был влажным. Впрочем, в комнате было душно. Я подошел к столу, приподнял осторожно графин, налил стакан до краев и выпил. Вода была теплой. Но я выпил и второй стакан. Потом лег. Не раздеваясь. Я полежал на спине некоторое время, перекатился на бок, рывком вытянул из-под себя покрывало, накрылся до подбородка. Наверное, скопилась сырость от того, что комнату не проветривали. Хотя – от чего быть сырости на втором этаже деревянного дома, да еще в такое солнце?! Но я чувствовал холод. Я приподнялся, заглянул за кровать, словно что-то могло измениться в моем чемодане. Потом я закрыл глаза.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1Проснулся я со странным ощущением бодрости. Я давно так не просыпался: тело легкое, а в душе – никакой тревоги. Но спал я, судя по всему, не более полутора часов. Я припомнил свои страхи: они остались где-то далеко, там, за полуторачасовым промежутком, но все равно – они отдалились значительно.
Сон – странная вещь, в том смысле, что время в нем исчисляется по-особому: и может, мы во сне пребываем не так уж и на земле? Порой проспишь всего полчаса, а припоминаешь то, что с тобой происходило до этого получаса так, словно прошло, по крайней мере, несколько дней. И никогда, даже дни самых зрелых рассуждений над трудными вопросами и неразрешимыми проблемами, и никакие логические построения не заменят двух-трех часов забытья: умом мы можем р е ш а т ь, а пробуждение нам – о т к р ы в а е т.
Впечатлений для одного дня было много. Я даже сказал бы – слишком. А он еще не закончился. Вообще я знакомлюсь с трудом, но разве эти четверо со мной знакомились? и о желании моем справлялись? или такой уж я интересный человек? или такой уж интересный собеседник? или такой уж необходимый?.. Вот – тут, может быть, что-то и есть (исключаю Алексея Михайловича). Все как будто только и ждали моего приезда, чтобы на меня накинуться.
Я стал думать, и по мере того, как события сегодняшнего дня приближались ко мне и, наконец, приблизились вплотную, с оттенками голосов и особенностями жестов, бодрость моего пробуждения стала заметно сникать, а сам я даже поймал себя на том, что опять раза два (я эти разы отметил, но, может быть, были и еще другие?) настороженно оглядывал комнату.
Впрочем, вещи я разложил, как только проснулся, а потому сейчас, когда нынешнее мое состояние опять сомкнулось с прежним и растворилось в нем, я уже не имел возможности детально исследовать расположение вещей в чемодане, хотя именно сейчас это было бы очень кстати. Да, исследовать на предмет… Вот это и было затруднительно, определить: на какой предмет?.. Предположить, что чемодан мой смотрели? Предположить можно что угодно, но – кто? и главное – зачем? Там ничего не было, кроме одежды и кое-каких бумаг с моими записями, не представляющими, думаю, еще даже и литературного интереса, не говоря уже о любом другом; впрочем, кроме простого любопытства.
Нет, я не с того начинаю – чемодан следует оставить в покое. Так. Сначала был Алексей Михайлович. Его исключаю сразу. Потом этот циркач – Коробкин. А что он? Оставим и его. Потом Никонов. С ним не все ясно, но не он же стал бы… Потом был Ванокин, и если бы не его это «ну», когда я сказал про дело старика, то и его можно было бы исключить…
Здесь я остановил себя и подумал: «А из чего это исключить?» Что-то я в самом деле сгущаю. Может быть, мне уже писать пора, если я так обобщаю? Но почему же то я стал!.. Не просто же так! Не болен же я! Не мог же в один день, ни с того ни с сего, вдруг этим всем заболеть? Стоп. Как это: ни с того ни с сего? Как это вдруг? И почему, собственно, не мог – вдруг?
Если я из ничего делаю что-то, то… Но раньше я никогда этого не делал. Но раньше ничего такого со мной не случалось.
Мысли мои путались, и ничего стройного я из них выстроить не мог. То есть не только стройного, но и совсем ничего. Одно только я чувствовал и понимал через чувство: что-то вокруг меня происходит, если и не вокруг, так около. И у меня, как и у всякого другого в моем положении, было два выхода: первый – ждать, второй – взяться выяснять. Но как я ни пытался решить, который из них предпочесть, ничего у меня не выходило. И я решил действовать, сообразуясь с обстоятельствами, то есть ждать, а по ходу и выяснять.
Я решил пойти сначала к Алексею Михайловичу. Я вышел на веранду: было еще солнечно, но свет уже предзакатно терял желтизну. Третья от меня дверь растворилась, вышел человек в пижаме и с полотенцем через плечо, увидев меня, он коротко кивнул, как знакомому, и, что-то насвистывая под нос, удалился. Я не успел удивиться, как он исчез за поворотом.
Я подошел к двери Алексея Михайловича, но в то самое время, как я уже брался за ручку его двери, снизу меня окликнул женский голос:
– Не скажете, который теперь час?
Я выглянул за перила. Женщина лет тридцати, в глубоко открытом на груди и длинном сарафане, приставив руку ко лбу козырьком, смотрела на меня. Должно быть, она была красивой: тонкая, с длинными черными волосами, прикрывающими плечи; лица же мне не было видно, потому как оно было прикрыто ладонью.
– Вы меня? – сказал я.
– Ну да, вас, – откликнулась женщина.
– Я не знаю, – выговорил я после довольно продолжительной паузы.
– Вы что, новенький? – спросила женщина.
– А что?
– Ничего. Видно, еще не успели отдохнуть и сил набраться: уж очень голос слабый.
Я хотел было ответить, но она резко повернулась – сарафан ее вздулся и оголил стройные ноги – и, быстро ступая, пошла по аллее.
Я подождал, пока ее скрыли деревья, потом повернулся и, напевая под нос мотив, наподобие того, что пел кивнувший мне незнакомец с полотенцем (то есть неразборчивый, для всех почти одинаковый, бестолковый, но, как видно, необходимый для человека в минуты определенных настроений), шагнув к двери Алексея Михайловича, четко стукнул три раза. Видимо, от звонкости моих ударов или оттого, что я продолжал мотив, я ответа не расслышал, и только постучав еще раз, услышал голос Алексея Михайловича, который громко и, кажется, с раздражением произнес:
– Да я же сказал – открыто!
Я толкнул дверь и вошел. Алексей Михайлович сидел за столом и что-то писал. Вид его показался мне озабоченным. Сидел он на стуле боком, навалившись левой рукой на стол и низко над ним склонившись; когда я вошел, он не сразу поднял голову, а вывел еще несколько слов (я говорю «вывел», потому что рука его водила пером медленно и с напряжением). Наконец он оторвался от листка, поднял на меня глаза и, перевернув ручку, постучал тыльной стороной по столу.
– Я не вовремя? – сказал я, останавливаясь у порога.
– Не совсем, – отвечал он, тронув лоб ладонью. – Но раз уж пришел – входи, садись, – и он указал на стул напротив.
Я хотел было отказаться и уйти, но почему-то не решился, прошел и сел. Когда я подходил, он перевернул лежавший перед ним лист обратной стороной. Я опять подумал, что лучше было бы уйти, но вдруг сказал для самого себя неожиданно:
– Простите, что я отрываю, но я по делу.
– Ах, по делу, – проговорил он вяло. – Ну-ну, давай дело.
Я тут же пожалел о сказанном. Но отступать было поздно. Он молчал, а я не знал – с чего начинать, и сразу не мог сообразить, в чем это мое «дело» может заключаться. В голове моей возник прежний глупый мотив, и так он заслонил вдруг все, и беспрерывно во мне прокручивался, и я не мог сквозь него пробиться, что в эти несколько секунд раздражился на… Алексея Михайловича.
– Да, я пришел по делу. А что? – почти с вызовом и отчетливо выговаривая слова, сказал я.
– Я и жду… – в прежнем тоне, ничего как будто не заметив, отвечал он.
Тут, вместо того чтобы сдержаться, я припомнил лицо старика, и лицо Ванокина, и эти разговоры первой половины дня, и свой чемодан, и то, как меня тянуло к Алексею Михайловичу, и то, как хотелось ему доверяться, и…
– Вы ушли… тогда. Вы ушли из столовой, – начал я сбивчиво: слова выходили, и только тогда, когда оформлялись звуком, только тогда я их сам воспринимал и мог за ними следить. – Вы ушли, а я должен был… Если вы даже и не нарочно, то все равно… И почему я все это должен выслушивать. Вы должны были мне объяснить. Вам легко: вы встали и ушли. Можно было объяснить. И потом еще – чемодан.
Алексей Михайлович меня не перебивал, я сам остановился. Как ни толпились во мне слова и как раздражение ни подталкивало их беспорядочными, но скорыми толчками, я все же сумел прекратить это бессвязное выскакивание.
– Что же я мог тебе объяснить? – сдержанно проговорил Алексей Михайлович. – Дай мне хотя бы понять.
– Вы понимаете, но…
– Притворяюсь, – закончил он за меня, все не теряя сдержанности. – Хотя, немного… Кое-что только понял. Но, например, при чем тут чемодан?
– Чемодан – не главное, – досадливо отозвался я.
– Ладно, пусть не главное, но все-таки – при чем? Это твой чемодан?
– Мой. И в нем сегодня кто-то рылся.
– Рылся? – вдруг оживился он. – Это интересно.
– Мне тоже интересно.
– А ты не придумываешь? Я хочу сказать, что тебе могло показаться.
– Могло и показаться, – сказал я независимо, – но все равно.
– Ты так говоришь, будто я имею к этому отношение.
– Я этого не говорю.
– Ну, допустим, – и он улыбнулся.
И как я ни был разгорячен, и как ни злился на себя – эта улыбка его значительно меня охладила. Я еще чувствовал, что краска не сошла с моего лица, я еще дышал прерывисто и сглатывал поминутно, но – я снова ощутил притяжение к этому человеку. Только я не знал, как теперь все поправить. Но оказалось, что поправлять ничего не нужно.
– А ты, я смотрю, горяч, – продолжал он улыбаться. – Ну, ладно, давай о деле. Чемодан пока оставим. Да, ничего не пропало?
– Ничего.
– Уже хорошо. Ты вот что… Тебе что-то Никонов говорил? А? Неужто же он… Он тебе о ценностях говорил?
– Всякое, – сказал я осторожно.
– О бриллиантах?
– Да, о бриллиантах.
– Так.
Это его «так» прозвучало неожиданно мрачно. Он встал, заложил руки за спину и прошел по комнате из конца в конец несколько раз. Я следил за ним, пытаясь понять: что? как? насколько? Но он совсем ушел в себя. Одно только я видел: «дело» существует.
Какое-то ожидательное возбуждение поднялось во мне. Жизнь моя до сего дня протекала… обыкновенно. И обыкновенность эта всегда удручала меня. Всегда кажется, что только в необыкновенности вся соль и весь смысл. То, что во внешней обыкновенности жизни есть глубокий внутренний тон (и даже он глубже и гуще – этот тон, когда на поверхности видимая обыкновенность), это я понял много позже. А сейчас… Я с нетерпением ждал, когда Алексей Михайлович заговорит.
Но он совсем о моем присутствии позабыл: все ходил из угла в угол, мягко ступая. Мне уже надоело за ним следить, но я ждал терпеливо и его задумчивость разрушить не смел. Я посмотрел на стол: кроме листка, который он перевернул тыльной стороной, на столе лежала книга (что-то техническое), небольшая стопка бумаги и два конверта рядом. Эта стопка бумаги меня особенно заинтересовала: не просто же так человек держит под рукой стопку бумаги! Не для одного же писания писем! И еще один предмет заинтересовал меня: с краю кровати, в изголовье, лежала толстая тетрадь, а вернее, не тетрадь, а что-то наподобие конторской книги. Тетрадь была закрыта, но, внимательно приглядевшись к обрезу, я заметил, что она была исписана больше чем наполовину. Я подумал, что это не может быть ничем иным, как только дневником. Хотя… Но мне очень хотелось (и я мог бы до нее свободно дотянуться) раскрыть тетрадь, чтобы убедиться. Дневник – вещь ныне архаичная, способ осмысливать собственную жизнь по дням почти забытый; тем более что на Алексея Михайловича, как я его представлял, это совсем было не похоже. Но – почему бы и нет! Мне не хотелось ошибиться, и я стал думать: что мог записывать Алексей Михайлович? Может быть, он уже и меня туда вписал? Это последнее показалось мне правдоподобным и… желаемым. Но здесь Алексей Михайлович, наконец, остановился посреди комнаты, руки из-за спины отнял, сложил их плотно на груди, посмотрел на меня исподлобья и сказал:
– Дело такое существует. Камней я не видел, но, судя по всему, они имеются. Думаю… наверняка. Он – человек странный, но не чудак, хотя может показаться… Он меня дней десять уже донимает. Сначала я принял его просто за сумасшедшего, потом понял – тут другое. Хотя все странно: подходит к тебе человек и с первых почти слов предлагает взять какие-то огромные ценности, чтобы хранить. То есть не то чтобы владеть и не просто хранить, а еще с какою-то идеей. Первый вопрос понятен: почему я? почему ко мне? Спросил. Он ответил, опять-таки невнятно, что у него мало времени, что он ко мне присматривался и что ему теперь выбирать некогда.
– Мне так же говорил, – вставил я, как будто чему-то обрадовавшись.
– Тем более.
– Он еще сказал, что у него две опасности: мало времени и какой-то человек. Но он не назвал.
– Мне о человеке не говорил. Постой, постой, – Алексей Михайлович шагнул ко мне. – Может, у него – того, мания преследования, а мы тут огород городим?
– Не знаю, – сказал я, припомнив, как поспешно скрылся Никонов. – Не знаю. Может быть. Он от меня так быстро убежал.
– От тебя?
– Нет, не совсем от меня. Там другой подходил, а старик его увидел и убежал. И мне сказал, чтобы я его… Говорит: «ты познакомься с ним».
– С кем?
– Ну с этим, что пришел. Он подошел ко мне и стал говорить, что это полоумный старик, что все от него бегают, а он ко всем пристает, ну и все такое. Его фамилия Ванокин. Он еще стал…
– Это какой Ванокин? – прервал меня Алексей Михайлович. – Не тот ли, что с «ежиком», белый такой, во «френче»?
– Да, этот.
– По-нят-но, – медленно проговорил Алексей Михайлович и, внимательно посмотрев на меня, сказал: – А ты знаешь, что Никонов здесь ни с кем, собственно, исключая меня и теперь вот тебя, не общается. Он вообще людей сторонится и почти все время дома сидит, в комнате. И никому он… Врет твой Ванокин. И что-то не похоже на «просто так». Я его немножко знаю. Он с компанией этих, что клуб (я тебе показывал в столовой), с ними водится. У него еще женщина здесь есть – Марта. Красивая. Так, значит, он с тобой о старике заговорил? Тогда рассказывай.
Я передал свой разговор с Ванокиным, опустив «артиста», но о его этом «ну» как можно подробнее и даже, как сумел, в лицах изобразил.
– Это интересно, – заметил Алексей Михайлович, когда я закончил рассказ. – Это, может быть, самое интересное. Насторожился, говоришь. Так-так.
– Не только насторожился, но чуть не бросился на меня.
– Да, странно.
Он подошел к столу, поднял листок, глянул на него мельком и положил на прежнее место.
– Видишь ли, – проговорил он в раздумье, – все так сошлось… Короче, у меня здесь неожиданное дело возникло, свое, и, понимаешь, я не могу сейчас тем стариком заниматься… вплотную. Тем более, что, может быть, это его стариковская фантазия. Так бывает. Но если камни существуют, а они вполне могут существовать, то… Впрочем, кажется, что все не так просто.
– А если их все-таки нет? – сказал я. – Их ведь никто не видел. Он вам не показывал, вы говорите. Ведь если он вас так… выбрал, то сначала должен был представить… в наличии. Ну, хотя бы, чтобы его не приняли… и вообще.
– Да, не показывал. Я тоже думал об этом. Но есть здесь достаточное возражение, если на его идею опираться. Показать, видишь ли, не трудно. И не в этом дело, я думаю, что он опасается. Опасался – не предлагал бы. Я хочу сказать, что он думает – демонстрация делу повредит. Он, видишь ли, хочет, чтобы сначала его идею приняли. А в этом для него все дело. Он говорил тебе, наверное, что ценности… что они сила. И он хочет моего принципиального согласия, чтобы я принял всю тяжесть, как он говорит, «силы». Это ведь для него не просто камушки, которые можно разменять на деньги. В том-то все и дело, что их нельзя разменять. Это его главный пункт, что это не ценности, а сила. Он еще по-другому выразился: «чистая сила».
– Так отчего же вам не взять?
Он усмехнулся:
– Вот и ты тоже. А как взять? Принимая его правила, а я не хочу по-другому – и не могу, я должен буду принципиально с его идеей согласиться, идею принять. Если бы все так просто. То есть, если он не в себе, тогда понятно. Но если… тогда выходит, что это не просто взять горсть камней себе на хранение, допустим, но как бы крест на себя взвалить. Вот и пойми. И разве я имею такие силы, чтобы этот крест нести, да еще – неведомо куда и неведомо с какой целью?
– Но он разве не объяснил… идею?
– Смутно все. Думаю, он и сам смутно понимает, во всяком случае выразить четко не может. Да, – он остановился, потрогал лист рукой и продолжал: – И еще есть некоторые обстоятельства, и их невозможно не учитывать. Например, как все это выглядит юридически. Как – законно ли это, чтобы такие ценности находились у одного лица? И потом – их происхождение. Он что-то смутное говорил. Понятно одно – они еще с того времени, дореволюционные. И не из воздуха же они появились. Он тебе о трансформации говорил? Так вот, это…
Но здесь его прервал осторожный стук в дверь. Мы одновременно обернулись.
– Входите! – сказал Алексей Михайлович, хотя и помедлил несколько мгновений.
В приоткрывшуюся дверь просунулась голова. На голове совсем не было волос. Человек огляделся, словно бы не сразу замечая нас, потом «заметил», улыбнулся и – появился весь. Я узнал того самого – в пижаме с полотенцем, который кивнул мне, когда я входил к Алексею Михайловичу. Он опять был в пижаме, но на этот раз без полотенца; вместо полотенца он держал под мышкой шахматную доску. Алексей Михайлович вздохнул, и я не понял – с облегчением или удрученно.
– Вот и я, – воскликнул бодро вошедший. – А-а, так вы не один, – он словно бы только сейчас заметил меня. – А я думал, что вы один.
– Не один, не один, – внезапно обрадовавшись, с радушием, которое никак не вязалось с предыдущим вздохом, заговорил Алексей Михайлович. – Но вы всегда вовремя.
– Как – и вы в шахматы играете? – обратился ко мне новый гость так, будто на моем лице было написано, что такого никак не может быть (впрочем, игрок я и в самом деле слабый).
– Играет. Но дело не в этом, – сказал Алексей Михайлович. – Мы здесь интересно разговорились – решаем кое-что. Вот и вы включайтесь. Может, интересное предложите.
Я с удивлением глянул на Алексея Михайловича, но он не захотел замечать моего взгляда и продолжал:
– Мы говорили о здешних обитателях. Знаете – как игра. Саша только вчера приехал, ну а мы с вами, можно сказать, старожилы. Он пытается определять встреченных им сегодня, а я с опытом старожила… Вот и разговор. А если по-простому, то – судачим. Кстати, извините, вот, познакомьтесь.
– Думчев Андрей Ильич, – с некоторой чопорностью отрекомендовался лысый; назвался и я.
– Вот и хорошо, вот и хорошо, – с непонятной для меня словоохотливостью продолжил Алексей Михайлович. – Андрей Ильич, как шахматист, скорее нас с тобой всех вычислит: мы все на чувстве, а он – логикой.