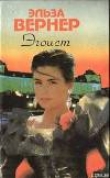Текст книги "Чистая сила"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 30 страниц)
Я вернулся к себе и, еще с порога оглядев комнату, понял, что все, что как бы там ни было, а завтра я уезжаю. Простая эта мысль очень взбодрила меня: я прошелся по комнате из конца в конец, еще раз, и еще, и еще раз, потом остановился, довольно звонко хлопнул ладонью по стене и пропел: «Покидая тихий край, покидая дикий край – та-ра-рай». Мотив вышел неопределенный, а слова вообще неизвестно откуда взялись; но я, повторяя строчку и припев, достал чемодан, раскрыл его, внимательно осмотрел пустоту и – осекся. Наверное, я не осекся бы, если в чемодане было бы хоть что-нибудь, хоть какая-нибудь ненужная бумажка на дне. Но он был пуст. И ничего в этом не было особенного, потому что все положенные ему при перевозке вещи аккуратно висели на вешалках и лежали на полках стенного шкафа; и я сам их туда положил и повесил, и я знал, что чемодан пуст, но – мне не нужно было его раскрывать сейчас и не нужно было раскрывать под этот неопределенный мотив и неизвестно откуда взявшиеся глупые слова.
И заглянув внутрь пустого чемодана, я осекся и только сейчас подумал, что бодриться совсем и нечего, потому что сегодня мы похоронили старика, и потому что уехал насовсем Алексей Михайлович, и потому что нужно же было пойти к Ирине Аркадьевне на поминки (но никто не пошел, и как-то просто все мы отказались, и как-то просто нашлись не терпящие отлагательства дела, словно она от скуки приглашала нас на чашку чая, а можно было и не ходить), и потому что завтра я вот уеду – и никогда, никогда не вернусь, буду жить и жить, а это никогда не повторится, и что не может же сойтись так, чтобы все опять съехались сюда в одно время – и Марта, и Ванокин, и Алексей Михайлович, и Думчев, и Коробкин, и… Вот только Ирина Аркадьевна будет здесь; и старик. Они-то одни и остаются. Она будет жить одиноко, и будет стареть, и будет ходить на кладбище: к мужу и к Владимиру Федоровичу Никонову, странному, очень странному, и теперь мне кажется, словно и не жившему вовсе человеку.
И подумал я тогда о том, что ведь ничего из этого не повторится. То есть, конечно же, будет другое, и на протяжении моей жизни, может быть, будут события и поважнее, а судьба может так повернуться и таким наполниться, что эти несколько санаторных дней забудутся навсегда. Я сказал себе «навсегда» и не то чтобы испугался этого слова (тогда я еще не умел этого бояться), но все равно – мне стало грустно. «Что навсегда? – сказал я себе. – То, что уйдут навсегда, это не беда, это полбеды. И никуда от этого не денешься. Беда, если навсегда забудется».
Оно ведь конечно, память избирательна, и не можешь же запомнить всех, кто встретился тебе в жизни, и все дни, и все минуты, и даже всего самого себя не можешь помнить. Скажут: «Если память избирательна, то не нужно обременять память, ей и без того нелегко». Но как же не обременять?! Почему я должен довериться ее, памяти, избирательности. Доверюсь я, положим, а она не то «изберет». И получится, как с этим чемоданом: возьмешь однажды (а то и перед самым каким-нибудь отъездом – временным ли, вечным ли), раскроешь и – будешь так сидеть, уставясь в пустоту, в пустую внутренность твоей памяти, которая так избирательна сама по себе.
Я закрыл чемодан, задвинул его подальше под кровать, встал, вышел и направился к морю. Куда же было еще и идти!
Время уже было перед самым закатом. Не знаю, я не видел летних закатов на море, но этот осенний был хорош. Без особенных красок, не яркий, чуть, может быть, даже и суровый. Мне понравилось собственное определение – суровый, но не это было главным, а главным было то, что вокруг была умиротворенность: не подобие умиротворенности, не «какая-то» умиротворенность, но именно определенная, разлитая вокруг – от неба до земли и воды – и словно пропитавшая собой все. Я вспомнил, что о выражении лица умершего говорят: умиротворенное. Я вспомнил об этом, глядя на морской осенний закат. Да, в смерти есть равновесие: меж «был» и «нет», равновесие противоположностей. Равновесие это статичное, застывшее навечно, как застывает гипс посмертной маски. Смерть – зеркало, которое отражает в памяти людей прошедшую жизнь человека. Но оно лишь отражает, тыльная же сторона нам неведома – только ли там одна темнота?!
Я смотрел на закат и все не мог понять, почему мне пришло: «умиротворенный». Только ли потому, что за закатом ночь, темнота, а значит, в каком-то смысле, и смерть? То есть хотя закат и повторится в следующий вечер, но это будет уже другой закат, а этого – его не будет. Никогда. Поэтому ли только пришло мне: «умиротворенный»? Но он был так наполнен изнутри жизнью целого дня, что невозможно было поверить, что через несколько минут, пусть через час, все поглотит темнота так, словно ничего и не было совсем. Никогда? Уйдет? Да, уйдет. Поглотит темнота? Да, поглотит. Но не может же так быть, чтобы этот наполненный смыслом целого дня закат остался жить в одной лишь памяти – моей, другого, других. Но что это за жизнь для него – огромного, сурового, умиротворенного?! – так, отпечаток. Но, может быть, темнота и не поглотит, а она только завеса? «Да, да, – подумал я, – может быть, она только завеса, а за ней…»
Но я не успел додумать, потому что голос Коробкина произнес совсем рядом: «Прогуливаемся?»
В пространстве пляжа сгустились уже сумерки, и только море переливалось пламенно-багровыми блестками. Я шел, разувшись и держа туфли в руках, у самой кромки воды и глядел то на горизонт, то себе под ноги. Коробкин сидел метрах в двух от воды, скрестив по-восточному ноги, и если бы он не окликнул меня, я прошел бы мимо.
Я остановился, а он повторил вопрос:
– Прогуливаемся?
– Закат красивый, – сказал я.
– Закат очень красивый, – ответил он.
Тут только я заметил, что перед Коробкиным, у самых ног, лежит шляпа.
– Ты чего? – спросил я, хотя Коробкин сидел неподвижно; и мало того, что неподвижно, он еще сидел и в позе: руки на коленях, спина прямая; поза и впрямь была восточно-молитвенно-созерцательной, не хватало какой-нибудь чалмы для полноты картины; впрочем, и без чалмы нужное угадывалось.
– Репетирую, – проговорил он, медленно повернув ко мне лицо.
– Что репетируешь?
– Номер. Видишь ли, скоро того, обратно, а со старым, так сказать, багажом не очень. Сам понимаешь. Дирекция новое требует, оно ведь и в нашем деле конкуренция, знаешь. Вот здесь все думал, думал, а потом… натолкнулся.
– На что?
– На мысль, конечно. Хотя понятно, что нуждается в разработке. Но это уж дело такое – сумма приемов. Лишь бы мысль была.
– А поза?
– Да что поза – так, антураж. Если бы все в позе.
– А это, – я указал на шляпу, – тоже к номеру?
– Вот, думаю, – сказал он и вдруг удивленно поднял голову, хлопнул руками по коленям и быстро встал. – Совсем забыл сказать: шляпа.
– Кто шляпа?
– Да вот, шляпа, – он ткнул перед собой пальцем. – Понимаешь, она, та самая, «дядина», ну, лысого…
– Думчева? – подсказал я.
– Ну да, его.
– И что?
– А то, что я видел его, то есть разговаривал. Он, это, шутник. Хотя – кто его знает… Я, как сюда шел, его встретил. Вон там, – он махнул рукой в сторону набережной, – у лестницы. Я, понятно, хотел мимо пройти, а он ко мне и вежливо так спрашивает: «Как ваши дела?» Я ему тоже вежливо – сам понимаешь – говорю: «Нормально. А ваши?» А он: «У меня, – говорит, – дел нет, у меня всегда одно дело». И упирает на «одно». Тогда я ему еще вежливее (знаешь, я умею): «И как же это ваше дело?» А он: «В шляпе», – отвечает. Сам понимаешь, я к грубостям… Ну, и говорю ему так отчетливо: «Что?» – говорю. А он мне: «Сами изволите увидеть». И убежал.
– Как убежал?
– Ну как – просто. Пошел быстро – и все. Не догонять же его было. Да и потом – откуда же я знал?..
– Что «знал»?
– Ну как что? – вот это, – Коробкин нагнулся, поднял шляпу и, держа ее перед собой, встряхнул, – камушки.
Я протянул руку и достал из шляпы горсть камней – мелкой морской гальки. Я стоял спиной к воде, и отсвет заходящего солнца словно окрасил камушки багровым; впрочем, как и мою ладонь.
– Ну вот, видишь ли, – продолжал Коробкин живо, – прихожу сюда, на свое место, а она здесь лежит, и эти… в ней. Подожди, завтра с дядей разберемся. Шутник, видишь ли.
– Не надо разбираться, – проговорил я, пересыпая камешки с ладони в шляпу, которую Коробкин, равномерно встряхивая, все держал перед собой.
– Это почему же?
– Да просто, не надо – и все тут; без всякого смысла.
– Без всякого смысла, – повторил он за мной.
– Без всякого, – в свою очередь повторил я, улыбнувшись и подмигнув ему, и бросил камешки в шляпу – один за одним.
Коробкин смотрел за их падением, не отрывая взгляда.
– Слушай, – сказал он, подняв глаза. – Хочешь, покажу.
– Что?
– Номер. Ну, не номер, а так… Часть, допустим. Ну, хочешь?
Я пожал плечами, сам не поняв даже и примерного смысла собственного движения. Кажется, и Коробкин не понял, но раздумывать и уточнять не стал, а вытянув из кармана носовой платок, расстелил его перед собой, присев на корточки. Потом осторожно пересыпал камешки из шляпы на платок, аккуратно подровняв сложившуюся горку, встал, сделал несколько шагов к морю и поставил шляпу почти у самой кромки берега; вернувшись к платку, сел перед ним, спиной к воде, в прежней своей восточно-созерцательной позе.
Посидев так с полминуты перед платком в полной неподвижности, он вдруг неожиданно ловко взял камень из горки и бросил его за спину, взял второй, третий… Камешки, описывая высокую дугу, летели через равные промежутки и падали в нескольких всего сантиметрах от шляпы; может быть, только один или два попали внутрь. Но не это привлекло меня: напрягая зрение, я смотрел в то место, куда падал очередной камешек, и хотя находился близко, не больше чем в трех шагах, не мог найти его глазами уже в самый, кажется, миг удара его об землю. Такие разные на ладони, они сливались в единую гальку берега, лишь только соприкасались со своими природными собратьями.