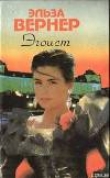Текст книги "Чистая сила"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
И старик, встав со своего места и все повторяя: «Сейчас, сейчас!» – вышел из поля моего зрения. Судя по звукам, он что-то перебирал за кроватью.
Ванокин не двигался и, словно замерев, глядел в то место, у которого возился старик; одной рукой он сжимал лежавший возле стек, другой, полусогнув ее в локте и навалившись всем телом, опирался о край стола.
– Вот. Сейчас, – вперемешку с кряхтением, скрипом кровати, шарканьем подошвами по полу слышал я слова старика.
«Неужели, – думал я, – покажет. Да он и в самом деле сошел с ума. Что за идейного он себе противника выискал?! Это идейный может не взять: от чистоты ли идеи, из гордости ли. А такой – он возьмет и думать не станет, запустит руку в ларец (я почему-то представлял себе именно ларец: деревянный, резной, с медным запором, а то даже и с секретом, и конечно же, с выгнутой крышкой) и в горсти унесет, сколько ухватить сумеет. А он уж ухватить сумеет, и гадать не надо, а только раз на лицо его взглянуть».
Старик подошел к столу. Вид его был растрепанный, и если бы я не знал, чем он там занимался, а видел бы его вдруг, внезапно появившегося в комнате, то я бы сказал, скорее – растерзанный, чем растрепанный: пиджак в пыли, расстегнут и, кажется, с потерей пуговиц, галстук вылез из-за жилета; в руках он держал… коробочку, примерно, сантиметров по десять в длину, ширину и высоту; крышку прижимала резинка, черная и узкая, какую женщины используют в простых прическах. Увидев такую упаковку, я даже несколько отодвинулся в изумлении от своей наблюдательной щели.
Старик не сел, поставил коробочку на край стола и, царапая пальцами крышку, старался ухватить резинку; движения его были неточны (как вслепую), а руки дрожали; наконец он ухватил резинку и сдернул ее… Придерживая ладонью крышку, только теперь поднял глаза на Ванокина.
– Ну что – видел! – проговорил он с мрачной торжественностью и взялся другой рукой у основания коробочки: то ли чтобы крепче придержать, то ли собирался открыть.
– Пока не вижу, – со смешком, почти равнодушно, но прерывисто сглотнув, отвечал Ванокин.
– А хочется? – поддразнил старик.
Ванокин не ответил, не сводя взгляда с коробочки.
– А хочется? – повторил старик.
– Вы, папаша, это… перестаньте, – Ванокин откинулся на спинку стула, но с видимым напряжением, – комедию ломать. Не для того…
– Для того, – перебил его старик. – Именно для того, милый голубчик, для того… А ты как думал! Ты думал, я сумасшедший слабый старик, ты думал, я в фантазии на старости лет вдался. А вот и нет. Вот оно, перед тобой, – он похлопал ладонью по крышке, – только руку протянуть. Близко, а не возьмешь. Нет у тебя силы, чтобы такую силу пересилить. Да и ни у кого ее нет, ни у кого… не хватит. Тот только сможет взять, кто об этом ничего не ведает, – вор простой. А кто знает, тот уже не сможет, потому что сила эта и его уже тронула, и в него уже проникла.
– Чем это тронула? – грубо отозвался Ванокин.
– А значимостью своей, милый голубчик, непреходящим своим, если ты такое понятие уразуметь можешь.
– Нет, папаша, – Ванокин подался вперед и, подведя конец стека своего почти к лицу старика, пошевелил им. – Нет, папаша, ошибаешься очень. Ох, ошибаешься. Тебе бы лучше со мной такие опасные разговоры не вести и коробкой своей меня не дразнить. Ох, ошибаешься! Не знаешь ты меня, совсем не знаешь. Когда ты меня пацаном у матери видел, я, ты прав, другой был, и ты даже представить не можешь философским своим умом, во что я вырос, в кого… преобразовался. Я не посмотрю… Я на твои годы смотреть не буду. И на идеи твои я, прости, плевать хотел. Вот моя идея – ни с какими идеями не связываться и себя никакими идеями не связывать. Я не посмотрю, я твою коробочку сейчас вырву, и – привет. Хоть бы тебя что и хватило после невосполнимой потери.
И, приопустив стек, он попытался просунуть кожаный конец под ладонь старика. Но старик как будто замер: он не отстранил коробочку, а только еще сильнее прижал ладонь к крышке; Ванокин же с напряженным лицом все подсовывал стек под ладонь.
– Не выйдет, – сдавленно выговорил старик.
– А вот посмотрим.
– Не вы-ы-йдет.
– Посмо-о-трим.
Я почувствовал, что наступила та самая минута, когда мне невозможно не обнаружиться. Я уже просунул пальцы в щель и раздвинул ее, я уже привстал, чуть сдвинув стул (ножка его сползла с резинового коврика и с характерным звуком проскрежетала по плиткам пола). Я хотел обнаружения, но они не замечали меня и ничего вокруг не слышали. Я было уже совсем поднялся и готов был отбросить портьеру, и даже какой-то, близкий к гортанному, звук подступил к самому горлу… Но я не успел.
В сцене передо мной как бы что-то лопнуло, во всяком случае, словно звуковая волна резко ткнула меня в грудь. Я приник к смотровой щели. Дело было в том, что коробочка упала на пол, не выдержав упорных усилий сверху (ладонь старика) и сбоку (трость). Она упала, впрочем, почти неслышно: старик, оттолкнувшись от края стола, резко подался назад, и одновременно с ним вскочил Ванокин; стул позади него опрокинулся (это и был тот самый звук, что остановил меня).
– Стоять! – крикнул старик, полусогнувшись и выбросив руки навстречу Ванокину.
Но Ванокин и сам не двигался.
– Не подходить! – еще громче прокричал старик, держа одну руку перед собой, тогда как другой, не отрывая взгляда от Ванокина, шарил по ковру возле себя.
– Да успокойтесь, – сквозь зубы процедил Ванокин и переступил с ноги на ногу, – связки порвете.
– Не тронь! – опять прокричал старик, не слыша Ванокина.
– Сумасшедший! – проговорил Ванокин и сделал шаг назад, чуть не споткнувшись о перекинутый стул.
Старик же опустился на колени (мне теперь была видна только его голова, пригнулся низко к полу), и когда поднялся, с трудом, качнувшись, словно потеряв на мгновенье равновесие, то коробочку прижимал к груди обеими руками.
– Не выйдет… И нечего здесь… Захотел… – говорил он сквозь одышку. – Комедию ломать… Не дам… Ничего не получишь.
– Это вы, папаша, сами того… комедиант, – через силу улыбаясь, сказал Ванокин и было потянулся поднять стул, но остановился, как бы передумав. – Все это с вашей коробочкой только фокус, потому что риска никакого. Это вы-то и есть комедиант.
– Ничего не получишь, – продолжал старик свое, не слушая и все так же прижимая коробочку. – Захотел…
– А я, папаша, между прочим, на подмостках подвизался, – совсем уже оправившись, заговорил Ванокин, – и в отличие от вас на профессиональной, так сказать, сцене. Не очень долго, но достаточно. Всякие роли играл, хотя, буду справедлив, все больше такие, в которых обеды объявляют. Но уж насмотрелся много. Всяких г е р о е в повидал: и из прошлой, и из нынешней жизни, и заграничных. Так вот, вспомнил я сейчас одного занятного принца, Гамлетом звали. Этот Гамлет, чуть что не получается, все одну фразу твердил: «Быть или не быть». Я вот тоже сейчас подумал про себя: «Быть или не быть?» Вот в чем весь вопрос-то.
– Ничего не получишь, – опять произнес старик, не поднимая головы.
– Да что вы все заладили: не получишь, не получишь. Это еще видно будет. Потом. А сейчас я про принца порасскажу. Может, слышали: принц датский? Там есть одна сцена, очень даже примечательная. Королева, она же и мать принца, приглашает его для разговора по душам: мол, поговорим наедине, как родные, и все промеж себя выясним. Там еще король, злодей, отчим, он родного отца принца убил и государством завладел. Кажется, что-то ему в ухо налил, когда тот спал. Оно ведь сон у королей, не то, что у простых смертных: этот влил, а тот и ухом не повел. Впрочем, за точность не ручаюсь – не помню уже. Но дело не в этом. Королева, значит, сына уверила, что они в комнате одни, то есть разговор тет-а-тет. Но принц был умный, он-то подразумевал, что мамаша того, и обманет – не дорого возьмет. И вот в один момент принц выхватывает шпагу (Ванокин приставил трость к бедру и стал ее медленно тянуть, как бы вынимая из ножен). Да вы следите, следите внимательно.
Старик теперь смотрел на него, и лицо его из настороженного делалось растерянным.
– Он вытаскивает шпагу, – продолжал Ванокин, вытянув трость и подняв ее над головой, – и вдруг как крикнет: «Матушка, у вас здесь крысы!» И шпагой…
Ванокин резко развернулся и, держа в вытянутой руке трость перед собой, бросился в мою сторону.
Все произошло так быстро, что я только успел увидеть конец трости у самых своих глаз. Я дернулся назад, руки мои раскинулись, не находя опоры, я наткнулся спиной на стул, свалил его и уже через стул упал на пол ванной, больно ударившись затылком. Падая, я задел еще и табуретку: она опрокинулась, стакан с апельсиновым соком разбился, и брызги достигли моего лица.
– Ставлю золотой, что не уйдет ни одна! – патетически прокричал Ванокин, резким движением сорвав портьеру и отбросив ее в сторону. – Финита ля комедия!
Это было последним, что я услышал, прежде чем потерял сознание.
3Мой обморок продолжался недолго, думаю, что не более минуты.
Когда я открыл глаза, свет в ванной был уже включен. Ноги мои лежали на перекладине стула, табуретка – на руке; вокруг битое стекло, и ломота в затылке. Я пошевелился, с моей груди свалился большой осколок, раза два подпрыгнул со звоном на плитках… Передо мной стоял Ванокин с тростью в руке, а из-за его спины выглядывал старик с перекошенным, как от острой зубной боли, лицом.
Как только смолк звон осколка, Ванокин медленно вытянул руку и приставил трость к моей груди.
– Все кончено, – произнес он и, повертев тростью, добавил: – Меж нами связи нет.
– Уберите, – сказал я зло.
– Да, да, уберите, пожалуйста, – подхватил старик из-за спины Ванокина, и выражение страдания на его лице еще усилилось.
Ванокин трость убрал, но с места не сдвинулся. То, что я так беспомощно лежал здесь перед ним, уже было нехорошо, но я и лежал еще в какой-то неловкой позе; и подняться не мог, потому что он стоял здесь и мешал, хотя попытки усиленного шевеления я предпринимал.
– Отойдите, – сказал я угрюмо и не глядя на него.
– Да, да, отойдите, – вновь поддержал меня старик, – ему так неудобно…
– Ах, неудобно, – сказал Ванокин. – Ему, видите ли, неудобно. А шпионить удобно! В щелочку смотреть, на, можно сказать, интимные сцены удобно! А стульчик здесь тоже для удобства поставили? – оглянулся он на старика и посторонился, пропуская того.
Старик потянул стул на себя, а я, осторожно смахнув осколки, оперся на руки и поднялся. Верхняя часть брюк и рубашка были мокры и липки.
Ванокин не отходил, стоял боком в дверях, смотрел на нас, легонько постукивая тростью по ладони; мой же стыд смешался со злостью, и я уже не понимал: где, что и чего больше? Я вымыл руки, потер мокрой ладонью брюки и рубашку. Все это я проделал медленно, стараясь не смотреть ни на старика, ни на Ванокина и казаться равнодушным. Но Ванокин не отходил, а старик копошился возле, поминутно задевая меня: кажется, он мне даже больше мешал. Но все равно: время шло, и невозможно же было находиться здесь вечно – придется, хочешь не хочешь, выползать на свет. Собравшись, я прямо посмотрел в глаза Ванокина, он отвечал мне нехорошей улыбкой.
– А что, папаша, – перевел он взгляд на старика, – где это вы свою коробочку ненароком обронили? А? Как-то нехорошо получается, непоследовательно: грозились показать, подразнили и – на тебе, исчезла коробочка. А – папаша?
Старик не ответил, с чем-то там возился в углу ванной и только кряхтел.
– Ну что, – обратился Ванокин ко мне, – все высмотрел? Доволен? Ты что, здесь на страховке сидел? Думал, я брошусь почтенного старика душить? А, старец? Этого боялся? Не бойсь – может быть, и обошлось бы.
В этот момент старик обернулся, мельком и строго глянул на меня и обратился к Ванокину (должен заметить, что весь его растрепанный вид – сдвинутый на сторону галстук, жилет с болтающейся на нитке пуговицей, перепачканные колени и помятый пиджак, – все это мало соответствовало тому тону гордой независимости, в котором он стал говорить):
– Я думаю и надеюсь – после всего случившегося здесь, вы должны понять, что разговор наш продолжаться не может и что мы должны прекратить с вами всякие сношения, потому что все это напрасная трата времени. В противном случае вы вынуждаете меня, чего я сам очень бы не желал, прибегнуть к защите закона… от ваших посягательств. Очень надеюсь, что вы верно истолкуете мои слова.
– Напрасно надеетесь, – тут же отвечал Ванокин. – И нечего брать на тон. Во-первых, я отсюда так просто не уйду, во-вторых, что касается «защиты закона» – это вы того, оставьте для дурачков. А если захочется обращаться, то вместе с коробочкой не забудьте мешочек с сухарями прихватить. Так-то!
– Я вам сказал… – возвысил голос старик.
– Силы поберегите, – перебил его Ванокин. – И нечего воздух попусту колебать. А что до разговора нашего, то он только теперь и начинается по-настоящему. И пусть ваш… компаньон присутствует, мне все равно – я ничего не скрываю и никого не боюсь. Я пришел получить свое, и я его получу. А что здесь этот ваш… помощник, то это и хорошо – пусть послушает, поучительно. А то можно его опять за занавеску посадить, если ему так удобнее слушать. И стульчик поставить, и поесть принести…
– Это не ваше дело, – откликнулся я вдруг, сам не сознавая, что же я такое говорю, а лишь потому, что молчать дальше было невозможно.
– Брось, – сказал Ванокин, презрительно растягивая губы. – Молчал до этого, так и сейчас молчи. С тобой еще особый разговор будет – тема имеется. Прыток ты очень, как я погляжу. А по лицу не скажешь – вежливое лицо. А к Марте-то похаживал. Ты что думал, я это так оставлю! Будь у меня это, – он помахал тростью, – поострее, не задумываясь, как букашку бы проткнул.
– Не очень-то… – проговорил я, но совсем неуверенно, слова мои запнулись в горле; упоминание о Марте поворачивало мое здесь присутствие еще одной стороной.
Ванокин на мои слова только махнул рукой.
– Ну что, Владимир Федорович, пройдем в гостиную, что ли? А то нам троим здесь места не хватает; и тесновато здесь, и дотянуться друг до друга легко уж очень.
Он повернулся к нам спиной, медленно подошел к столу, поднял опрокинутый стул и сел – так же боком к ванной комнате, как и во время предыдущего разговора. Я посмотрел на старика, он ответил мне холодным взглядом и вышел в комнату, и тоже опустился на свой стул напротив Ванокина. Я остался один. Я посмотрел, куда бы сесть и мне: сесть у стены – как-то обидно, а если взять стул, то куда поставить? Наконец, чуть помешкав в дверях, я прошел мимо Ванокина и сел на кровать за спиной старика.
Теперь мы сидели лицом к лицу: он и я. И невольно думалось (а мне хотелось, чтобы у Ванокина было бы такое же чувство), что старик здесь как бы даже и лишний. Не то чтобы особенно мешающий, но посторонний. Все сместилось в моем сознании, и я самого себя вдруг выдвинул на первую роль. Весь их предшествующий разговор, и сцена с коробочкой, и последующее разоблачение меня, – все это представлялось не очень значащим теперь, и тоже излишним. А если и не излишним, то как подготовка к главным событиям, которые теперь должны начаться. И все потому, что было упомянуто имя Марты. Если бы только знать, что все так обернется, разве бы я согласился, то сидел бы там недолго и еще в самом начале смело бы себя обнаружил. Нет – это сидение, это было все-таки нехорошо, это многое портило. Но я думал: «Что ж, во-первых, я себя подверг испытанию ради другого, а во-вторых, испытание унижением, может быть, самое и трудное. Во всяком случае, я его прошел».
Эта мысль понравилась мне: испытание унижением. При этом «унижение» как-то отходило на второй план и заслонялось «испытанием». И мне хотелось думать, и я побуждал себя чувствовать это – что испытание мое во имя… Марты.
Мы сидели втроем и некоторое время молчали: то ли случившейся предыдущей сценой была прервана какая-то связь, то ли трудно было продолжить в этом новом составе. Ванокин изучающе смотрел и на меня, и на старика; старик ко мне не оборачивался, а наблюдал за Ванокиным, но я видел, что мое (теперь явное) присутствие ободрило его, и он даже заправил свой галстук за жилетку. Молчал и я – не мне было начинать.
– Ну что, Владимир Федорович, думаю – продолжим? – сказал Ванокин, сделав круг тростью в воздухе; он теперь ее не выпускал.
– Не о чем продолжать, – отрезал угрюмо старик.
– Почему же – мы будем. Тем более что теперь у нас есть и судья. Он хотя и на вашей стороне, и мой противник еще в другом деле, но я согласен, чтобы он судил. Если по справедливости. А другое дело мы потом сами разберем. В тиши, – добавил он, ухмыльнувшись. – Ну что – будешь судьей?
– Я вам не судья, – сказал я и тут же осознал, что сказал хотя и то, что хотел, но как-то не так; но добавить уже ничего не сумел.
– Ну к чему же такое само – так сказать – умаление, всякий всякому судья, если разобраться, а если и не судья, то все равно судит. Такая уж наша природа. Судить не трудно и приговор выносить не трудно. Вот исполнять – это, пожалуй, потруднее, да и то часто не от желания судьи зависит. А просто – руки коротки. А были бы подлиннее – многое бы стало другим.
– Мы здесь собрались, я надеюсь, не для торжественного спора! – вмешался старик.
– Ах, да, простите, простите, – комически спохватился Ванокин, – не в свою область залез. Хотя и люблю… иногда. Но простите. Итак, вот вам мой первый вопрос: куда это вы коробочку запрятали, пока я вам так красочно из трагедии представлял?
Старик только взглянул на него, не без высокомерности, и отвел взгляд в сторону.
– Вам мой вопрос не нравится – понимаю. Но вынужден его задать снова. В нем, – он обратился ко мне, – собственно, все и дело. Ты все внимательно прослушал, конечно. Так что объяснять по новой нет смысла. Напомню главное: так как у присутствующего здесь (он сделал серьезное лицо) хранителя был договор с моей матерью о том, что в случае его смерти ценности остаются ей, то, получив извещение о его смерти, она, а следовательно и я, как сын и наследник, стали владельцами… Извещение, как потом оказалось, было ошибочным. Но мать этого знать не могла. И только по случайности она не воспользовалась камушками. Я бы мог требовать все – здесь тоже мое полное право. Но я требую только часть: ту самую, предположительно, которую могла бы потратить моя мать до «воскресения из мертвых». Мы должны эту часть определить. Вот и все.
Досказав это мне, он обратился к старику:
– А вас, Владимир Федорович, я очень прошу подтвердить, что я сказал правду.
– Я ничего подтверждать не буду.
– Ах, не будете, – с неожиданной угрозой проговорил Ванокин. – Присвоил денежки, а теперь «не будет»! Раньше надо было думать! Обманули одну женщину, потом другую: Марину свою почти что в тюрьму засадили, а мою мать…
– Не смейте мне угрожать! – воскликнул старик, ударив рукой по столу. – Я, может быть, и говорил бы с вами, но такой, как вы, не имеет на это… не заслуживает, чтобы с вами говорили, тем более…
– Это мои нравственные качества вас не устраивают? – перебил Ванокин. – Или лицо мое вам не пришлось?.. А если бы пришлось, то вы бы так и выложили.
– Да, не пришлось, – вставил старик.
– Мне тоже лицо ваше видеть не хочется – век бы его не видел.
– И хорошо!
– Нет, извините, так не пойдет: не отвертитесь. Как миленький выложите. И ваши помощники вас не защитят. И с ними сумею управиться. Со всеми сумею управиться! С вашей же жизни пример для подражания беру – всех на пути убирать, я тех, кого любишь, тоже. Ишь, праведник какой выискался! Какой идейный! И законом мне угрожал! Да я сам в первое же отделение милиции пойду, и заявление там оставлю, и все в заявлении подробно опишу – пусть разбираются. Там и ответите: откуда у вас, скромного человека, такой капитал. Он передать хочет! Я тебе передам! – на том свете не забудешь.
– Вы бы это… потише, – вступил я.
– Да, поосторожней, – поддакнул старик и обернулся ко мне.
Эта его поддержка совсем была мне не нужна и более всего меня раздражила. Я, конечно, не мог ему объяснить, что я, хотя и выполняю его просьбу, и, в общем-то, готов его при случае защищать, но что я все-таки сам по себе. Вот это: что я сам по себе – ни старику не было понятно, ни Ванокин так не принимал.
Моя реплика и поддержка старика не то чтобы сбили Ванокина, но в буквальном смысле поразили его.
– Что-о? – проговорил он негромко, не грозно, а удивленно, и я, в свою очередь, удивился тому, как не шло удивление лицу Ванокина – удивление было чуждым для его лица выражением.
Впрочем, он быстро оправился, и чуждое, случайно выскочившее выражение заменилось прежним – соответствующим.
– Что такое? – проговорил он опять. – Я вижу, что с вами по-хорошему не выходит. Не понимаете вы по-хорошему. Отвыкли, наверное. Ладно. Будем считать, что я сделал все, что мог. Итак, я задаю итоговый вопрос: согласны ли вы вернуть принадлежащие мне деньги, мою часть?
– У меня нет никаких денег, – сказал старик.
– Хорошо, пусть будет – ценности. Согласны отдать?
– Нет.
– Хорошо. Очень хорошо. Потерянное время запишем на ваш счет. Ну ладно, теперь я буду вас разоблачать. Я уже упомянул о вашей родной (я подчеркиваю это слово) дочери. По некоторым соображениям, будучи с нею коротко знаком, я не рассказывал ей всего. Правда, намекал, что отец у нее есть. Я хочу сказать – живой отец. Не рассказывал же я не из гуманных соображений (не тешьте себя), а потому, что до времени не хотел излишнего сгущения дела. Теперь я расскажу. Это – раз. Второе, не позже, чем завтра, я вам устрою свидание с дочерью, чтобы вы могли как следует объясниться, по-родственному, и объяснить ей, что мать ее преступница и что вы, как честный гражданин и хороший человек, только исполнили свой долг, донеся на нее. Третье…
– Я не доносил, – быстро сказал старик и мельком глянул на меня.
– Нет, доносили, и очень даже последовательно. И с рвением.
– Это ложь! Вы этого знать не можете.
– Как же не могу, если знаю. У меня и документик есть. Я вам его показывал, но вы, как видно, невнимательно прочли. Это ее письма, вашей жены.
– У меня не было жены, – проговорил старик устало и почти неуверенно.
– Ну, если вы такой ревнитель закона… В самом деле, печати в паспорте вы не имели. Но если мужчина живет с женщиной, а потом у них рождается ребенок, то как называть эти отношения? Вам, по-видимому, больше нравится слово – любовница, или, наверное, сожительница? Так вы так и скажите, я так и буду называть. Для удобства. Хорошо, я поправлюсь: письма вашей сожительницы, Марины. Так вам больше нравится?
– Оставьте меня, прошу вас. Я себя плохо чувствую. Я болен, разве вы не видите? – вдруг просительно произнес старик и опять оглянулся на меня; я опустил глаза.
– Как не видеть – вижу, – проговорил Ванокин. – К тому и веду. К тому и веду, чтобы вас к самому концу подвести. А как вы хотели?! Думали, я жалеть стану? Нет, не стану. Тем более что вы-то сам никого в своей жизни не жалели. Оставьте его, видите ли! он, видите ли, болен! И хорошо. А вы думали, что я вас пилюлями лечить буду? Вот скажите мне, – продолжал он, но уже другим тоном. – Вот скажите, – и если вы сможете ответить, то, может быть, и помилую вас, – хоть одному человеку на свете ваша жизнь что-нибудь хорошее принесла? Хоть одному человеку! Да что там человеку – хоть одному существу: собаке, кошке? А? У вас небось и кошки никогда в доме не было. Ну, что молчите? Я вопрос задал.
– Я жил не для себя, – после некоторого молчания ответил старик.
– Ага, не для себя, значит. А для кого же вы жили? Я о том и спросил.
Старик вздохнул, тронул узел галстука, вздохнул опять, полуобернулся ко мне, но не довел взгляда, расстегнул пуговицу жилета, застегнул. Ванокин терпеливо ждал – терпеливо и серьезно. Что-то как будто изменилось в нем (нет, не в настроении только, но в нем самом), и как я ни пытался увидеть притворство, затаенную игру – ничего не видел. Или же он был таким тончайшим артистом, или же… Но об этом я думать не хотел. Я это боялся облечь в слово. Ведь если он и в самом деле… то я-то как тогда? мне-то как быть? а Марта? И как же я тогда смогу его побеждать?
Старик поднял глаза на Ванокина. Я не видел его глаз, но думаю, что в них выразилось что-то похожее на безвыходность и даже (судя по тому, как ссутулилась его спина) безысходность.
Ванокин чуть сдвинулся на стуле и уже взял воздуху, чтобы начать… Но старик опередил его.
– Я жил не для себя, – чуть слышно выговорил он. – Я жил для… цели, ради цели. Я был хранитель…
Я ожидал, что сейчас выйдет одна из сокрушающих фраз, которых у Ванокина, как я мог убедиться, достаточно припасено, а еще многие творились на ходу. Мне показалось, что и старик ожидал того же. Но я ошибся.
Он поднял глаза на меня, перевел взгляд на старика. Но в глазах его не было определенного выражения, то есть, хотя он и посмотрел, но это было только движение.
– Хранитель, – еще помолчав, сказал он и теперь уже внимательно посмотрел на старика, как будто что-то примеряя или примеряясь.
– Хранитель, – повторил он. – А для чего?
Старик недоуменно и с недоверчивостью взглянул на него; Ванокин пожал плечами:
– Ну да, для чего?
– Что? – осторожно спросил старик.
– Я спрашиваю: для чего хранить? С какой целью?
– С какой целью?
– Да, с какой?
Старик тронул узел галстука и тут же отпустил руку.
– Хорошо, я скажу, – Ванокин прочертил концом трости круг на столе. – Вы хранитель больших ценностей (для удобства скажем, какого-то цельного куска). Вы, как бы ни было вам трудно, не размениваете этот кусок и не используете его в личных целях. Так! Мало того, вы устраняете все препятствия, чтобы этот кусок не мог быть использован другими. Так? Так! То есть личной заинтересованности у вас нет. Вы даже идете, скажем, на жертвы: теряете любимую, родных… И вы добиваетесь, сохраняете ценности в целом виде. Теперь вы хотите их передать другому хранителю, чтобы он продолжил ваше дело. Но вот вопрос: для чего вы сами хранили? и для чего должен будет хранить другой? А ведь и этот другой должен будет пойти на жертвы. И неизбежные, судя по всему. Должен же быть какой-то смысл!
– Должен, – старик пожевал губами. – И он есть.
– Да?
– Да. Потому что это не просто сила, но – чистая сила.
– Значит, есть и не чистая?
– Есть, – сказал старик и, не дожидаясь возражения или вопроса, продолжил: – Смысл в том, что это – сила.
– Ну-у, – протянул Ванокин разочарованно, но старик не дал ему говорить.
– Да, в этом смысл, – твердо произнес он. – И что пока она чистая, то что-то другое… в мире…
При этой последней фразе голос его почти что зазвенел, и он вскинул голову и с торжественным лицом обернулся ко мне. Не могу сказать, что торжественность его была ложной или что она была наивной – нет, этого не могу сказать. Может быть, в ней было что-то защитное. Наверное, но только отчасти. Во всяком случае, это его выражение (к слову сказать, совсем не к месту явившееся) никак нельзя было осмеять. Разве что если задаться целью.
Ванокин ответил не сразу: он прочертил на столе что-то наподобие квадрата и только потом обвел-таки его кругом.
– Допустим, – сказал он, не поднимая головы и продолжая чертить. – Но что это такое – чистая? Перед кем чистая или в противопоставление чему? И если чистая, то почему бы ее не употребить? Тогда лучше сказать, что хоть она и чистая (заслуга большая), но в то же время и мертвая. И назвать ее правильнее – «чистая мертвая сила». Но тогда, – он отложил трость и, не сразу найдя положение рук, наконец сцепил пальцы, – если она мертвая, то и смысл чистоты уходит. Ведь всякий (или всякое) мертвый, с того самого момента, когда приходит смерть – чист во все последующее время. Так? Так! – и он поднял глаза на старика.
– Нет, не так! – твердо сказал старик и не отвел взгляда.
– Интересно.
– Нет, не так, – упрямо повторил старик. – Сила эта, во-первых, не мертвая, а только не действующая, а во-вторых, она чистая без противопоставления, сама по себе.
– А, – подхватил Ванокин, – тут и ошибка – нарушается главный принцип. Сила не может быть сама по себе, она обязательно должна воздействовать, иначе это не сила.
– Но разве она не воздействует? – проговорил старик, и впервые за все время разговора что-то наподобие улыбки – хотя только чуть-чуть и слабо выраженной – проявилось на его лице.
– Как?
– Она всю жизнь меня томила, от себя не отпускала, а теперь и вы… хотите. Разве это не воздействие? Вот и подтверждение.
– Да? – сказал Ванокин, но больше для самого себя и озадаченно. – А как же… – начал он, но не договорил.
Должен признаться, что в тот момент я перестал что-либо понимать. То есть я понимал суть разговора, но не понимал, почему они (и Ванокин в первую голову) об этом заговорили и почему т а к заговорили. Особенно Ванокин: что за нужда была в этом теоретическом выяснении?
Оставалось одно: предположить, что все, происходящее сейчас, происходит ненамеренно (ни с чьей стороны) и что все пошло вдруг не по логике и уму, а по душе. Но если признать, что по душе, тогда все, что было по логике, – все неправда, ошибка или злой умысел. Но сейчас, глядя в лицо Ванокину, я невольно (и подчеркиваю, что невольно) думал, что никакого злого умысла у него быть не могло, а если и совершалось зло, то только от неведенья, запутанности собственной жизни.
Мне даже стало представляться, что (хоть это и фантастически, если по логике) они, противники, встанут вдруг, и подадут друг другу руки с любовью, и обнимутся по-братски. Я увидел, как Ванокин длинной своей рукой обхватывает шею старика, и как тот уткнул лицо в грудь вчерашнего врага, а теперь брата, и как вырываются плохо сдерживаемые рыдания; а лицо Ванокина сморщено, и на глазах слезы. Вот такую я увидел картину, и она мне показалась не просто красивой, но и возможной.
Я так все себе и нарисовал, пока продолжалась пауза, но вдруг простая, реальная, логическая мысль пришла ко мне, а вернее – вторглась. Вторглась и все перечеркнула. Во всяком случае, моя картина, если и не перестала быть живописною, но сделалась совершенно невозможной. Я вспомнил о ценностях, об этой пресловутой «силе». «Ну да, обнимутся по-братски, со слезами на глазах, с плохо сдерживаемыми рыданиями, скажут друг другу хорошие и добрые слова и еще что-нибудь хорошее и доброе произведут: словом ли, жестом ли – и наступит счастливый конец. Но (и в этом все дело) никакой конец, тем более счастливый, наступить никак не может. А потому не может, что главный вопрос не решен: куда девать эту «силу», эти ценности? Нужно же куда-то их деть! Не исчезнут же они сами собой! Да и как может исчезнуть такая «сила»!
Так я подумал, и от собственных таких дум мне стало грустно и не по себе. Я опять посмотрел на лицо Ванокина и уже не смог его представить со слезами на глазах; и на руку его, катающую по столу трость, я посмотрел и опять же не мог уже представить, что такая рука обнимет шею старика по-братски. Обвить-то, пожалуй, сможет, но чтобы по-братски…