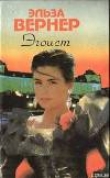Текст книги "Чистая сила"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
Алексей Михайлович ушел, а я постоял возле двери: ничего не дожидаясь, не думая войти, вообще ни о чем не думая, а так – помедлил для разгона. Помедлил и пошел искать Коробкина. То есть я сделал только шаг от двери, но тут же понял, что иду искать Коробкина, чтобы он, когда я буду сидеть за портьерой, стоял бы где-нибудь поблизости.
И не потому я, конечно, пошел искать Коробкина, чтобы исполнить просьбу старика; последнее только в малой мере. Дело в том, что Коробкин нужен был мне самому. Мне нужно было, чтобы он поучаствовал: ему такое предложение должно было бы прийтись по вкусу (если кто и скучал здесь, то он в первую голову; и главным образом от самого себя), мне же не хотелось себя чувствовать в дураках в одиночестве. Оно, может быть, и некрасиво так, но что было делать?! И потом – хотя и некрасиво, но и вполне невинно. Так больше игры, чем смысла. Тем более что после разговора с Алексеем Михайловичем, а в особенности после его рассказа, все, что мне до того представлялось чуть ли не зловещим в предстоящем событии, как-то незаметно зловещим быть перестало, и если я все-таки не думал, что предстоящее – фарс или очень похожее на фарс, то только потому, что запретил себе так думать. «В конце концов, – говорил я себе, – уже пообещал. А если больному старику вздумалось из неприятного свидания сделать таинственное – это его дело, и вполне простительно при таком его состоянии».
Так я говорил себе – довольно убедительно и довольно безразлично. И никакого волнения не было во мне. Это так. Но все отгонял от себя сегодняшний назначенный вечерний час, а он все возвращался. Я еще раз объяснил себе многажды объясненное, и получилось еще более убедительно. И вопрос уходил, как бы удовлетворенный объяснением, и назначенный вечерний час уже не лез в глаза. Но – ненадолго. Только на несколько часов. И опять – все сначала. И опять я был терпелив с самим собой.
Но вдруг, на каком-то из шагов, а шагал я неспешно, я остановился. Остановился я на медленном шаге, но так вдруг, словно среди быстрого бега, словно даже и не сам я остановился, а кто-то резко дернул меня за руку.
«Как же это? Что же это такое?» – сказал я себе, еще не вполне понимая, отчего так говорю и отчего стою.
Но здесь я понял и устыдился того, что понял. Как это я мог так скоро и так ловко забыть все? Как мог превратить все в игру? Хоть и неинтересную для меня, но игру. А вот ведь смог, и очень даже просто. Вот мне неловко, что в вечерний назначенный час я должен буду сидеть за портьерой. Но мне не было неловко (к стыду моему – совсем никак не было), что я так легко сумел забыть все страхи и волнения этих дней, и главное, забыть о страхах и волнениях тех людей, которые были мне… к которым я чувствовал расположение. Как же так? – еще вчера искал я Марту, чтобы помочь ей, – и мучился; еще сегодняшней ночью я записывал ее историю – и волновался; еще полчаса назад я слушал рассказ Алексея Михайловича – и это все забыто, словно этого ничего не было, словно все это какой-нибудь пустяк, который меня не касается, а если и касается, то – свое спокойствие дороже. Так? Так! Да отчего же оно мне дороже – мое спокойствие? И для чего оно мне вообще нужно, это мое дорогое спокойствие?! Слишком дорогое, если я мог, не глядя, отдать за него столько. Да кто же я сам-то есть на самом деле! Это как если бы на моих глазах били ребенка, а я бы заступился, но потом, через минуту, забыл бы все, не желая думать, что после моего ухода его станут опять бить, да еще и с большим ожесточением от моего заступничества. А я бы все забыл и с чувством исполненного долга пошел бы себе легкой походкой с «ля-ля» на губах, не думал бы о случившемся, а думал бы о том, как хорошо, к примеру, броситься в теплое море и плыть, сильно работая руками и ощущал каждый мускул своего тела, каждый мускул, и все его целиком, как только твое, тебе одному подчиненное, тебе только служащее, тебя только радующее естество.
Ну ладно, пусть она будет называться природным инстинктом самосохранения – моя скорая забывчивость. Пусть это будет инстинктом. Пусть. И отдадим должное разумной природе. Но кто же мне самому позволил быть р а з у м н ы м?! Кто мне позволил быть т а к и м разумным!
«Ну да, конечно, – скажет мне знакомый голос внутри меня, и тоже мой голос, – в твоем положении некрасиво особенно веселиться теперь, все-таки эти люди тебе не совсем уже чужие, и коль скоро (судьба ли, не судьба) что-то связало тебя с ними, то будь добр и о них подумать». Так он мне скажет, помолчит и продолжит мягко и наставительно: «Но напрасно думаешь, что нужно себя болезнями других так уж измучивать. Это, может быть, и благородно, но прикинь сам: во-первых, если ты себя так измучаешь, что еще, не дай бог, заболеешь или, по крайней мере, очень ослабеешь, то как же ты им сможешь помочь, когда сделаешься слабым – ты даже и поболеть за них как следует не сможешь, вследствие резкого ослабления своего организма; во-вторых, а это главное, нужно научиться – опять же для пользы дела – соизмерять свои возможности и силы свои тоже уметь распределять, ведь не для одной же отзывчивости на боль чужую человек в этом мире рассчитан, он еще должен что-то свое в этой жизни совершить; в-третьих же, совмещая первое со вторым (и прошу тебя, не бойся этих слов), нужно сначала свои дела устроить, а уж потом браться за дела человеческие (человечества, если тебе угодно) – калека не имеет физической возможности вплавь броситься, чтобы тонущего спасать, как бы ему того ни жалко было; и с больной головой (со своей больной головой) помочь другим головам сделаться здоровыми и ясными невозможно. Так что – веселиться, конечно, особенно нечего, но и корить себя понапрасну тоже, знаешь…»
Голос этот был моим (одним из моих), и я его дослушал, хотя и знал наперед, что он мне будет говорить и в каком роде. Нет, я не стал отвечать, я опять подумал: «Пусть инстинкт самосохранения – это от природы, и он разумен, но я-то почему ему должен потакать, коль скоро знаю, что совсем не то он мне говорит и совсем не туда ведет. Инстинкт инстинктом, но я-то сам что такое?! И почему-то я знаю, что хотя он и разумен, но это разумность стыдная? Что-то, значит, есть во мне, что не просто природа и не просто ум, но еще что-то такое, что как бы мерило всего, какая-то часть ИСТИНЫ».
И здесь мне вдруг представилось такое… Я подумал, что если истина что-то цельное, а по-другому быть не может, то… Если в каждом человеке есть частица этого великого и непознанного, а люди всеми веками своей истории стремятся достичь ее, истину, добраться до познания ее или хотя бы подобраться к ней поближе, то, чтобы получить ее, нужно сложить те частички, что есть в каждом человеке. А чтобы сложить их, нужно всем стремиться друг к другу. И человеку нельзя быть равнодушным к другому, к другим, ко всем, и он должен всегда помнить, что без частицы другого его частица как бы неполноценна – она есть, но только сама по себе: и ни человеку ничего не добавляет, ни он ничего не добавляет миру. Истина, как зеркало, но оно разбито, и по кусочку его дано каждому живущему (одному меньший кусочек, другому больший). Но кусочек этот, зеркальный осколок, так мал, что человек не может увидеть в нем самого себя, и он не может иметь потому настоящего о себе представления. Даже уже сложив два кусочка, можно увидеть больше. Но только когда все эти осколки можно будет (если можно будет) сложить в целое зеркало, только тогда человек увидит по-настоящему, что он такое есть в мире и для чего он в этом мире.
Так я думал, и так представилось мне, и сделалось мне радостно и тревожно. «Ну что ж, – сказал я себе, вставая (во все продолжение времени я сидел на скамье, в сквере напротив набережной; я и сам не помнил, как пришел сюда), – пойду искать Коробкина. Теперь его надо найти потому… потому, что старик просил». И больше ничего себе не говоря, ни в чем себя не убеждая, я быстрым шагом отправился в сторону пляжа.
Еще издалека я увидел красную рубашку, которая была наброшена на валун (камень этот лежал с одной стороны пляжа, метрах в пятидесяти от начала скалистой гряды; наверное, когда-то он был частью гряды, но сейчас лежал в одиночестве). Подойдя, я увидел и самого Коробкина: он лежал на животе, голова его была покрыта носовым платком с узелками на концах, а спина простыней от шеи до икр. (Должен заметить, что простыня лежала так гладко, без единой морщинки, словно он не сам укрылся, а кто-то его аккуратно накрыл.) Я дернул конец простыни, и он поднял голову.
– Что, так с утра и лежишь? – сказал я подсаживаясь.
– А, это ты? – проговорил он вяло и стал выползать из-под простыни. – Что делать – привычка.
(Наверное, он под нее так же и вползал, но я не стал спрашивать.)
– А ты что, погреться? – оправляя простыню и усаживаясь на турецкий манер, сказал он. – Что-то тебя невидно. Гуляешь?
– Так, – отвечал я, – кое-какие дела.
– Дела – это хорошо, – заметил он уныло и, стянув с головы платок, стал зубами развязывать узел.
– Кстати, у меня к тебе тоже дело, – сказал я, стараясь придать своему голосу достаточно деловой и строгий тон.
Коробкин, не выпуская изо рта узел, с которым все никак не мог справиться, поднял на меня глаза. Я выдержал (для внушительности) паузу, а он так и застыл с узлом в зубах, и взгляд его выказывал нетерпение.
– Один человек, – вступил я наконец, – ты его видел, наверное, такой высокий старик, Никонов (при этом Коробкин тряхнул головой и сумел-таки вырвать узел), – так вот, он просил меня об одном… по делу, а так как нужен еще один человек, то он указал мне на тебя, как на такого, на которого можно положиться.
– Как – сам указал? – сдержанно проговорил Коробкин.
– Да, да, сам, – отвечал я, насколько возможно стараясь изобразить, что это само собой разумеется.
– Но мы с ним не знакомы, – так же сдержанно сказал Коробкин, но глаза опустил, – как же он меня знает?
– Ну, не знаю, – пожал я безразлично плечами, – я не спрашивал.
– Да? – буркнул Коробкин, но глаз не поднял.
– Да, не знаю, не спрашивал, – повторил я. – Может быть, наблюдал, присматривался, узнавал, может быть.
– У кого?
– Не знаю у кого. Не у меня. Людей вокруг много.
– Так, – четко выговорил он, поднял глаза, и лицо его приняло испытывающе-строгое выражение, – я слушаю.
Я (про себя, конечно) облегченно вздохнул:
– Дело, понимаешь, необычное. У старика предстоит один разговор с одним человеком. Разговор этот сложный…
Я сделал паузу, как бы не решаясь продолжать. Во время этой паузы строгость с лица Коробкина исчезла, он нетерпеливо придвинулся ко мне, коротко шепнул:
– Ну что?
Я провел ладонями по лицу, потер виски, сдвинул брови и обратно их раздвинул, ковырнул носком туфли песок и только тогда продолжил:
– Этот человек, кто придет к старику, я его не знаю, но может быть, что он из здешних, – я провел рукой полукруг в сторону пляжа; Коробкин внимательно проследил мое движение. – Он, этот человек, он…
Я опять прервался. Коробкин еще ближе придвинул лицо к моему.
– Опасен, – выговорил я. – А может быть – и очень опасен.
Коробкин, не поворачивая головы, повел глазами в одну сторону, потом в другую, остановил их на мне и, глядя в упор, кивнул утвердительно (движение вышло таким, как если бы его слегка задели по затылку).
– Видишь ли, – продолжал я и здесь уже не лукавил, – я не могу сказать тебе, в чем там дело, только потому, что сам не знаю. Знаю, что этот человек прислал ему письмо с угрозами и сегодня, к восьми часам, должен быть…
– С угрозами? – воскликнул Коробкин чуть ли не радостно, во всяком случае очень оживленно.
Но я сделал лицо строгим и строго же повторил, наклонив голову:
– С угрозами.
– Значит, сегодня в восемь, – сказал он осторожно.
– К восьми, – отвечал я.
– А какова моя задача? – еще ближе (хотя уже и не было куда) приблизился ко мне Коробкин и тут же добавил: – Я готов.
– Задача простая, – сказал я, – но и ответственная.
Ты будешь стоять на улице, внизу, под верандой, а когда этот человек войдет, поднимешься на веранду и будешь недалеко от двери, на случай, если…
– Если что?
– Не могу тебе точно сказать, но может понадобиться твоя помощь в комнате. Тогда я тебя вызову или ты сам подойдешь. Или же… Или же, если к этому человеку захочет прорваться сообщник, чего я тоже не исключаю, то ты его задержишь. И если нужно, то и силой.
– А где ты будешь… когда я на веранде?
– Я буду в комнате.
– Как? С ними?
– Нет, в укрытии.
– А-а, – протянул Коробкин и вдруг сказал просительно, совсем по-детски: – А можно я в укрытии?
– Нет, – не допускающим возражения тоном отрезал я.
– Понял, – коротко вздохнул он и опять тряхнул головой.
Игра моя была для меня очевидна, и, собственно, можно было обойтись и без нее, он бы и так согласился, но мне хотелось доставить ему удовольствие. И моя цель была быстро достигнута. Коробкин пришел в радостно-возбужденное состояние: он то вставал и шел к камню, поправлять и без того гладко лежавшую там рубашку, то снимал ее с камня и раскладывал на простыне, то шел к воде, но, войдя только по щиколотки, возвращался; он задавал мне вопросы о предстоящем деле, а так как я отвечал неохотно и в подробности не входил совсем, то он их сам придумывал и излагал мне. Короче, он меня порядком утомил, и я стал уже сожалеть, что попросту, без игры, не попросил его. Но дело было уже сделано, и не мог же я так вот запросто разрушить его состояние!
Он все говорил, правда, уже не задавал мне вопросов, а высказывая свои предположения и на разные лады повторяя им самим же сказанное, он говорил, а я стал думать… о своем. Я стал думать о Марте.
Опять и опять я возвращался к вчерашнему разговору. Но совсем не за тем, чтобы вспомнить то, что было сказано, – это было мне не нужно, – а затем, чтобы вспомнить ее: как менялось ее лицо, дрожал ее голос, как двигались руки и как они неподвижно лежали на коленях. И те ее слова, где она говорила, что ей не важно, кто он, а все равно, и прочее… Эти слова, которые меня так больно задели и которые перечеркнули мою надежду, эти слова уже не казались страшными – я их простил. Простил, потому что были ее глаза, были ее руки, потому что она сама была и я сейчас видел ее всю, и – любил ее всю.
Я в первый раз сказал это себе – что люблю ее. Но как-то это просто сказалось во мне: без стыда, без натуги, и не назло самому себе, и не в поддержку самому себе, а просто сказалось, так, словно это было во мне еще и до того, как я ее увидел, задолго до того, словно это было всегда, с самого моего рождения, и я знал, что это было, но никогда этого не произносил, потому что еще не знал ее. И в этом не было никакого противоречия. А если и было, то только логическое, умственное. Но логическое, как бы оно ни было разумно, не трогало меня, когда я думал о Марте. А в чувстве никакого противоречия не было. Не знаю, но мне казалось, что ничто, даже слова самой Марты, какими бы они ни были, не смогут разрушить то, что я ощущал в себе, оно сильнее всяких обстоятельств, даже и самых сложных, и самых неразрешимых; и сильнее слов.
3– Да ты что, не слушаешь? – понял я наконец довольно громко поставленный вопрос Коробкина; он стоял передо мной уже одетый и с аккуратно сложенной и перекинутой через руку простыней.
– А? Прости, – сказал я. – Ты что?
– Как что? Говорю, пойдем на велосипеде покатаемся. Ну?
– На каком велосипеде? – спросил я, еще не совсем войдя в смысл его слов.
– На водном, – махнул он рукой в сторону моря. – Вставай, пойдем, разомнемся перед делом. И вообще полезно.
– Полезно? – проговорил я, пожимая плечами, и взглянул на всю в блестках тихую воду. – Давай.
И мы пошли: он впереди, размахивая свободной рукой, я сзади. Он быстро договорился о велосипеде, придирчиво, перебрав три, выбрал аппарат, простыню свою и наши брюки оставил на хранение в будке у кассира, и – мы поплыли.
Я впервые катался на водном велосипеде, и по тихой воде это было приятной процедурой. Коробкин стал объяснять мне устройство, – хотя все и так было предельно понятно, – потом принялся обучать меня тому, как, сохраняя силы, нужно работать ногами и какое при этом положение тела лучше всего. Короче, он держался, как капитан, объясняющий впервые попавшему на море юнге изначальную премудрость кораблевождения. Я не противился, слушал и слушал, глядел в морскую даль и усиленно двигал ногами. Так мы проплыли немного вдоль берега, и, так как купающиеся все-таки довольно часто попадались по курсу, а чтобы не наскочить на них, нужно было значительно сбавлять скорость, Коробкин решительно развернул аппарат, и мы двинулись в открытое море.
Только мы минули ограничивающий зону купания буек, как с нами случилось странное происшествие. Мы все так же ритмично работали ногами, и аппарат наш шел быстро, как вдруг мы почувствовали, что работаем вхолостую: ход наш резко замедлился, а потом мы и вообще остановились. Аппарат наш слегка раскачивался, а мы все жали (по инерции ли?) на педали, колеса отбрасывали брызги и вязли.
– Застряли, – бодро воскликнул Коробкин, но бодрость была несколько настороженной.
Я промолчал, а он больше не восклицал; и мы стали осматриваться. Собственно, и осматриваться особенно было нечего: вокруг все было прежнее, вода же под нами – темна. Мы поерзали, не глядя друг на друга, но не приподнимаясь с сидений; Коробкин взялся за колесо рукой и прокрутил его; но ничего из этого не вышло, только наши колени поменялись местами – одно пошло вниз, другое поднялось вверх. Так мы продолжали молча сидеть на своих местах и ничего не предпринимали. А аппарат наш покачивался, но несвободно, а чуть рывками.
А сидели мы так, и молчали, и не предпринимали ничего потому, что почти уже в первый момент поняли, что не зацепились мы, но что-то нас держит, а вернее (и в этом мы боялись признаться друг другу) – кто-то нас держит. Мало того, что покачивания аппарата были ненатуральны, но, мы это заметили не сразу, в том месте, где располагался руль, поднимались из воды пузырьки воздуха. И пузырьки эти были не природного образования, они выходили группами – как от дыхания.
– Видишь? – сказал я наконец, подтолкнув Коробкина в плечо и осторожно поведя пальцем в сторону пузырей.
– А? – он словно очнулся, хотя так же, как и я, безотрывно смотрел на то же место.
– Видишь? – повторил я, более досадуя на себя, чем на него.
– Ага, – Коробкин трудно сглотнул. – Держит.
– Кто держит? – выговорил я, теперь уже совсем без досады и шепотом.
– Он, – отвечал Коробкин и передернул плечами.
Мы замолчали и просидели так некоторое время, уставившись в то место, где выходили пузыри. Кажется, они стали выходить еще более густыми порциями и лопаться слышимо, во всяком случае, очевидно было, что м е с т о, откуда они выходили, приблизилось к поверхности воды, то есть к нам.
Молчать и наблюдать бездейственно не было больше сил. И я решился.
– Ну, что ж, – сказал я со всею возможной бодростью в голосе, но все-таки с недостаточной для бодрости громкостью, – надо посмотреть.
И проговорив это, я решительно развернулся на сиденье и, свесившись, потянулся рукой к т о м у м е с т у. Но дотянуться не успел (или не очень энергично делал это), Коробкин перехватил мою руку выше локтя и потянул к себе.
– Ты что! – выдавил он и обеими руками прижал к себе мою руку.
Но это как раз и придало мне смелости.
– Да пусти ты. Только посмотрю.
Но Коробкин руку не выпускал, а еще удобнее успел ее перехватить. Я дернул руку, но безуспешно. Аппарат же наш, вследствие резких движений, опасно накренился, сначала в одну сторону, потом в другую так, что мне пришлось крепко ухватиться свободной рукой за руль, чтобы не выпасть в воду.
Не знаю, чем бы закончилась наша возня, но здесь… из воды показалась рука. Она ухватилась за нижнюю, над рулем, перекладину аппарата, отчего он дал крен на корму и вправо, но тут же выпрямился, хотя еще сильнее сел на корму, потому что из воды показалась другая рука, которая тоже ухватилась за перекладину; вслед за руками всплыла голова в маске. Это был – аквалангист. Он подтянулся на руках, пытаясь влезть на перекладину, наш аппарат угрожающе накренился. В этот момент, сумев удержаться на сиденьях, мы без слов, но одновременно нажали что было сил на педали. Колеса вспенили воду, аппарат рванулся, а аквалангист, уже вытянувшийся из воды по грудь, от такого нашего маневра соскользнул, пальцы его разжались, и он, что называется, остался за бортом. А мы, уже не оглядываясь, усиленно работали ногами, и аппарат наш легко и быстро шел в открытое море. Так мы прошли метров пятьдесят или больше, когда за спиной у нас раздался крик:
– Эй, стойте! Стойте! Нельзя!
Коробкин резко повернул рулевое колесо, и мы развернулись.
Вылезши почти наполовину, держась за оградительный буек, аквалангист махал нам свободной рукой и кричал:
– Стойте! Стойте! Назад!
От такого, все-таки человеческого вида и человеческого голоса, наш страх как-то пригасился и опустился к границам сильного недоумения. Мы коротко переглянулись и на малой скорости, чуть стороной, правда, стали приближаться к буйку. Аквалангист перестал кричать, а рукой уже не размахивал, а чуть водил ею, приглашая нас подплыть поближе; маску он держал в руке, а ребристая воздушная трубка с мундштуком в такт его движениям болталась на груди.
Мы, осторожно перебирая ногами, подошли еще, и – я узнал Думчева.
– Узнаете? – помахав мне маской, прокричал Думчев, хотя на таком расстоянии можно было бы и говорить нормально.
– Узнал, – отвечал я со вздохом, ни возмущаться, ни удивляться у меня не было сил.
– А я вот кричу и кричу, а вы наутек, – сказал Думчев и, вытянув ногу, хлопнул широкой ластой по воде. – Идите к берегу.
– Что значит «идите к берегу»? – вступил Коробкин сердито. – И вообще, что это вы себе позволяете?
– Ничего я не «позволяю», успокойтесь, – вытянув другую ногу и снова хлопнув ластой, почти весело ответил Думчев. – Просто пошутил. Так сказать, морское происшествие; на водах, так сказать. Скучно без происшествий.
– Нам не скучно, – отрезал Коробкин.
– Если обеспокоил – извините. А только имел желание, в виде шутки… Но главное…
Но Коробкин не позволил ему договорить.
– Побеспокоил?! – угрожающе воскликнул он, и не успел я ничего сообразить, как он резко нажал на педали и направил аппарат прямо на буек, то есть на Думчева. Думчев непременно был бы сбит, если бы в самый последний момент я не вывернул руль. Мы прошли совсем рядом, впритирку. Но и Думчев, с непредвиденной ловкостью, успел переместиться на безопасную сторону; и аппарат, и буек закачались, и то мы опускались к Думчеву, то он поднимался к нам.
– Вы, это… не очень, – прерывисто и зло воскликнул Думчев, то ли просто взмахнув маской, то ли погрозив нам.
Испуг Думчева, кажется, удовлетворил Коробкина.
– А мы, дядя, шутим, – заметил он язвительно.
– За такие шутки… – начал Думчев, но продолжить не сумел, потому что чуть не соскользнул с буйка и едва удержался.
– Держитесь крепче – утонете, – поддразнил его Коробкин.
Думчев ничего не ответил, так как в этот момент закреплялся на буйке.
– Крепче держи-и-итесь, дядя! – опять весело покричал Коробкин, но я зло толкнул его коленкой.
– А что – ему можно?! – обернулся он ко мне.
– Оставь, – сказал я коротко.
– Я бы этого так не оставил… – вторя мне и непонятно в какой связи, проговорил с буйка Думчев.
– Что-что?! – вызывающе начал Коробкин, но я опять толкнул его, и он затих.
– Ладно, – сказал я Думчеву, не глядя в глаза. – Поедем мы.
– Как это «поедем»? – Думчев перегнулся с буйка в нашу сторону. – Возвращаться надо. Я что – для одних шуток к вам приплыл! Буря идет, возвращаться надо.
– Какая буря? – спросил я подозрительно.
– Ветер.
– Посеешь ветер, та-ра-рам, – тихо, тонким голосом пропел Коробкин в сторону и покрутил рулевое колесо.
– Настоящий ветер, в море, и очень сильный, – серьезно проговорил Думчев и указал на берег. – За тем и шел, то есть плыл. Давайте, а то как задует – унесет.
Я посмотрел в направлении его руки: все было, как было – веселые крики купальщиков так же доносились к нам, солнце было столь же ярким; но главное, что ветер дул едва-едва, да и то с моря.
– Посеешь ветер, та-ра-рам, – опять пропел Коробкин, на этот раз громко.
– Вы бы помолчали, – сердито сказал ему Думчев и, обратившись ко мне, проговорил мягче и едва не просительно: – Возвращаться надо. Очень вас прошу, возвращайтесь.
Я не ответил и пожал плечами. Зато ответил Коробкин:
– Что вам до нас, дядя! Плывите подобру-поздорову.
– Я не с вами, – сдерживаясь, сказал Думчев, но тут же добавил примирительно: – Сами подумайте, какой мне интерес на этом настаивать, если… просто так. Сами подумайте?
– А – так вам наши драгоценные жизни жалко? – быстро ответил Коробкин и, подняв обе руки мелодраматически к небу, продекламировал: – «Не рыдай так безумно над ним, хорошо умереть молодым!»
– Я не о жизнях ваших забочусь, – внушительно пояснил Думчев, – а о деле.
– О каком деле? – повернулся я к нему.
– О деле, которое вам предстоит сегодня.
– Вы что – опять?.. – раздражаясь, проговорил я.
– По мере сил. По мере сил.
– А про бурю это вы откуда, дядя – метеосводку просматривали? – чуть сдав назад, потому что нас относило от буйка, громко, словно Думчев был далеко, прокричал Коробкин. – Вы, может, кроме аква… еще и метео… – по совместительству?
Но Думчев ответил, не пожелав заметить его тона:
– Метеосводку не смотрел, но знаю. Да и нет ничего в метеосводке.
– А-а-а, – обрадовался Коробкин. – Дядя, – он повертел перед собой руками, – с этими… с теми силами знается. Так, дядя?
– Я вам не «дядя»! – громко и сердито воскликнул Думчев.
– Вот то-то и оно… – начал было Коробкин, но осекся.
Он осекся, и я успел подхватить его, потому что в этот самый момент сильный порыв ветра даже не ударил, а хлестанул по нам. Аппарат наш накренился, и уж не знаю, каким чудом не перевернулся. Ветер был так внезапен, что волны еще не успели в тон ему раскачаться, но с берега шла сильная рябь, словно там установили несколько реактивных двигателей и повернули дуть их в нашу сторону. Мы что есть силы нажали на педали, пытаясь развернуть аппарат против ветра, но нам это не удалось: колеса вертелись, в ушах свистел ветер и упруго давил в спины, и нас неумолимо несло в море.
В первую минуту, когда мы еще пытались бороться с ветром и находились недалеко от буйка, я увидел, что Думчев уже спустился в воду: торчала на поверхности только его голова в маске; одной рукой он держался за буек, другой подтягивал воздушную трубку акваланга.
– Я говорил… – прокричал он сквозь ветер. – Я попробую…
Он произнес что-то еще, но я не расслышал. Через несколько мгновений, когда мой взгляд снова упал на буек, там уже никого не было. Мы остались одни, и если еще не в открытом море, то по направлению к нему. (Волны наконец раскачались, и брызги с их белых пенящихся гребней летели нам в лицо. Через короткое время мы совсем выбились из сил. Да и любые наши старания все равно были напрасны – столь маломощное и неустойчивое судно, как наше, не могло противиться стихии. Мы что-то кричали друг другу, хватались за руль, думая только о том, чтобы не перевернуться, но – одна из налетевших вскоре волн накренила аппарат, а другая легонько его подтолкнула, и мы оказались в воде, успев все же уцепиться (я – по одну сторону, Коробкин – по другую) за то, что осталось на поверхности. Из всех качеств нашего аппарата, отрицательных в такой обстановке, было одно положительное – его нельзя было утопить совсем.
Так начался наш дрейф, и было маловероятным, что он закончится благополучно. Берег был уже не виден, и трудно было понять, как далеко нас отнесло и сколько прошло времени. Мы почти не переговаривались, только изредка поддерживали друг друга и самих себя вопросом: «Держишься?» и ответом: «Держусь». Впрочем, о чем нам было здесь говорить?
Не буду описывать нашу борьбу со стихией, тем более что она была однообразна, и борьбой ее можно было назвать лишь выражаясь фигурально: сперва мы просто держались, ухватившись руками за поплавки, а когда поняли, что так долго не продержимся (не помню уж по чьему предложению), стянули рубашки и привязались к поплавкам.
Так нас несло в море: быстро ли, медленно ли? – не удавалось понять. А из всех ощущений главных было два – холод и страх, и ни то, ни другое не представлялось возможным преодолеть. Разве что потом: ощущение холода – когда так закоченеешь, что тело становится нечувствительным, а страха – когда уже и совсем ничего не будешь ощущать. И это «потом» было для нас не таким уж далеким.
Но вдруг (как и всегда) обстоятельства нашего морского бедствия резко изменились – ветер перестал. Он не затих, как полагается ветру, то есть – от сильного к слабому, но именно перестал – дул и исчез. Словно там, откуда он дул, отключили сразу все производящие его агрегаты. И волны угасли как-то ненатурально: последняя большая волна подняла нас и опустила, но вторая, за ней только подтолкнула, а третьей и совсем не было. И волны совсем сгладились, как если бы кто-то на одном берегу, а кто-то на противоположном потянули море каждый к себе, как простыню.
Мы переглянулись и стали смотреть по сторонам. Но если ветер «вдруг» исчез, то берег «вдруг» не являлся – кругом была одна вода. Чувство радости от такой неожиданной смены обстоятельств скоро исчезло: если тогда нам было страшно одно – утонуть, то теперь сделалось страшно как-то вообще. Да и не просто страшно, но жутко: по исчезновению ветра и волн эта безбрежная вода вокруг только обнажила наше бедствие.
– Слушай, – осторожно и как бы прислушиваясь к звуку собственного голоса проговорил Коробкин, – ты не знаешь, здесь акулы не водятся?
– Не знаю, – так же прислушиваясь, отвечал я, – кажется, нет. А что?
Последний вопрос был неуместен: во время штиля, на глубине, да еще тогда, когда не видно берега и вообще неизвестно, насколько он далеко, всегда и ежесекундно кажется, что вот-вот тебя что-то схватит в воде за ногу. Ногам моим от этого стало неуютно, и я, перебирая ими, сказал:
– Надо бы обратно… повернуть, а? Давай развяжемся и попробуем.
Коробкин утвердительно кивнул, и мы принялись развязываться. Но все наши усилия в этом направлении оказались тщетными: узлы намокли и как бы спаялись; к тому же, от холода и усталости, пальцы наши потеряли и цепкость и силу, а зубами дотянуться до узлов мы не могли.
– Нет, так не выходит, – сказал тяжело дыша Коробкин, – давай попробуем оторваться.
Мы попробовали, но только напрасно потратили силы: ткань оказалась на редкость крепкой.
– У тебя какая? – спросил Коробкин, упираясь руками в поплавок и с силой от него отталкиваясь.