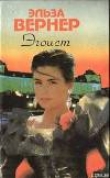Текст книги "Чистая сила"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
ГЛАВА ВТОРАЯ
1Мы сидели теперь с Алексеем Михайловичем в его комнате, при задернутых шторах: он, как и всегда, на стуле у кровати, я – на стуле с противоположной стороны стола. Мы сидели и молчали. Вернее, молчал Алексей Михайлович, а я… Я ждал.
Думая над происходившими тогда событиями и над жизнью, своей и других, я понял, что многое бы было по-другому, если бы человеку хватало времени; а времени человеку всегда не хватает. Я говорю «всегда», но разумею не те года, которые отпущены для жизни (время от рождения до смерти – о количестве этого времени не нам судить), а другое, внутреннее время (поясню еще, что я здесь не беру качества и наполненности проживаемых дней). Внутреннее же время, это такое, которое мы проживаем в думах, как бы внутри себя. А оно другое, чем время внешнее: в минуту, допустим, такого времени можно прожить много дней, и года, и даже век, и больше. Так вот этого времени нам не хватает. То есть даже и не самого такого времени, а возможностей «включить» его, когда это особенно нужно, а порою и просто необходимо. И не хватает того, чтобы вдруг, каким-нибудь образом остановить течение события (то есть хотя бы замедлить внешнее время) и обдумать свои шаги и поступки, как те, что ты уже совершил, так и те, которые еще совершишь. Но разве время можно замедлить?!
Положим, что играем в шахматы: один раз за столом на турнире, другой раз – по переписке. Очевидно на первый взгляд, что игра по переписке получится более содержательной, потому что почти исключает случайные ошибки (а хороший аналитик может вообще исключить ошибки); игра же за столом, при ограниченном количестве времени, не только не исключает ошибок, но и самым прямым образом их допускает и для самых совершенных игроков. На всякий ход противника ты делаешь свой, но не хладнокровно и исходя из абсолютной правоты шахматной теории, а из того хода, что сделал твой противник. Но почему-то игра за столом (то есть сыгранная партия) оказывается неизмеримо более творческой, чем холодная рассудочная правильная и безошибочная игра по переписке.
Замедление времени и есть то же, что и игра по переписке: применяя внутреннее время, ты, прежде чем сделать шаг, можешь долго осматривать и ощупывать то место, куда собираешься ступить, а только потом сделаешь шаг. Очевидно, что это должен быть правильный шаг; во всяком случае, вероятность оступиться при этом очень невелика. Но вот только – далеко ли уйдешь, шагая таким манером. Очевидно же, что очень недалеко.
Понятно, что зрелый человек, воспитавший и впитавший в себя принципы нравственной жизни, будет всегда действовать, в любой ситуации, согласно этим принципам (не всякий раз, а только в самые трудные и ответственные минуты все-таки проверяя себя, потому что впитанные, вошедшие в неделимую сущность человека, они будут проявляться сами, как бы помимо сознания, как независимо от нас проявляются те или иные наши характерные черты), но как быть молодому человеку, еще только вступающему в жизнь? Если правильно, что нравственные принципы проявляются независимо от нашего сознания, то значит ли это, что молодому человеку свойственно, как говорится, ошибаться и он никуда от ошибок деться не может? Конечно, это не те «просто ошибки», их у всех предостаточно, а такие, совершение которых влечет за собой, выражаясь юридическим языком, тяжелые последствия. И когда человек выходит из детского возраста, где в общем-то все прощается, и жизнь его еще детская, и ошибки детские, то люди вокруг и сама жизнь уже так обхватывает его и не смотрит на подготовленность, что каждый его неверный шаг уже может быть причиной всяких и всяческих бед для него и окружающих. Хорошо, если вступающий или уже вступивший в жизнь хочет обдумывать свои шаги и поступки, плохо, если совсем не хочет задумываться и не знает, что задумываться необходимо. Но хуже всего (а это довольно часто случается с уже затронувшими незрелым своим умом азы «житейской мудрости»), когда тот же молодой человек говорит (преимущественно себе самому): «Что это мне с себя спрашивать? Другие и до седых волос дожили, а ничему не научились. Без ошибок никакая мудрость не придет. И чем больше ошибок, тем скорее мудрость придет. Нужно ее поторопить, а значит – жить, жить и жить». И он живет, широко расставив локти, очень опасаясь, что другие могут поранить его еще неокрепшую душу.
…Несколько раз Алексей Михайлович принимался начинать, но дальше «да-да», вздохов и междометий дело не двигалось. Я понимал, что и сам должен бы ему помочь, заговорить (пусть и о постороннем), но я молчал, хотя и понимал, что говорить в исповеди всегда труднее, чем сказать то же самое в обоюдном разговоре. Но я не мог себя заставить, я не хотел себя больше заставлять.
Алексей Михайлович похлопал ладонью по столу: мелко, потом два раза отчетливо и громко – последний раз резким хлопком.
– Да, видишь ли, как все выходит, – сказал он со вздохом. – Всегда все логикой решал: построю мысли стройными рядами, ненужные – в сторону, а с такими, что действенны, с такими – вперед. А теперь, поверишь, не то что слабость чувствую, но как-то ощущаю, что незачем: и строить их незачем, и ненужные отметать, и вперед незачем. Тем более что сам теперь не знаю, где этот «перед» есть, в какой такой он стороне.
– А что, там у вас очень… тяжело было?
– Тяжело? – он усмехнулся. – Сам не знаю – как? Я когда ехал, то понимал, куда еду – это так! И героем себя не чувствовал – нет! И ничего доказать не хотел. Тем более что все само собой получилось. То есть все до этого (я тебе уже говорил) было все-таки под контролем, а поездка – уже сама собой: будто взяли меня да отвезли; и не то чтобы насильно, но и не спрашивали – хочу, не хочу – а делали дело, которое считали нужным делать, и все тут. А может быть, это не она? – Алексей Михайлович внимательно и долго смотрел мне в глаза. – А? Может быть, это тоже не их воля? Я иногда думаю, что мы только представляем, что делаем по собственной воле, а на самом деле… Понимаешь, они ведь сами не знали (и этот доктор Митин, и шофер), что отправляют меня… наказывать. Откуда же они могли знать (до тонкостей, во всяком случае)? Не могли, но ведь везли, и все-таки сделали так, что мне некуда было деться. Положим, я все равно бы поехал: как ни говори, но я сам стремился к этому; и многие годы стремился. Но все-таки – они же не знали, что наказывают меня, а ведь все делали так, как если бы знали. Отчего это, как ты думаешь?
Что я мог знать, когда смотрел со стороны? Видя расстроенное, со сдерживаемым внутренним волнением лицо Алексея Михайловича, я (как и все полагают в таких случаях, и помимо собственной воли) думал о том, что он слишком взволнован, чтобы судить здраво, что для того, чтобы правильно оценить положение, нужно было сейчас не думать о том, что занимало все его мысли, и подумать и поговорить о другом, постороннем, во всяком случае о таком, что не жжет так жгуче, и дать этому жгучему остыть, а еще лучше – дать охладиться, чтобы потом, как на застывший слепок, не меняющий уже очертаний своих и формы, посмотреть разумным, со всех сторон охватывающим взглядом. Тогда не будет этих мыслей и домыслов о каком-то неизбежном наказании, чьей-то неведомой воле, а будет разумный и здравый взгляд, а главное, возможность правильно оценить положение и найти ту самую сторону, куда следует, взвесив все «за» и «против», ступить.
И хотя это противоречило прежним моим мыслям, я невольно, глядя на его неспокойное лицо, думал так. И потому я сказал рассудительно (и это тоже вышло само собой):
– Может, следует пока переждать, Алексей Михайлович, пока все уляжется, потому что разве возможно сейчас что-нибудь решить?
Он смотрел на меня и не понимал моих слов; ладонь его ерзала по столу, как будто тщательно затирая что-то.
«Господи, – подумал я, – что же это я такое говорю?! Когда это я успел всего такого набраться?! И что ему моя «разумность», что ему будущее охлажденное время, и будущий здравый взгляд, и будущее правильное решение! Ему нужно сейчас, ему не нужно никакого «будущего» – хоть и с тем самым п р а в и л ь н ы м холодом. Если сейчас, в горячке (и пусть в горячке), надобно знать – что и как. Никому не нужен холодный слепок, разве что для памяти. А необходимо сейчас, сию минуту знать самое главное, пока течет… плавится… Ведь есть же здесь самое главное!»
И я сказал:
– Я думаю, Алексей Михайлович, что тут нужно понять: что здесь самое главное?
– Я, – ответил он, – и хотел, понимаешь, отбросить то, что обычно нужно отбрасывать, чтобы выявить суть, но – ничего не вышло. Я понял одно: или все здесь суть, или вообще нет никакой сути. В том, в военном времени, я не видел ничего, что можно было бы отбросить. Даже как Митин швырнул папиросу под колеса поезда, когда я его… когда он уезжал: даже этот короткий взмах рукой, и бросок, и то, как папироса, ударившись о землю возле шпалы, пахнула искрами, а потом белое облако от паровоза закрыло все – и шпалы, и искры, и подножку вагона – все это главное – я знаю – и без этого нельзя. То есть без этого составить ничего невозможно: убери папиросу или пар, и – ничего не будет. Все развалится. Я не могу точно объяснить, но знаю, чувствую, что ничего не будет, как будто и не было ничего. Скажи, ты понимаешь?..
– Понимаю, – отвечал я подумавши, – только, – я про вел рукой от себя в сторону, как бы отодвинув что-то, только я хотел спросить: вы себя не чувствуете виноватым? Я понимаю, что вина… Но, может быть, все не совсем так, как вам кажется.
– Что? Кажется? – как будто не понял он.
– Я хочу сказать, – не давая ему перебить меня, продолжал я, – что если вы, например, или я, или кто-нибудь, все равно, когда-то давно, но уже в сознательной жизни, конечно, сделал, вернее, совершил какой-то не очень хороший поступок – обманул или не подал руки… вовремя – а потом от этого поступка, с того самого времени, пошли как бы круги, и тот, который обманут, вся его жизнь, положим, пошла уже не так, а хуже, плохо пошла, – то как вы думаете: человек ответствен только за тот, первый свой поступок, или за все время после, в котором он, предположим, жил честно и… искупил…
– Что искупил?
– Ну как что?! Все свое плохое дело. Даже пусть дело это было его единственным плохим.
– При чем же здесь «искупил»? Тот ведь все равно несчастлив. Если бы его можно было бы сделать счастливым и он бы все забыл – чтобы никакого рубца, никакой отметины в душе не осталось.
– Это невозможно, чтобы не осталось, – сказал я тихо и почему-то вспомнил Марту.
– Вот видишь, «искупить» можно только перед тем, кому сделал плохое. А если ста другим сделал хорошее и эти сто осчастливлены тобой, то все равно тот один… он все равно несчастным остается. А у тебя «искупил», как «выкупил». И как «искупил»? Какое-то это пустое слово, как крышка – взял да накрылся, а вернее, закрылся, и все, тебя уже и не достанешь. Ну, как оно – «искупил»?
– Не знаю, – я пожал плечами, – я имел в виду вообще.
– Вот и получается, что вообще. «Вообще»-то искупил, а человек несчастлив.
– Но тогда что же делать? Хорошо, если можешь этого человека самого найти. Но это мало. А нужно еще все исправить. Вот вы сами: разве можете исправить? Извините, можно я прямо скажу?
– Говори.
– Эта женщина, Варвара, она несчастлива. Как же вы то свое исправите? Вам надо было жениться, а вы не женились. Но ведь теперь это невозможно. Но даже если бы и было возможно, то разве она захочет? Если даже и захочет, то разве будет счастлива? А ваш… друг? Его тогда куда деть? – вы женитесь, например, она, например, счастливая станет, а он? Он на целых ваших два счастья – ее и вашего – несчастливее будет.
– Ты еще забыл мою жену, – с расстановкой проговорил Алексей Михайлович, глядя в сторону. – Ты еще ее забыл: прибавь ее, по крайней мере, два несчастья… или три. Видишь, – он усмехнулся без улыбки, – мы с тобой уже и бухгалтерией занялись: два счастья, минус два несчастья, минус еще два, – он покачал головой, – отрицательный получается баланс. Да, – сказал он, подождав моего ответа, но не дождавшись его, – дело совсем не в этом. Не в этом твоем… не в «искуплении». Хотя… Знаешь, я не люблю играть словами, хотя это иногда так приятно, а в трудных спорах, когда тебя ставят в тупик, особенно выручает: перевернул слово – и сам вывернулся. Но в игре этой только одна игра. Вот я сказал сейчас «искупить» – «выкупить», а ведь это тоже игра, и по сути ничего в этом нет. Но есть опасность, ты подумай, в том, что наивный прельстится ловким словом и пойдет за ним, потому что это легче и потому, что одно дело – играть, другое – ломать голову. Это, знаешь, как афоризм. Но ничего нет страшнее афоризма. Он как гипсовый слепок с сути. Он однозначен, за ним ничего нет… жизни. Ты что – не согласен?
– Да нет, – сказал я, – в общем-то согласен. Только если к точности не приходить (хотя бы для ясности), то так можно вечно копаться и в себе, и во всем. А конца нет.
– Да, – подтвердил он, – конца нет.
– Вот видите, я говорю, что…
– Конца нет, – перебил он меня. – Но это если бы мы никогда не умирали. А раз умираем, то и конец, значит, есть нашим, как ты выразился, «копаниям». Другое дело, что истине конца нет. Да – но это другое дело. Я думаю вот: все эти годы во мне была вина, я ее ощущал, да что там ощущал, я жил ею. И все у меня было хорошо: и жена хорошая, и любил я ее, и работа, и дело я свое делал честно, и старался полезным быть, и был, только… Только ни одного года не было, чтобы в полную радость – все эта вина моя портила. Видно, большая вина, и ничем ее не заглушить – на всю жизнь наказание. Но и это ладно – вина виною, ничего здесь не поделаешь. А Валентина, жена моя – она-то как? Я казнился, а от нее отрывал. Ведь отрывал?
– Наверно, – вздохнул я.
– Вот видишь, – он встал, прошел в угол комнаты, постоял там, лицом к стене, повторил: «Вот видишь» – и только тогда повернулся ко мне. – Что же получается – я сделал, мне и казнь, а им: и Варваре, и Митину, и жене – им-то за что?! Неужто только затем, чтобы меня больше наказать. Если так, то уж очень мне много внимания. Тем более все равно, если бы я их и счастливыми увидел, то э т о во мне бы не перестало. А я Митину сказал: «Ты мне не судья». Он и вправду не судья (да и не судит), но ведь был суд, раз есть эта моя казнь. Но все-таки, неужели все напрасно, и казнь эта сама по себе, без смысла (кроме самих мучений)?
Он спросил, остановился на несколько секунд и тут же ответил утвердительно и убежденно:
– Да, в этом весь и смысл – в муке, потому что это не наказание, а казнь. Вот в чем разница: наказание, это когда на время, для исправления, и с надеждой, а казнь – это навсегда. У меня – казнь! – воскликнул он чуть ли не обрадованно и, подойдя к столу и оперевшись на него руками, нагнулся ко мне. – Вот в чем разница. И как я этого раньше-то не понял. А? Ты понимаешь?
– Я понимаю, – сказал я. – Но что же делать? Нужно ведь что-то делать.
– Что делать? – помотал он головой, как бы отгоняя непонятные в его открытии, какие-то лишние слова.
– Ну как же – что же теперь, так с этим и оставаться? Нужно бороться, в конце концов. Или что – смириться? Какой-то выход должен же быть?
– Постой. Какой выход? Куда? – пробормотал он, опять не восприняв моих слов.
– Как куда?! – то ли от его непонимания, то ли от чего-то своего проговорил я чуть ли не резко. – Нужно подумать, вот и будете знать – куда. Или что ж – руки опустить: казнят, мол, вот и хорошо.
– Что ж хорошего?
– А ничего хорошего. Только все равно немножко и приятно пострадать и смирение проявить, всем сказать: знаю, что виноват, знаю, за что мне это, смиряюсь с этим, только оставьте меня в покое. Так можно до такого эгоизма дострадаться, что только себя и станешь слушать. И еще: выше всех себя так можно очень просто поставить, идею жизни себе выдумать – принять казнь. «Что другие – разве они такое могут?! А я вот – могу!»
– Это правильно, – вдруг воскликнул он горячо, – то, что до эгоизма законченного можно дойти, это так, это ты правильно. Только другое неправильно, что бороться нужно. Что значит – бороться? Исправить? Но как исправишь. Мы же уже говорили, что никакого возврата нет и быть не может. Какая же это борьба? С кем?
– С самим собой, я думаю. Я не об исправлении говорю, а о выходе. Должен же быть какой-нибудь выход, не может быть, чтобы его совсем не было.
– Выход, говоришь? Но… – начал он, но я перебил:
– Нет, подождите, дайте я доскажу. Мне сейчас… я понял… я скажу. Я понял: если человеку, как вот вам сейчас, не наказание, а казнь, то… Я понял – человеку нельзя быть несчастным. Несчастье – это зло.
– Ну да – зло. И что?
– Да нет, вы меня не поняли. Вы сказали, что казнь – это навсегда, навечно. Но нельзя, чтобы это было навечно, потому что тогда все все равно. Пока человек не знает, что будет страдать всегда, а все-таки чувствует, что будет и что-то другое – это одно. Он тогда, если не ударится в эгоизм, может быть и добрым и полезным. Но если он будет знать каким-то образом точно, что это ему навсегда, то ему будет все равно, и люди, его окружающие, они будут ему неинтересны, и не только неинтересны, но и совсем не нужны.
– Постой, постой, – Алексей Михайлович махнул рукой, – как же ты говоришь, что навсегда, когда человек все равно умрет? И он знает это. Во всяком случае, – он фыркнул, – догадывается. Так что никакой вечности он чувствовать не может.
– Нет, – почти прокричал я горячо и тоже взмахнул рукой, – может! На каком-то отрезке времени – может. В определенный промежуток – может.
– Это в какой же промежуток, позволь тебя спросить?
– В какой… Вот в какой. Например, человек болеет (пусть и серьезно), страдает, но у него есть надежда, что так не будет всегда. И вот вдруг наступает момент, когда – никакой надежды, когда ясно, что все кончено. Но не кончено же! И вот это время до конца – это и есть вечность. Или как с ногой: она болит, человек страдает, он болеет. Но вот загноение, а через короткое время ясно, что спасти ногу нельзя, что ее отрежут. Так я о том промежутке времени говорю, который между тем, когда ясно, и тем, когда отрезают. Вот это тоже – вечность. Здесь необязательно, чтобы человек умер совсем. Дело здесь не в смерти самой, а во взгляде. Необратимость – я так понимаю – и есть вечность. Вечность – это когда нет надежды на смерть, но и тогда вечность, когда нет надежды на жизнь. Может быть, и тогда, когда вообще нет надежды.
– Постой – на что нет надежды?
– Да ни на что. Ведь бывает, что человек знает, что ему надеяться не на что. Просто: н е н а ч т о, а не так, чтобы конкретно. Вот эта вечность (когда этот промежуток наступает), вот это и есть – несчастность. Человек становится необратимо несчастен – ему все равно. Все все равно. Я думаю, что у Никонова, у старика, наступило такое время. Мне так теперь подумалось. То есть внутри уже холод: человек живет, но внутри уже не живет. Еще нет смерти, но уже холод, все равно, как если бы она наступила. И теперь уже ничего не сделаешь, потому что человека, в сущности, нет. И нельзя до этого допускать, потому что это, если хотите, безнравственно – быть несчастным: по-настоящему, внутри, с холодом, с этим «все равно». Человек может быть несчастен по обстоятельствам жизни, это понятно, но внутри не должен. Смерть все равно наступит, но она должна подойти снаружи, от жизни (и это естественно), а не изнутри, из души. Это когда говорят, что душа умерла. Но разве она может умереть! Разве человеку можно жить с бессмертной вообще, но мертвой на земле, в жизни, душой!
Я замолчал. Все уже сказалось. Дыхание мое сбилось, и я не мог продолжать. Алексей Михайлович внимательно, чуть с недоумением смотрел на меня. Я это увидел, когда поднял к нему глаза. И я тоже, не отрываясь, смотрел на него и почувствовал, что в его недоумении есть еще что-то, чего я сразу уловить не смог. Но это «что-то» было и с каждой секундой выявлялось все отчетливее. И только потом, опустив глаза и снова быстро подняв их, я увидел, что такое было это «что-то». Это была жалость. Да, это была жалость. Она вытеснила недоумение и заполнила весь его взгляд, без остатка. Но она (и это я ощутил внутри) была особого рода: не от презрения, но и не от сострадания. Она как бы относилась не просто ко мне самому, но еще и к чему-то во мне.
– Сколько тебе лет? – тихо спросил Алексей Михайлович.
– Двадцать четыре, – так же тихо и словно боясь что-то спугнуть или что-то нарушить звуком голоса ответил я.
– Двадцать четыре, – повторил он, и опять повторил: – Двадцать четыре. Я знаешь о чем подумал: я подумал, что вот живешь, живешь, а вдруг, в какую-то минуту очнешься (неизвестно почему) и почувствуешь, что жизнь проходит мимо.
– Куда?
– Не куда, а просто мимо. Ну, словно она, жизнь, как река, а ты на берегу стоишь и смотришь, как течет вода: она течет, а ты не движешься. А потом глянешь, а уже, к примеру, лет десять минуло и ты постарел. А она все течет. И умрешь, а она будет все течь и течь, и никакого ей не будет дела: стоишь ты на берегу или не стоишь, и вообще – ты ли это, или на месте, где стоял – могильный камень. Не знаю, наверное, не складно передаю, но – как передашь?! Не знаю. Вот тебе двадцать четыре, и ты еще не чувствуешь течения реки, потому что сам в ней. А потом, через года, сумеешь и с берега смотреть. Вот тогда и почувствуешь. Ведь стоит только раз из реки этой выйти и с берега на нее посмотреть, как уже не сможешь… по-старому. То есть и сам будешь в реке, в жизни, в течении, а все будет казаться, что со стороны, с берега смотришь.
– Так что же? – сказал я. – Лучше тогда, когда не думаешь? Когда не умеешь со стороны смотреть?
– Не лучше, но спокойнее. Как там говорилось у древних: чем больше мудрости, тем больше скорби. Так, кажется.
– Да почему же только скорби?
– Не только, но это больше и больше чувствуется.
– Так, старик тоже, получается, со стороны и со скорбью?
– Со стороны? – Алексей Михайлович поднял взгляд к потолку и прищурил глаза, что-то словно там пытаясь разглядеть; но не на самом потолке, а дальше, дальше. – Нет, он не со стороны, – наконец проговорил он, опуская глаза на меня, – он в самой реке все время находился. У него груз был особый: его или бросить надо было, или уж только с ним. А так, с грузом, на берег не вылезешь. А он – если нашу с тобой картину продолжать, – и на берег не вылез, но и не поплыл, а добрался до какой-то заводи, за корягу уцепился и все силы напрягал, к ней прижимаясь, чтобы его течением не унесло. Так, я думаю, или похоже на это.
– Так, значит, не было никакого смысла? Значит, когда, как вы говорите, жизнь проходит мимо, – это когда без смысла?
– Ну нет, почему же это без смысла. Смысл есть. Даже смысл этот, скажу тебе, настоящий. Вот только не смогу сказать – какой в точности. Другое дело, что… что счастья нет. Понимаешь, всякие жизненные удовольствия (я не говорю о примитивных и низменных; хотя и они тоже все-таки), они как бы создают иллюзию наполненности жизни: они чередуются, и человеку кажется, что он живет, и счастливо, и не впустую. Но они-то, эти удовольствия, они только заполняют пустоту. А пустота все равно есть, даже когда настоящий смысл. Больше того, когда настоящий смысл, тогда и резче ощущается пустота, и больнее. И если посмотреть на Жизнь (я беру с большой буквы, то есть не только жизнь этого человека), если посмотреть вообще, то его дело занимает совсем малый объем. Конечно, это все чувствуется больше, но я попробую объяснить. И когда человек ощутит всю эту Жизнь, весь ее объем внутри себя, то его собственное дело – только маленький краешек среди пустоты.
– Почему же пустоты, если это Жизнь?
– А потому, что, как я говорил уже, человека в с е г о занимает и заполняет его дело, и на другое у него ни сил, ни времени нет. Значит, если весь объем Жизни вместить каким-то образом внутрь человека, то все остальное, кроме его дела, будет пустотой. А он ее может заполнить только всякого рода удовольствиями, но ведь не делами, потому что у него сил хватит только на одно его дело. Но заполнить удовольствиями он тоже не может – тогда дела не будет, общая их масса задавит. А так как человек, он, а не только делатель дела, и так как он живет в мире людей, а не только в своем собственном, то его эта пустота невольно томит. Вот и чувствует, что жизнь проходит мимо. Понятно я объяснил?
– Понятно, – только человек-то, получается, понимает, что все это обман – удовольствия. Значит, ему только нужно перебороть себя и не думать… И жить своим делом. Так ведь?
– Так, – Алексей Михайлович покачал головой и улыбнулся, но на этот раз сдержаннее, только чуть-чуть отвел углы губ. – Перебороть может, но не думать – трудно. Думаю, что и невозможно. Тот, кто умеет перебарывать, тот и делает настоящее дело. Но он же более тоскливо, если так можно сказать, тоскует.
– И вы так же? – вдруг осторожно, но не спуская с него глаз, спросил я.
– Не знаю, – отвечал он после некоторого молчания. – Может быть, и не так.
– Почему? – настаивал я.
– Почему? Потому что… Потому что много внимания обращаю на свои невзгоды, трудности, скажем. В себя много смотрю. Я так чувствую, что и ты много в себя смотришь… – здесь он осекся и, прерывисто вздохнув, докончил: – Смотреть будешь.
– А вы… – начал я, но он не дал мне говорить.
– А я… – быстро сказал он, но тоже не смог докончить, потому что в эту самую минуту в дверь громко постучали.
– Вот видишь, – усмехнулся он и повернулся к двери. – Войдите.
Вошел Коробкин.
– Мне надо сказать тебе, – проговорил он быстро и не обращая внимания на Алексея Михайловича, – кое-что.
Я немного смутился, и повел, хотя как-то неуверенно, рукой в сторону вошедшего, и столь же неуверенно сказал:
– Это… мой приятель… извините…
Но церемонии, даже и в допустимом количестве, Коробкина, как видно, не занимали.
– Я тебя еле разыскал, – сказал он и, как будто только теперь заметив Алексея Михайловича, добавил: – Я вас утром на пляже видел.
– Возможно, – сухо ответил Алексей Михайлович.
– Слушай, мы же с тобой договорились, – сказал я, сдерживая раздражение, но все-таки так, чтобы это было заметно.
– И что, что договорились?! – невозмутимо отвечал он. – Тогда договорились, а сейчас – они уезжают. Вместе, между прочим.
– Кто уезжает?
– Марта Эдуардовна, твоя знакомая, со своим другом… этим.
– Ты иди, – сказал Алексей Михайлович.
– Пойду, – сказал я вставая и глядя в сторону. – Я к вам потом… если можно.
– Я же вам говорил, – воскликнул Коробкин, заглядывая через мое плечо на Алексея Михайловича, потому что, поднявшись, я прикрыл его. – А он «ну и что?» Я же говорил… – повторил он, но я не дал ему повторить то, что он «говорил», и, взяв его за рукав, потянул к двери.
– Простите за беспокойство, – успел еще выговорить он у самого выхода.