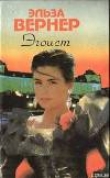Текст книги "Чистая сила"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
Владимир имел комнату в коммунальной квартире; зарплата его была небольшой, но одному хватало на вполне безбедную жизнь. Он было хотел жениться и нашел уже девушку, которая служила в его учреждении, но после двух месяцев их связи все как-то вдруг расстроилось, и хотя не разорвалось, но все шло к тому, и настроение его в такой жизненный момент было скверное; а он уже привык быть не один; причина же была в том, что сам он все никак не решался на брак и думал: «Неужто вот так с ней – и на всю жизнь?» Ему хотелось с ней жить, ему было с ней хорошо, но – чтобы на всю жизнь… В этом он сомневался. И еще он думал, что не может же так быть, чтобы он всю жизнь – в этой своей комнатке, в этом своем учреждении, что неужели только для этого он явился на свет: работа, дом, работа и он с женой и, возможно, с детьми в тесной комнатке с шумными соседями за стеной, с тяжелым запахом в коридоре.
Однажды, в осенний дождливый день, как только он открыл дверь парадной, к нему вышла соседка и, внимательно его оглядев, словно что-то в нем могло сильно поменяться с утра, сказала притворно-ласково: «А у вас гости». Владимир невольно вздрогнул, сам потом не мог понять – отчего? То ли от этого тона соседки, с которой четыре уже дня не здоровался, после крупной ссоры из-за чистоты в ванной; то ли просто от неожиданности, но уж во всяком случае – не от сообщения, отвечал угрюмо: «Какие гости?» – «А такие, – покачав головой и словно уличая его в чем-то, пояснила соседка, – что тетка ваша родная». – «Какая тетка?» – сказал он и тут же понял, что этого не нужно было говорить, потому что соседка, приставив кулаки к бокам, удовлетворенно воскликнула: «А это уж мне неизвестно – какая!» Вслед за этим ее восклицанием открылась соседкина дверь, и в коридор вышла женщина: небольшого роста, вся в черном, только лицо бледно белело из овала платка. Он смотрел на женщину и чувствовал со стороны уличающий взгляд соседки – и не двигался с места. «Здравствуй», – сказала женщина не то чтобы совсем бесцветным голосом, но как бы без выражения; и отстраненно. Он наклонил голову, но, как будто что-то вспомнив, быстро поднял глаза и, не глядя на женщину, а все время уводя взгляд (и, словно бы он сам, взгляд, сам по себе уводился в стороны), шагнул к своей двери, проговорив торопливо. «Да, да, пойдемте, вот сюда, пожалуйста». Он пропустил женщину, не оборачиваясь на соседку, осторожно прикрыл дверь.
«Вот, раздевайтесь, садитесь», – говорил он, мелкими шагами передвигаясь по комнате, перекладывая с места на место раскиданные вещи, но не делая порядка, а словно нарочно усугубляя беспорядок. Женщина присела на край стула, сложила ладони крестом на коленях – сидела прямая, строгая, молчала, следила за ним одними глазами. Он остановился наконец, встал к ней лицом, опершись рукой о край стола. «Вот», – сказал он и то ли дрогнул, то ли пожал плечами. Женщина, оставаясь сидеть так же прямо, подняла руку и, расстегнув под самым горлом две верхних пуговицы черного плюшевого жакета, достала мешочек; помогая себе руками, она развязала туго стянутый узел, открыла горловину и осторожно, придерживая мешочек обеими руками, привстав, потянулась и положила его на край стола. «Вот», – произнесла она и как бы облегченно вздохнула. Владимир, боковым зрением не отпуская женщину, взял мешочек и, придерживая рукой, высыпал содержимое на стол. Камни (драгоценные – и это сразу понял Владимир) разной величины кучкой легли на грубую поверхность стола, а один, подпрыгивая, покатился к самому краю, и Владимир ловко прихлопнул его ладонью. Звук хлопка вышел резким и сухим, как пистолетный выстрел, и Владимир, дернувшись, обернулся к двери, словно выстрелили оттуда. В это самое мгновенье, будто только того и ждала, чтобы он обернулся, женщина сказала: «Я Аникина, сестра твоего отца, Глафира, это я тебе принесла, твое… хранила, отец твой, Федор, велел». И она стала рассказывать: монотонно, как читают в церкви, не повторяя ничего, не разъясняя, не следя, слушает ли он. Владимир слушал, что отец его убил, что на бриллиантах кровь, что мать была кухаркой и что только пять лет, как умерла от ожогов, потому что больница, где она содержалась, загорелась во время проходивших в городе боев; что отец, уже задумав покончить с собой, оставил ценности у сестры в монастыре, крепко наказав, чтобы она хранила их и чтобы передала сыну не раньше того, как он станет взрослым; что Самсонов отступал вместе с белыми и умер по дороге, где-то недалеко от Крыма, а жена и дети переправились на ту сторону чуть ли не последним пароходом; что сама Глафира ушла из монастыря, и что больше года разыскивала его, и что вот разыскала, а теперь уйдет. «Куда же вы пойдете?» – «Россия велика». Тетка ответила и встала. Пошла к двери, взялась за ручку, обернулась, сказала тихо: «Чтобы ты знал: брата я в том, что с Катериной… не простила. И тебя не признаю. А что до э т о г о, то хранила, потому что он велел, брат. Исполнила, что обещала, а уж там ему, на том свете, самому за все ответ держать». – «Постойте, – быстро сказал Владимир и шагнул к ней, – что же мне теперь с этим делать? И время…» – «А что хочешь, то и делай – хоть брось», – сказала она и, потянув дверь на себя, вышла. Он постоял, прислушиваясь, подошел к двери, запер ее на ключ, долго стоял, замерев, отошел к окну, задернул занавеску, взял со стола скрепки и пришпилил обе половинки занавесей, чтобы не было щели, сел к столу, не зажигая света, в потемках, потянулся к мешочку и, зачем-то вывернув его наизнанку, нагнулся и засунул в зазор меж столом и стеною, включил настольную лампу, взял из горки крайний камешек и, осторожно держа его двумя пальцами, поднес к свету.
5(Из записей Никонова)
«Я утверждаю: никто никому ничего не должен хорошего, но обязан не делать и предупреждать злое. Как этого достичь, то есть уметь разобраться: где злое, а где хорошее? Не знаю. Может быть, лучше вообще ничего не делать? Может быть. Во всяком случае, намеренно не делать, пока не знаешь».
«Меня никогда не томила безвестность (при такой моей силе!), но я никогда и не упивался ею, у меня никогда не было тайного любования собственной стойкостью и не было презрения к наивности людей, принимающих меня за червя, когда я по меньшей мере… Откройся я им – чем бы они признали меня?! Глупые – трусом и скупцом, умные – высокомерной посредственностью. Но и первые и вторые ошиблись бы, то есть во мне есть и то, и другое, но есть и третье, а оно самое определяющее. Я рос от труса и скупца (было вначале) к высокомерию посредственности, втайне лелеющей собственное величие, но я вырос к третьему; и третье это – отстраненность. Я смотрю на людей, на мир не сверху, не снизу, не сбоку, а – совсем не смотрю. Значит, я смотрю только на себя? Нет и нет, не на себя, но – на свою «силу». Есть древняя легенда. Один восточный владыка объявил, что тот человек, который пронесет по всей окружности крепостной стены полное до краев блюдо с молоком и не прольет ни капли, тот получит в жены дочь владыки или (не помню в точности) полцарства. Многие пытались, но никто не сумел, потому что слуги владыки (что было оговорено в условиях) пугали выстрелами, окриками и вообще всячески мешали несущим. Но вот одному удалось: он пронес блюдо по всему периметру стены и не пролил ни капли. Владыка спросил победителя: «Как ты сумел это? Как тебя не испугали крики и выстрелы? Как ты не вздрогнул даже, когда мои слуги бросались к тебе, изображая, что сейчас столкнут тебя со стены?» – «Я не слышал криков и выстрелов, – отвечал победитель, – я не видел никого вокруг». – «Но как же так может быть? – удивился владыка. – Почему?» – «Потому, что я смотрел на молоко».
Вот так же и я смотрю только на «силу» и пройду, не пролив ни капли, по всему пути своей жизни».
«Одни говорят, что смысл жизни в самой жизни, другие – что в труде, третьи – что в служении людям. Пожалуй, что эти третьи правы больше всех. По крайней мере, правы «по-человечески», потому что – что ни говори, а человек всегда желает награды за «смысл», вернее, в награде и есть смысл. Верующие ждут награды по ту сторону жизни, но и они хотели бы хоть части ее по эту: неизвестно еще – есть ли что-либо «на той стороне»? Награда же земная, не только в прижизненном признании, но главное, в памяти людей. Человек, служащий людям, и хочет обеспечить себе эту память. И часто – лишь бы была обеспечена память, не важно какая – злая или добрая. А злую – легче. Стоит только взглянуть на историю, и становится бесспорно понятным, что память по большей части принадлежит тем, кто имел большую власть и кто лил больше крови. Кто помнит, к примеру, царя Алексея Михайловича, Тишайшего? А Ивана Четвертого помнят все, потому что – Грозный. Подвиг же жизни (а может быть, это и есть «смысл»?) незаметных деятелей – незаметен. Но на них-то… Они-то, как вешки на заболоченной местности, указывают путь. Человек идет и не замечает вешек (то есть, пройдя, тут же забывает о них), а уж перед какой-нибудь ямой или горой непременно остановится. Поглядеть. И запомнит. И внукам своим расскажет, что на дороге своей вот такие огромные ямы видел («оступишься – пропадешь!»), вот такие высокие горы («что и небольшой камешек, если с вершины сорвется, то – поминай как звали»). А то, что толку от них никакого (кроме величины и заметности) – кто об этом думает?!»
«Меня могут спросить: «Что ты желаешь от жизни?» Но разве нужно что-то обязательно «желать»? «А семью? – скажут мне. – А детей? А продолжения рода?» Что ж – всякий желает быть окруженным родными и любящими. Но – это еще неизвестно, станут ли жена и дети родными и любящими. Что же касается продолжения рода, то мне больше по душе – п р о д о л ж е н и е д е л а. Рода же своего почти не знаю, а что знаю – хвалиться нечем, и продолжать, быть может, и незачем. И потом – что мне думать обо всем этом: я должен смотреть на молоко! Жили же монахи, в конце концов, монахами и еще летописи писали!»
«Моя «сила» – есть зло. И если пустить ее в дело, то это будет злая сила. Но пока она заперта, это – чистая сила. Мне скажут: «Значит, в сундуках всякого скупца – чистая сила?» Нет, это не так. Деньги сами по себе как бы не имеют идеи. Если взять другой пример: слово, книга – всегда идеология, живопись – почти всегда, но музыка – не имеет идеологии. Композитор имеет, но сама музыка – нет. Она – вне! Так же и деньги. Но если взять огромную сумму (которая, конечно же, – вне) и дать ей еще и идею «вне», то получится некая «вне сила». «Зачем она, – скажут, – если она «вне»?» Что отвечать? Человеку всегда нужно это «зачем», будто без «зачем» ничего не имеет смысла. Но какой-нибудь отшельник, скрывающийся в пещере, вдали от всего и всех, питающийся кореньями и вообще неизвестно чем – его жизнь такая, она тоже «зачем». «Зачем» – это опять же смысл. Согласен, что смысл жизни есть благо людей, то есть работа на это благо. Но и понятия о благе многоразличны. Значит, смысл жизни не какое-то абсолютное понятие, а неуклонное следование выбранной идее. Так отчего же моя идея «вне» – жизни, действия – почему же она не благо и не смысл?»
«Пронести зло через всю жизнь, никак его не использовав, – ни для себя, ни для других – разве это уже не очищение зла? Да, «скупой рыцарь», пушкинский, он тоже хранил в подвалах несметные сокровища и тоже не использовал их. Но – зачем хранил? А за одно только чувство обладания; он правил великим царством, о котором никто не знал. Но разве от этого его царство было менее могущественным? Но я живу не чувством обладания. И моя «сила» – не царство. Я не владыка, я – хранитель. Я, если точнее, о х р а н и т е л ь входа в ад: нет выхода оттуда, но есть ведь ход туда. И я – у этого входа. Ну, ад – это громко сказано, но то, что частица ада – бесспорно. Я выдержал свою роль – разве это не пример?! и разве это не служение?!
«Думал о наследнике. Вот ведь вдруг – не дай бог – умру, что с «силой» станет?.. Я не оставлю пост до конца, но ведь это только – до конца. А потом? Ведь не в землю же закопать! Пока она у меня и я хранитель – это сила. А если в землю, то – лом, клад. Бессмыслица!»
«Я не зачинатель, я продолжатель. Это тетка начинала. Порой думаю: а была ли она вообще, или мне это только почудилось? Хранила для меня, а меня не признавала. Впервые увидела (неизвестно как и узнала), а и получаса не побыла. Ушла – а неизвестно куда. «Воля брата» – сказала. А почему его воля – закон? Родство? Не могу поверить. Идея? Но какая?»
«А может быть, все ложь, если мне постоянно необходимо убеждать самого себя в правоте своей жизни? Можно с завидным постоянством биться головой о глухую стену, хотя правильнее – взять лом и пробить стену. Но, может быть, биение головой не для того, чтобы пробить?»
«Все равно придется открыться, потому что нужен преемник. Два пути: искать достойного или – пальцем в небо. Как определить? Второе столь же бессмысленно, как и первое. Выбрать, может, и выберешь, а поверишь – вряд ли. Пусть и самый раздостойнейший, а все равно – не сам же ты! только самому себе поверишь до конца (опять это – д о к о н ц а). Нет, нет – пальцем в небо!»
«Порой хочется бросить все. Но – было бы куда (кому?)!»
«Если бы у меня был сын и он бы не знал ничего, то – смог бы я открыться ему, положим, перед смертью? Не знаю. Наверное, нет. Не поверил бы, если бы даже любил. Любовь – не то, что вера».
«Бьешься головой о стену в убеждении, что голова крепкая – выдержит. И никогда не задумываешься о том: выдержит ли стена? А если нет? Возьмет вдруг и упадет от одного удара привычного – что тогда? Другую стену и не отыщешь!»
«Евнухи при восточных гаремах зачастую стяжали большую власть, влияли на дела государства, чуть ли не подменяли (а, кажется, было, что и подменяли) правителя. Находясь внутри соблазна, греха, зла, они одновременно были вне. И вся сила их в этом заключалась: они возвышались через слабость сильных. И хотя неприятно сознавать себя… Но, может быть, и я?..»
«А вдруг в самую последнюю минуту мою кто-то скажет: «Чушь все это, идея твоя», – а я поверю. Что тогда? Но только – и очень надеюсь на это, что не будет никого рядом и произнести такое будет некому».
«Трудно ли было мне жить? По-всякому. Впрочем, я смотрел на молоко. Бывали минуты, когда мне хотелось плакать, упасть перед кем-то на колени, виниться в чем-то, а главное, хотелось, чтобы меня пожалели. Но не перед кем было виниться и не перед кем «жалиться». Что это – слабость или естественная потребность человека? Почему почетно быть сильным и, что называется, волевым. Говорят: он железный человек, и это, может быть, высшее признание. Почему твердость в такой цене?»
«Я всю жизнь играю на одной струне одну и ту же мелодию. Но никто не слышит. И я уже не слышу ее. Впрочем, и не слушаю».
«Иногда думаю: жизнь прошла мимо. И грустно. Иногда радуюсь, что смог выстоять и она (жизнь) не задела меня, не потащила за собой. Прочитал как-то, что в конце прошлого века канцлер одной из европейских стран прогуливался с российским императором по аллеям царскосельского парка, увидел посреди просторной лужайки солдата-часового и спросил царя: «Что охраняет этот солдат?» Царь не знал и послал за начальником караула. Но и тот не мог ответить: знал, что пост тут был всегда, но для чего? – этого не знал. Царь, оказавшись в неловком положении перед гостем, приказал выяснить во что бы то ни стало. Но никто не мог ответить: для чего на лужайке ставят часового? И наконец какой-то старый генерал разъяснил, что, еще сто лет назад, императрица Екатерина II, прогуливаясь, увидела на лужайке первый ландыш (была ранняя весна). Цветок ей очень понравился и, чтобы его не сорвали, она велела поставить у цветка часового. С тех пор на лужайке назначался пост. И так – сто лет. Казалось бы – анекдот. Но умный канцлер написал потом, что он тогда понял, почему во время балканской войны русские часовые замерзали на своих местах, но никто не покинул поста; и он понял, в чем сила России. Я принимаю, что жизнь моя столь же бессмысленна в глазах людей, как и тот пост у ландыша, на лужайке царскосельского парка».
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1Иногда мне кажется, что все это происходило не со мной, что я как бы наблюдал со стороны, но не наяву, а словно во сне: то есть я наблюдал во сне, может быть, и самого себя, а потом, проснувшись, долго не мог понять – что же я такое видел? Всякий раз, засыпая, я призывал опять этот сон, но он не приходил. Не приходили и другие сны – я совсем ничего не видел. Какое-то время это тревожило меня, но потом все во мне постепенно успокоилось; и успокоился я сам. И вдруг, в одну из ночей – пришло. Сон возвратился, но не весь, а как бы только один фрагмент, и даже не фрагмент, а так: что-то смутное вокруг, а поворот головы женщины четкий, до боли в глазах, как при высверке молнии. И ничего более – ни глаз, ни взгляда – только поворот головы. Но я узнал женщину: это была Марта. Я не разглядел ее, но это была она, я понял это, я знаю. Сон этим – высверком – и начался, и закончился: я проснулся. Я знал, что я вспомню все и ничто не сможет уйти – до самой последней детали, до самого скрытного вздоха. И все вытягивалось одно за другим, сцеплялось, оживало и озвучивалось, принимало форму, и цвет, и запах, и все, что положено живой действительной жизни, а не сну. Только окончание было смутным: стояло отдельно, как бы плохо проявленным фотоснимком, или в чем-то похожим на тяжелое облако, или на предвечерний туман. Я разгонял туман, но это было все равно, как если в темноте махать руками, пытаясь разогнать ночь: может быть, куски темноты и отплывают под твоими взмахами, но другие встают на их место – и это все равно темнота. Как ни маши руками в темени – света не будет. Разве что если не устанешь махать до самого рассвета. Но и тогда, когда темень растворится да и уйдет совсем, а ты будешь стоять посреди наступившего дня и все твое тело будет ломать усталость – работы твоей и ночи без сна, – то и тогда, оглядевшись кругом, ты вряд ли сумеешь убедить себя и хоть бы на самую малую каплю поверить, что это дело рук твоих.
Впрочем, даже если и не будешь убеждать себя, а сразу примешь бесспорную невозможность слабых деяний своих, и отступишься, и станешь забывать обо всем постепенно, то – все равно, в какую-то минуту своей жизни, когда необходимость пересилит понимание, а свет тебе будет нужен вот сейчас, а до часа его естественного прихода будет еще далеко, то выйдешь опять в непроглядную ночь и будешь взмахивать руками неустанно, и может быть, снизойдя к усилиям твоим, солнце поторопится вдруг и хоть на сотую долю раньше положенного ему природой времени коснется земли первым своим лучом.
Не знаю, с такой же энергией ли я пытался разогнать туман, который покрыл окончание уже почти восстановленного мною события – во всяком случае, я пытался. Но так и не смог заполнить промежуток меж последним разговором с Ириной Аркадьевной и… смертью… А в промежутке этом было почти два дня. И не то мне обидно, что эти два дня словно бы выпали, а то, что я никак не могу понять, почему я в эти два дня не пошел к старику. Неужто же и поговорить с ним после всего не хотелось! Положим, он, может быть, и говорить со мной не захотел бы (это так), но – почему я-то не пошел?
Что было в эти два дня? Ничего особенного не было: я читал тетради старика, виделся и говорил с Алексеем Михайловичем (он сказал, что уезжает к жене, но в подробности не вдавался, да и разговор наш не получился, так только – около да о постороннем. Хотя все теперь для меня, кроме дела со стариком, выглядело посторонним, а потому ничего и не запоминалось); еще я виделся с Коробкиным, гулял с ним по пляжу, он опять предложил покататься на водном велосипеде, но я отказался; к Ирине Аркадьевне тоже, как обещал, не пошел и тетрадей не отнес: не мог, не хотелось. Ни с кем видеться не хотелось. И Думчев не появлялся: Алексей Михайлович сказал, что не видел его с того дня (т о т день был днем поездки его к Митину и нашего «собрания» у старика).
Странное у меня было состояние: все как-то стало для меня тоскливым, и мысли в голове ворочались замедленно, и не зацеплялись одна за другую, а так – только касались мягкими вялыми боками. И я стал подумывать: а не пора ли уезжать? Сроку моего здесь оставалось с неделю, но я чувствовал, что делать мне здесь нечего, а иногда думал, что и вообще зря сюда приехал. «Ну да, – думал я, – что-то узнал; ну да – история; ну да, наконец, Марта (она, впрочем, совсем и не «ну да»), а почему так тоскливо душе, словно я потерял что-то необходимое, нужное, главное, и не то чтобы не могу найти, а не могу понять (или вспомнить) – что же я такое потерял?»
Эти два дня тянулись медленно, так, что я даже не мог бы в ту пору сказать – сколько прошло времени: оно не вливалось в меня и не выливалось, а шло мимо, хоть, может быть, и вблизи и я стоял спиной к нему, этому потоку, и безразлично слушал его равномерный шум. Может быть, во мне было чувство вины? Не только «может быть», но даже наверное было, хотя я не смог бы объяснить (тогда): перед кем? и в чем? Но вина ведь не проступок, а из чувства иногда не найдешь выходов, да и входа в него (чувство) зачастую тоже не найдешь. Я вспомнил того своего попутчика, с кого и начал свой рассказ, и когда тоска поджимала меня, я повторял его слова: «А сделал ли я кому-то, хоть одному человеку, в жизни хорошее?» – и не мог припомнить. Я успокаивал себя тем, что еще успею, но это не приносило успокоения: сделать-то я могу как будто в любую минуту своей жизни (хоть в следующую), но ведь и умереть могу в следующую, а то и в эту, ныне идущую. Но и это было неправдой, потому что сделать – трудно, и единственный путь к этому – е ж е с е к у н д н о е стремление. А как можно ежесекундно стремиться, когда есть ты сам, твои дела, заботы, прихоти, в конце-то концов. Может быть, Мирик был прав и для этого нужно сначала стать совершенным? Но… Я путался, не находил ответа и впадал в еще худшую тоску. Одно от нее было средство – действие, но – я опять вспоминал слова старика, что самое-то действие тогда, когда внутри покой. А покоя внутри не было.
Мне кажется, что я предчувствовал что-то, хотя… Но задним числом чего не объяснишь!
…Ранним утром третьего дня в дверь моей комнаты громко и настойчиво постучали. Я резко поднялся на кровати, словно меня механически выдернули из сна, и сел, замерев, ожидая повторного стука. Он не замедлил прозвучать. Но я не откликнулся. Я сидел в темноте (а рассвет растворил темноту еще только до слабой серости) и молчал. Но не успел я что-либо предположить, как столь же сильно постучали в окно и голос Коробкина громким, но словно и осторожным шепотом два раза позвал меня. «Ты что?» – в свою очередь прошептал я и сам не понял: про себя я прошептал или вслух? Коробкин, теперь уже не стуча и не зовя меня, нетерпеливо подергал дверь (впрочем, с усилием, потому что кусок штукатурки сорвался и глухо ударился об пол). Это последнее окончательно подняло меня, и я на цыпочках пробежал к двери и открыл ее.
– Ты что? – сказал я резко, но не очень уверенно.
– Что! что! – почти ввалившись, так, что я вынужден был отстраниться, воскликнул он. – Старик наш погиб – вот что!
– Где? – сказал я машинально.
– Ты что? – он схватил мою руку у кисти и сильно дернул к себе. – У моря… лежит… Одевайся.
– Что? Как? – говорил я, все никак не попадая в штанину брюк, а Коробкин стоял возле меня и держал распахнутой мою рубашку и вставлял только в промежутках моих вопросов: «Ну! ну!»
Мы быстро спустились по лестнице и почти побежали к морю. Ни души не было вокруг, и серое сонное холодное пространство воздуха держало дома, деревья, землю в оцепенении, и казалось, что этой тишине не будет пробуждения.
– Где? Далеко? – выговорил я, на ходу застегивая рубашку.
– Здесь, у моего места.
– А ты… как… это… тут?
– А, не знаю, – махнул он рукой. – Взбрело, видишь ли, еще в темноте пройтись. Сам не знаю – не спалось. Полез, видишь ли, купаться. Сам не знаю, почему не здесь, а к лодочной станции ушел. Вода холодная, я побыл и – на берег. А уже было к рассвету близко. Стал бегать, чтобы согреться. И наткнулся.
– Один?
– Что один?
– Наткнулся один?
– Сначала – один. Но я сразу не подошел, думал – другое.
– Что другое?
– Ну что – мало ли что на берегу лежит. Побежал обратно, а здесь – люди, ну, те, что по утрам дышат. Я подошел. И они. А он – лежит.
– Как?
– Ну как, на животе. Я сразу к тебе побежал, а один – в «Скорую» звонить.
– А когда это… – начал я, но вдруг осекся.
Мы стали спускаться к морю. Метрах в ста пятидесяти примерно я увидел кучку людей у самой кромки воды; они стояли полукругом, спиной к нам; на песке, вытянув руки к морю, лежал человек. Сзади нас, на дороге, невидная отсюда, затормозила машина. Я оглянулся: трое в белых халатах спускались к берегу, двое из них несли носилки.
Мы подошли. Старик лежал, уткнувшись лицом в песок, руки вытянуты вперед: правая сжата в кулак и вывернута тыльной стороной вверх; штанина на одной ноге закатилась почти до колена, песок у ног был разрыт, словно он пытался встать или подползти ближе к воде: редкие волосы слиплись и как будто приклеились к голове, только у самой макушки стояли пучком, и едва ощущаемое колыхание воздуха шевелило их.
Подошел доктор, молча опустился на колени; взявшись одной рукой за плечо, другою придерживая под спину, перевернул тело: подбородок старика уткнулся в грудь, и мне показалось, что я вижу, как песчинки скатываются с его лица.
– Ну? – спросил один из санитаров.
– Думаю, еще до рассвета, – отвечал доктор, поднимаясь и отряхивая песок с колен; он оглядел стоявших вокруг и вздохнул, потом оглянулся к набережной: «Вот и они».
Доктор присел, поднял руку старика и попытался разжать кулак. Это ему не удалось. Он кивнул санитару. Тот шагнул и присел рядом. Через несколько секунд доктор поднялся, держа на ладони горсть мелких разноцветных камешков.
– Вот, – протянул он ладонь подошедшему милиционеру с погонами капитана.
– Что?! – отрывисто сказал капитан.
– Вот, – повторил доктор, пересыпая камешки в подставленную ладонь капитана, – в кулаке… было.
– А! – проговорил капитан и, шагнув мимо доктора, нагнулся к телу. – Мертв? Что?
– Сердце, я думаю, – склонив голову набок и тронув ворот халата, сказал доктор.
– Та-а-к, – протянул капитан и, подняв голову, коротко взмахнул рукой. – Подальше, граждане, подальше.
Все отошли на несколько шагов, а милиционеры пропустили вперед лысого человека в синей рубашке с коротким рукавом; в руках он держал большой фотоаппарат со вспышкой.
Через минуту капитан подошел к нам.
– Есть свидетели, товарищи? – спросил он.
Все молчали, а Коробкин коротко взглянул на меня. Я толкнул его локтем.
– Я свидетель, – неуверенно проговорил он.
– Хорошо, – отрывисто сказал капитан, ткнув пальцем в сторону Коробкина, и повел пальцем на остальных: – Еще!
Здесь все заговорили разом, перебивая друг друга и словно от страха торопясь: не от страха, что не успеют сказать, но от какого-то другого. Капитан вынужден был остановить эти торопливые показания, и так как жесты не подействовали, употребил краткую, но выразительную фразу. Она подействовала, и все замолчали. Коробкин, впрочем молчавший все время, опять коротко на меня взглянул, и случайно (или не случайно) в ту же секунду взгляд мой сошелся с взглядом капитана.
– Я тоже, – сказал я, не отводя глаз.
– Свидетель? – спросил капитан, переждав две-три секунды.
– Да. То есть нет.
– Как? – коротко сказал капитан.
– Не свидетель, – отвечал я, опуская взгляд чуть ни-же лица капитана, – но знаю… знал его.
– Когда в последний раз?
– В последний? Давно. Кажется, позавчера.
– Так, – проговорил капитан, наклонив голову и взявшись рукой за подбородок. – Так, – повторил он, растягивая звуки и взглянув на меня не поднимая головы. – Поедете с нами. А?
– Да, – сказал я и повернулся к Коробкину; он кивнул.
И мы (я и Коробкин; он тоже подтвердил, что знал старика) поехали с капитаном.
Не буду рассказывать о всей процедуре вопросов и ответов, общих и направленных, и даже улавливающих – это к моему повествованию не относится. Вопросы: «где познакомились?», «как?», «не замечали ли?..», «не говорил ли?..», и прочие – были задаваемы четко и с явным знанием дела, чего нельзя было сказать о наших ответах: иногда я путался, отвечал невпопад, и Коробкин помогал мне; иногда путался Коробкин, и тогда я помогал ему. Капитан, как видно, не остался окончательно доволен, но вежливо поблагодарил нас. Потом он повез нас в корпус, где проживал старик, заверив, что ненадолго и, «может быть, узнаете что-нибудь из вещей». Я не придал этим словам значения, да и сказаны они были, кажется, односмысленно. Но когда мы вошли в знакомую комнату (там было четыре человека: два милиционера, главный врач санатория и еще человек, который что-то записывал, сидя с краю стола) и я увидел среди разложенных на столе вещей ту самую картонную коробочку (и черная резинка лежала рядом), я ощутил, как мне трудно будет что-либо «узнать». Я был уверен, что капитан обязательно начнет с коробочки, но ошибся, он начал не с нее. Он пригласил нас подойти к столу, брал одну вещь за другой, показывал нам: кошелек – старый, кожаный, с облезшими никелированными застежками, бритвенный прибор (использованные лезвия лежали аккуратно тут же), женская дешевая брошь, зажигалка (но старик не курил) и прочие мелкие вещи.
– А это вот, – сказал капитан и положил ладонь на крышку коробочки, – коробочка.
Да, это была коробочка.
– Вы видели ее у него? – спросил капитан.
– А? – сказал я, и, набрав уже воздуху для ответа (еще сам не предполагая – что скажу?), так ничего и не выговорил, и торопливо утвердительно кивнул.
– А вы? – обратился капитан к Коробкину.
Я видел, что Коробкину очень хотелось взглянуть на меня, но он сумел сдержаться.
– Я… – он поднес кулак ко рту, но не покашлял, а сказал сквозь кулак: – Я тоже.
– Прекрасно, – проговорил капитан. – И что же в ней находилось?
– Где? – быстро, словно желая опередить меня, спросил Коробкин.
– Вот здесь, – капитан похлопал ладонью по крышке и пояснил: – Внутри.
– А-а, – протянул Коробкин так, как будто пояснение капитана снимало вопрос.
– Так что же? – нетерпеливо проговорил капитан и посмотрел на меня.
– Камни, – сказал Коробкин, словно он не выговорил слово, а проглотил его и при этом проглатывании произнес похожие на слово звуки.
Но капитан понял. Он пожевал губами и сказал:
– Понятно. Только не камни, чтобы быть точным, а камешки. Так?