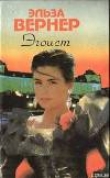Текст книги "Чистая сила"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
– И вы пойдете?
Он посмотрел на меня внимательно, как бы пытаясь что-то в один миг понять – во мне ли, в себе – и сказал, раздельно выговаривая слова:
– Теперь я д о л ж е н.
– Да почему же вы должны? – возразил я горячо. – А если бы не встретили? Если бы этот доктор вообще здесь не работал? Если бы он вообще умер бы уже? Почему же должны?
– Потому что – судьба. Это во-первых, хотя и не главное. Во-вторых, – я сам искал. А в-третьих… в-третьих, – мне наказание должно же быть!
– Какое наказание, когда… – начал я, но он меня перебил.
– Ты подожди, послушай. Понимаешь, я к мистическому совсем не склонен, и то, что я скажу, тебе может показаться странным. Но если все-таки… если то, что у нас нет ребенка – а она молодая, здоровая, здесь один случай на тысячи – если то, что у нас нет ребенка, не просто случайность… А если это случайность, то ведь именно на меня же она выпала. Понимаешь – на меня! Пусть случайность. Пусть так. Пусть я сам это знаю точно – что случайность. Но ведь я еще и знаю другое, что тогда… предал. Пусть и простительно, если смотреть с точки зрения давности и со стороны. Но сам-то я знаю, что… Мне-то этот срок давности… Повторяю, что к мистическому не склонен, но тогда, когда с женой… ведь именно тогда я про Варварины письма вспомнил, ни в какой другой раз, а именно тогда. Не буду говорить, что это знак мне был, но ведь и не просто так! Раз сам я его знаю, раз сам чувствую. Нет, не просто так. И если бы мне кто-нибудь сказал, а я поверил бы…
Но в это самое время его перебил аккуратный стук в дверь. Алексей Михайлович вздрогнул. Стук повторился: вежливый и аккуратный. Алексей Михайлович напряженно вслушивался. Стук повторился и в третий раз. Только после третьего раза Алексей Михайлович произнес, и мне показалось, что звук голоса его прозвучал как будто в огромном и пустом пространстве – глухо и одновременно раскатисто:
– Входите.
Дверь открылась, из-за двери показалась сначала голова, а потом и весь Думчев – это был он. Вместо шахматной доски под мышкой он осторожно придерживал шляпу.
– Совещаетесь? – сказал он, хитро нам подмигнул и, не ожидая приглашения, прошел и сел.
Алексей Михайлович проследил за ним взглядом, не поворачивая головы.
– Да, – ответил он, но, скорее, машинально.
– Ну, вы вчера хороши были, – обратился Думчев ко мне. – Только уж очень поспешаете, молодой человек, очень, очень.
Я пожал плечами, словно отдернувшись от его слов – выразительно во всяком случае. Но это его нимало не смутило.
– Эх, такое дело испортили! – покачал он головой. – Представляете, Алексей Михайлович, только игра, можно сказать, началась, а он вдруг на них…
– Да вы уж говорите прямо, – досадливо воскликнул Алексей Михайлович.
– А что – прямо? – чуть оправдательно отвечал Думчев. – Игра-то хитрая. Что вы думаете, Ванокин свою Марту это просто так к ним привел и просто так усадил рядом?
– С кем это рядом? – сказал я.
– С вами и рядом.
– Я бы попросил вас… – начал я, едва сдерживаясь, но Алексей Михайлович не дал мне договорить.
– Поспокойнее, – сказал он, делая мне знак рукой, и повернулся к Думчеву. – Андрей Ильич, дорогой, если можно, то без этих ваших… Давайте потолковее. У меня сегодня голова болит.
Тон Алексея Михайловича был досадливо-нетерпеливый. Думчев же при этих словах поднял высоко брови, но не как удивленный или обиженный, а скорее, скорбно.
– У меня тоже, Алексей Михайлович, голова болит, – произнес он со значением и ткнул пальцем в шляпу.
– Да, да, – как бы спохватившись, заговорил Алексей Михайлович, – вы уж простите, у меня свое… Я понимаю. Вы рассказывайте… мы вас ждали.
– Думаете, мне легко? – с легким наклонением головы продолжил прежнюю свою мысль Думчев. – Я, можно сказать, рисковал… головой, когда этот Ванокин по вашей милости, – он повел рукой в мою сторону, – на меня падал. А у него вес. И потом – кусты, сами понимаете, не присядешь, сыро.
– Мы понимаем, Андрей Ильич, – нетерпеливо вставил Алексей Михайлович, – мы слушаем. Какая же игра?
Думчев нетерпение Алексея Михайловича, как видно, истолковал по-своему:
– Игра хитрая, – проговорил он медлительно и важно, но, столкнувшись со взглядом Алексея Михайловича, продолжал живее: – Вот и вы, Алексей Михайлович, вниманием Марты не были обойдены, а?
– Я только мельком… знаком, – недовольно сказал Алексей Михайлович.
– Это неважно, что мельком, это потому, что вы сами. А у них не получилось. А Марта, скажу вам прямо, она – наводчица.
– Вы, однако, выражения не подбираете, Андрей Ильич, – осторожно заметил Алексей Михайлович и повел в мою сторону глазами.
– А здесь хоть подбирай, хоть не подбирай – суть одна. Я, конечно, не в уголовном смысле, а вообще. Понимаете: дело, которое у них тут заварилось, – пока еще смысл полностью не ясен; скрытное это дело требует информации от, так сказать, задействованных в него людей. Круг людей широкий, а главный, кажется, этот – старик.
– Никонов?! – воскликнул Алексей Михайлович.
– Именно. И напрасно вы так удивляетесь. Кстати, Алексей Михайлович, вы у него были, как он вам показался?
– Никак он мне не показался. Я просто ходил – проведать.
– Ну да, понятно, – хитро улыбнулся было Думчев, но быстро снял улыбку. – Так вот: этот Ванокин свою Марту пригласил, чтобы она наводила. Понимаете: женщина, и все такое прочее. А она познакомится, туда-сюда, разговоры. Информация, она в самых простейших разговорах выпадает, так сказать, в осадок. Конечно, если с умом. Вот и вчера, в беседке, он молодого человека ею, Мартой, улавливал. А молодой человек все испортил. Но Марта – мне-то уж понятно – она молодец. Даже в такой ситуации все равно свою роль держала. Правда, до конца не смогла. Понятное дело – женщина, испугалась. Кто же мог ожидать, что вы ее этого… так…
– А куда Марта скрылась? – неожиданно и для меня спросил Алексей Михайлович.
– Что? – воскликнул Думчев.
– Я спрашиваю, вы знаете, где она прячется?
Думчев втянул голову в плечи, как-то сбоку и снизу внимательно посмотрел на Алексея Михайловича, перевел взгляд на меня, потом обратно.
– А вам откуда известно? – прошептал он.
– Да уж известно.
– Э-э, Алексей Михайлович, э-э, нехорошо, – протянул он обиженно.
– Да что нехорошо?
– Э-э, нехорошо. То-то я думаю, чего бы Алексею Михайловичу у старика так долго задерживаться. А вы ведь там без малого почти два часа просидели. А говорите – проведать. Кто же два часа проведывает, за два часа только утомляют.
– А вам откуда известно про два часа?
– Да уж известно, – отвечал Думчев словами Алексея Михайловича и со значением развел руки.
– Вы не думайте, – проговорил Алексей Михайлович примирительно, – ничего я толком про Марту не знаю: так, за завтраком наблюдал за Ванокиным, он, кажется, про нее расспрашивал. И с упорством. Вот я и решил…
– А ведь вы сегодня на завтраке не были, Алексей Михайлович, – не отрывая взгляда от Алексея Михайловича, раздельно выговорил Думчев.
– А вам откуда известно? – в тон ему спросил Алексей Михайлович. – Вы что ж – следите?
– Почему же слежу?! Не слежу, а присматриваюсь.
– И что же вы присмотрели?
– А то, что Марта и в самом деле скрылась. Только вот вопрос – у кого?
– У кого?
– А-а, вот здесь и новый оборот намечается: у этого… у жены бородатого.
– У Леночки?
– У нее самой.
– Да вы-то откуда знаете?
Вот здесь сладкая минута для Думчева наконец и наступила:
– Логика, – сказал он, высоко подняв палец, сантиметров на двадцать, наверное, выше головы. – Всего лишь логика. Но какая! Молодому человеку известно, и по вчерашнему понятно было, что Леночка Марту ненавидит. Так? Так. И вдруг – Леночка ее и скрывает. А бородатый… как его…
– Мирик, – вставил я нетерпеливо.
– Да, Мирик. Знает и…
Здесь Думчев сделал любимую паузу.
– И что?
– А ничего – нейтрал!
– Да вам сама Леночка, что ли, сказала? – спросил Алексей Михайлович, откидываясь на спинку стула и сложив руки на груди.
– С этой дамой не знаком. Но вывел, – Думчев улыбнулся, кажется, приготовил паузу, но передумал: – Ванокин этот сегодня на Леночку чуть ли не кричал. И заметьте, при бородатом, то есть при муже. А он, как известно, с ним всегда с осторожностью, потому что у того авторитет. А здесь – кричал на жену. Почти что с угрозами. Я, конечно, всего слышать не мог, но имя-то названо было, и не один раз. Вот и вся логика.
– Да какая же логика, если Леночка ее ненавидит?
– А это уже не логика, это уже – парадокс.
– Какой парадокс?
– Парадокс женской логики.
Здесь наступила пауза, но теперь уже не только по инициативе Думчева. Я поднялся. Поднялся и Думчев.
– А вы куда, Андрей Ильич? – остановил его Алексей Михайлович.
– Мне… это… надо… – теребя поля шляпы, забормотал Думчев.
– Нет, уж вы оставайтесь, у нас партия в запасе. А? – сказал Алексей Михайлович, шагнул к Думчеву, довольно бесцеремонно ухватил его шляпу и потянул к себе. – Мое право – реванш!
Я пошел к двери. Открыв уже дверь, я оглянулся: Думчев тоскливо смотрел мне вслед.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1Должен сказать, что, выйдя от Алексея Михайловича, я почувствовал, что уже не в том состоянии нахожусь, чем тогда, когда входил к нему. Скорее, не настроение мое изменилось, а настрой. Конечно, и рассказ его тут влияние имел. Но не в одном рассказе было дело. Не знаю, как лучше объяснить, но что-то такое во мне затормозилось, и хотя я знал, что пойду к Леночке и что Марту разыщу – первый мой порыв как-то замедлился. Большая доля непосредственности как бы ушла (непосредственное чувство в нас, как летучая жидкость: забыл или неплотно закрыл сосуд – она и испарилась). Во всяком случае, я повернул направо, к своей двери, а не налево – к выходной лестнице.
Войдя в комнату, я уже знал, что делать мне здесь нечего и ничего, кроме томления, здесь не отыщется, но я также знал, что идти мне сейчас, сразу, никак невозможно.
«Ну что, – думал я, – разыщу ее. А что скажу?» Какой-нибудь час назад я и не задумывался об этом – мне нужно было разыскать. А теперь вот думал. И дело не в том, что я ввязываюсь в историю (хотя ввязываюсь, конечно; а если точнее – уже ввязался и буду только увязать глубже), дело в другом. О ней говорил Думчев. Положим, Думчев ни о ком хорошо не говорит, и все эти его – «наводчица» и прочее, это только его собственное и к ней отношения может не иметь. Ну вот, я уже сказал: «Может». А если имеет? Если – и здесь ничего толком не разобрать, и всякое предположение не без основания – если и это игра – это ее бегство – если и здесь умысел? Даже если это бунт, то все-таки бунт имеет же под собой основания, не из воздуха же он сотворился и не один же здесь женский каприз! Теперь понятно, что она с Ванокиным знакома давно, да и не просто же по-дружески знакома! И приехала она сюда, судя по настроению, не красотами любоваться, а потому что – судя по Думчеву – он вызвал и потому что «все решается днями».
Понятно, что я себе Марту «придумал». Но, если бы она тогда не потянула бы меня с а м а и если бы Ванокин не встал на дороге, может быть, и придумывания никакого не свершилось бы. Но оно совершилось – и я не хочу, да и не сумею разубедить себя. Но главное, что н е х о ч у. Спрашивается (а хоть бы и спросил кто) – что я в ней такого разглядел? Положено отвечать (и считается, что только тогда настоящее), что мне это неведомо, что это невыразимо и что вообще такой вопрос неуместен. Очень даже уместен, тем более в моем случае. Конечно, вся сцена в беседке просто глупый скандал, но… если бы она не потянула меня с а м а!
Через несколько лет мне уже тридцать, около полжизни, можно сказать. А чем я хоть кому-нибудь за эти годы помог? Хоть кому-нибудь протянул руку? Конечно, есть и оправдание, и достаточно веское: мол, готов был протянуть ежеминутно, но только возможности не представлялось, но только никто не просил, то есть, м е н я н е п р о с и л.
И вдруг страшная во мне толкнулась мысль: «Это если никто не попросит за всю мою жизнь, значит, ни одна душа человеческая во мне не нуждается?» Да что же я сам такое есть, чтобы хоть кто-нибудь во мне нуждался! Это еще заслужить надо – а чем я заслужил? Это еще доказать надо, что…
Марта… Что мне за дело до ее тайн, если она в помощи нуждается. И что из того, если принять не захочет?! Чтобы «не захотела принять», сначала нужно иметь, что дать. Эта Варя, Алексея Михайловича, она просила помощи. А он? – он готов был ей помочь, только если бы не надо было себя ущемлять. Он готов был помочь, только как бы со стороны: пожертвовать легче даже самым дорогим, даже жизнью легче пожертвовать, чем хоть маленькое несчастье н е с в о е в себя принять. Ведь с этим жить!
– Постой, – сказал я себе, – так что же получается: что ты можешь отдать и что на себя принять? где эта степень? где эта граница и кто ее прочерчивать будет? А ведь есть же она – граница! Это если я Марте помогу тем, что д а м, а она все равно во мне нуждаться не перестанет, то что же, мне до конца с нею быть, хоть бы я потом и не захотел? А если ей не нужно ничего д а в а т ь, а нужно от нее п р и н я т ь, то разве смогу я?
Алексей Михайлович той женщине не отвечал не потому, что не жалел, а потому, что сердцу не прикажешь. Но это легко, когда сердце само… Весь-то вопрос в том – сможешь ли «приказать»? А иначе: кого люблю, тому и помогаю, а к кому равнодушен стал, – те пусть как сами знают. Значит, долг есть только у любви, а если разлюбил, то и долг назад востребовал? И Дон-Кихот отправился на подвиги добра и сострадания во имя своей (пусть и выдуманной, – но необходимость была в «придумывании» таком) прекрасной дамы, то есть долг его перед людьми впрямую с долгом перед любимой соотносился. И если бы не было этого долга, то…
Я не мог продолжать: мысли мои путались. Я встал, прошелся по комнате из конца в конец, сел, закрыл глаза, но через мгновение снова поднялся. Мне нужно было идти. Я еще не знал куда, но я не мог оставаться. Я не мог оставаться, мне необходимо было… необходимо было д е й с т в о в а т ь. Я вышел из комнаты, почти бегом минул дверь Алексея Михайловича, сбежал по лестнице и…
В проеме двери, опершись о косяк спиной, стоял Думчев.
– Вы что? – крикнул я скорее от неожиданности.
– Вас жду.
– Что? Мне некогда, – пригнув голову и пытаясь проскочить, пробормотал я; я уже было и проскочил мимо, но он успел ухватиться за мое плечо, и довольно ловко.
– Не-е-т, – сделав несколько торопливых шагов за мной, но не выпустив плеча, выдавил он.
Я резко обернулся и дернул руку на себя; пальцы его разжались, а рука повисла в воздухе; дышал же он так, как после быстрого бега.
– Мне некогда, я тороплюсь, – отчетливо сказал я, употребив все силы, чтобы говорить спокойно. – У меня нет времени.
– И у меня нет, – задышливо проговорил он и, приподняв шляпу, отер тыльной стороной ладони лоб, – а я вот сколько уже вас ожидаю, пока вы… хе-хе… себе размышляли.
– Что-о? Что вам нужно? – уже не сдерживаясь и с угрозой сказал я.
– Мне? – он криво улыбнулся. – Мне ничего не нужно, а нужно вам.
Он сделал паузу, но я не стал ждать ее окончания, а, махнув рукой, зашагал прочь.
– Ничего вы не добьетесь. Она при муже не скажет, – крикнул он мне вслед.
Я не обернулся, но шаги значительно замедлил.
– Я говорю, что она с вами при муже говорить не будет – осечка выйдет. А уж во второй раз не примет, – говорил он, подходя ко мне неспешно, потому как я уже остановился совсем. – А вот присядем на скамеечку, утомили вы меня очень. А мне, знаете… годы.
Он аккуратно устроился на скамеечке, посмотрел на меня, чуть склонив голову набок; шляпу держал на коленях.
– Кто не примет? – спросил я, оставаясь к нему вполоборота.
– Леночка. Она и не примет.
– А вам-то откуда известно, что я…
– К Леночке? Ну, это не наука, это – азбука.
– Что вы хотите? – теперь я уже дышал, как после бега.
– Помочь вам хочу, – кротко сказал он. – Всего только помощь оказать.
– Я вас не просил.
– Ну и что, что не просили. Может, что и не попросили бы. Но помощь-то нужна. Мелочь, конечно, но и в мелочи приятно помочь, пока больших дел нету.
– И для этого ждали?
– Для этого и ждал. А вам удивительно?
– А что же не зашли?
– Алексей Михайлович не отпускал: цейтнот у него после двадцать первого хода. И к тому же, мешать не хотел вашему обдумыванию.
– Послушайте, Андрей Ильич, – сказал я раздраженно. – Почему вы всегда так… словами… Что вы, не можете… И потом… если вы занимаетесь… то дело ваше, а меня нечего втягивать.
– Куда вас втягивать, вы уже и сами, так сказать, втянулись, – как бы ощутив сладость во рту, проговорил он и сделал при этом движение рукой у горла, каким поправляют галстук.
Я долгим выдохом выдохнул через нос и насильно улыбнулся:
– Вы извините, но кажется, что в вашем возрасте уже эти игры… Все возня какая-то вокруг, а убрать – и ничего внутри нет. Никакого д е л а здесь нет.
– А тогда зачем горячиться? – в прежнем тоне сказал он.
– Надоело.
– И к Леночке поспешаете от этого?
– Это мое дело.
– Да уж, разумеется, ваше. Вот вы и сами признались, что – «дело», а говорили – возня. Только знайте, – он наставительно покачал головой: вокруг всякого дела – возня, а вокруг серьезного – трижды возня.
– Это все, что вам нужно было?
– Нет, не все, – он провел ладонью по доскам скамейки, положил рядом с собой шляпу (совсем не на то место, которое протер). – Я вот зачем вас ждал: вы к Леночке сейчас не ходите, там ее этот бородатый муж, она при нем ничего не скажет. А я вам только время хотел указать, когда можно будет – с толком. Как говорится: свое время всему под солнышком, каждому плоду, и так далее. А в пять часов, то есть, в семнадцать, ее бородатый уходит на прогулку, и всегда один. Для моциона души и тела. Думать уходит. У него много есть о чем подумать. А у таких все раз и навсегда расписано: когда гулять, когда спать, а когда в потолок плевать. Хоть потолок провалится, а в пять, если не придавит потолком, – прогулка. Гуляет он недолго – час, вам и этого вполне хватит. А Леночка в палате сидит, его там дожидается, по некоторым, как понятно, причинам. Так что в пять минут шестого можете свободно входить.
– Это все? – сказал я как можно более отчужденно.
– Все, – развел он руками.
– А вам-то зачем? – опять не удержался я.
– Я же объяснил – помочь, – отвечал он, не опуская разведенных в стороны рук, да при этом еще и плечи приподняв. – Или не верите?
– Не верю.
– А это ваше дело, – сказал он, делая ударение на «дело», – но сами убедитесь. Для чего вам знать о моем интересе, когда я вашему благоприятствую. Кстати, – подался он в мою сторону, видя, что я собираюсь уйти, – вы бы пока – до пяти еще времени много – одно доброе дело могли бы сделать. Нет-нет, не для меня. Для несчастного старика. Навестили бы его, он, кажется, вас ждет. Да и Алексей Михайлович советовал. Переждете до пяти, а уж там по своему прямому делу. И уверяю вас – в проигрыше не будете.
Говоря это, он поднялся, взял шляпу и, помахивая ею в такт бодрым своим шагам, прошел мимо меня. Я, почти завороженно, провожал его взглядом. У поворота он приостановился:
– Хочу напомнить вам, что Алексей Михайлович у старика около двух часов пробыл и при закрытых дверях, так сказать, с ним беседу имел, – он помахал шляпой и добавил: – Да не фигурально выражаясь, а запершись на ключ – изнутри, на два оборота.
И, еще раз взмахнув шляпой, он наконец удалился.
Я опустился на край скамейки. Мне стало не по себе – смутно и тоскливо.
2Так бывает: задумал что-то важное, кажется, одно только оно в тебе, оно одно и светить может, а – вдруг! – какой-нибудь незначительный пустячок и встанет на дороге: издалека еще пустячок, а подойдешь вплотную, он тебе и свет загородит; его бы обойти и не думать, дело свое важное продолжать – так нет: пока не поймешь, почему он на твоем пути оказался, да пока не обсмотришь его со всех сторон, да пока не наудивляешься смелости (а скорее – наглости) пустячка встать на большой дороге – вот и остановка; и простояв так, почувствуешь, как с дела твоего уже некоторая важность сошла, осыпалась, как позолота; и сомнение ты примешь, и тоску ты впустишь, и сядешь у края дороги, и пожалеешь себя очень, хотя и знать не будешь – за что жалеешь? и почему сидишь? а только жалости к себе всегда больше, когда причин не ищешь и природы ее, жалости, не ведаешь.
Что нужно было Думчеву и почему он так говорил со мной? в чем его интерес? или нет никакого интереса, а просто глупость и привычка лезть не в свои дела? – все крутились у меня вопросы, и я не мог остановить их кружения и вникнуть хотя бы в один. И как всегда бывает: вопросов всё больше являлось, они копились и путались, а мне казалось, что вот-вот явится простой и главный вопрос, и не просто явится, а еще и ответ за собой притянет, и – все станет понятным. Но простой и главный вопрос не приходил, а мне стало вдруг жалко себя, как будто меня несправедливо и ни за что обидели, а успокоить позабыли.
Так я просидел довольно долго. Но не вечно же было так сидеть! Я встал, прошел вяло несколько шагов, оглянулся. Подумал: лучше бы вернуться к Алексею Михайловичу. Я уже повернул было, но мне стало снова неловко к нему по пустякам обращаться. И я побрел по дорожке в ту же сторону, куда скрылся Думчев. Я уже не думал о Думчеве, уже не искал его интереса, но – я как-то уже не так думал и о Марте.
Я поднял голову и посмотрел на солнце: оно еще было высоко и до пяти часов ему столько еще двигаться. Эти «пять» часов Думчева что-то уж очень благодатно во мне проросли. Я себе говорил, конечно, что он здесь ни при чем, что я дожидаться пяти часов не намерен. Я опять поднял голову, и опять глядел на солнце, и думал, что почему это на юге оно очень уж медлительно движется по небу? Но и я передвигался медлительно и старался идти д о л г о. До главного корпуса я все-таки дошел: постоял у колонн с осыпавшейся штукатуркой, потрогал обнажившиеся кирпичи, подумал – а как это из прямоугольных кирпичей делают круглые колонны? – и вдруг легко сказал себе: «А что бы и в самом деле не сходить к старику?» Сказалось это во мне вдруг и легко, да еще добавилось, что при Мирике разговор получится вряд ли, а старика, так или иначе, нужно навестить. Что же касается Думчева, то если у него есть интерес, то пусть он с ним и остается, а мне голову ломать незачем. И еще: как раз до пяти и просижу.
Я похлопал ладонью по кирпичам, и хотя они звонко не отозвались, сбежал со ступенек почти с лихостью и бодро зашагал в направлении корпуса, где проживал «мой старик». Разузнав про номер его комнаты, я поднялся на второй этаж, прошел по веранде (здание было точно такое же, как и то, где жил я) и постучался у двери. Никто мне не ответил. Я постучался опять, а после паузы похлопал ладонью, и довольно усердно. Ответа не было, и я было уже повернулся уходить, как с той стороны двери, совсем близко, осторожный, но отрывистый голос сказал: «Кто?»
В первый момент я голоса не узнал, даже подумал, что ошибся дверью, а потому сразу не нашелся что отвечать. Но голос, который я теперь узнал, в том же тоне повторил: «Кто?»
– Это я, – произнес я как можно бодрее. – Это я, Саша.
– Кто? – повторил он в третий раз и лишь после молчания добавил: – Какой Саша?
– Алексея Михайловича сосед, – сообразил я ответить.
– Сосед? А-а, – наконец проговорил Никонов, совсем уже узнаваемо. – Подождите минутку.
Я подождал. Прошло минут, наверное, не менее трех, пока я услышал, как проворачивается ключ в замке. Дверь приоткрылась чуть-чуть, разве только чтобы палец просунуть, но в этой щелке, на уровне моего лица, я увидел глаза старика. Я увидел только глаз, из темноты на меня смотревший, но я поразился его испуганному блеску (не знаю – блеску ли только, но я поразился). Несколько мгновений он на меня смотрел пристально, потом проем медленно стал расширяться, хотя только до того предела, когда бы я только с трудом мог бы протиснуться; голова старика показалась вся.
– Проходите, – сказал он шепотом и посмотрел за мою спину.
Я невольно оглянулся за его взглядом, пожал плечами и втиснулся в дверь (он крепко держал ее в образовавшихся границах).
Как только я проник вовнутрь, он сразу же закрыл дверь (но не хлопком) и повернул ключ в замке («изнутри, на два оборота» – припомнились слова Думчева).
В комнате было темно, во всяком случае так мне сразу показалось. Когда глаза привыкли к свету, темнота сделалась сумраком, но все-таки густым. Шторы были плотно задернуты, постель стояла разобранной. Три подушки, одна на другой, а одна из них пухлая и широкая, явно не санаторная, делали изголовье высоким – так можно было, скорее, сидеть, чем лежать.
Я стоял у дверей; старик прошел мимо меня молча, молча же забрался на кровать, оперся о подушки, запахнул одеяло, поправил его у ног – перегнувшись и кряхтя – и все это аккуратно устроив, обратился, наконец, и ко мне.
– Что же вы стоите? – сказал он, впрочем, бесстрастно. – Возьмите вот этот стул. Нет-нет, поближе. Да, вот тут.
Я сел, почти касаясь коленями края кровати. Никонов одет был в халат, довольно потертый, но, как видно, дорогой, какие сейчас не носят, с шелковыми обшлагами – «академический», из-под халата виднелся ворот рубашки, очень ношенной, но чистой; на тумбочке возле кровати стоял графин с водой и два стакана, термос китайского производства, тоже старого образца, и несколько пузырьков лекарств.
– Хорошо, что пришли, – проговорил он чуть теплее, – я вас ждал. Видите ли, я приболел. Нет, правильнее, болею. А вы очень вовремя. Во-первых, спасибо… Но не в этом дело: вам Алексей Михайлович передал мою просьбу?
– Нет, Алексей Михайлович ничего мне не передавал.
– Как? Совсем? – как будто даже испугался он и приподнялся с подушек.
– Нет, он мне говорил, что вы больны, – проговорил я неровно, – и чтобы… и чтобы я вас навестил.
– А-а, – словно успокоенный моим ответом, протянул он и снова откинулся на подушки. – Я с ним говорил, – начал он после короткого молчания. – Мы с ним беседовали, но… Я не сказал ему главного, – он опять приподнялся и потянулся ко мне. – Могу я говорить откровенно?
Я неопределенно повел головой: такой его вдруг вопрос показался мне странным – в прошлый раз он у меня разрешения не спрашивал.
– Очень хорошо, – сказал он с облегчением, как будто можно было ждать от меня отрицательного ответа. – Спасибо вам. Я так и думал. Да, я говорил с Алексеем Михайловичем, но без главного, то есть, хочу сказать, без главного на сегодняшнюю минуту. Я не хочу его пугать. Понимаете? Он должен быть спокоен, чтобы совершить… Его нельзя ввязывать. Он должен быть спокоен. Да. Вы понимаете мою мысль?
– Не совсем, – признался я.
– Да это так просто, – он досадливо пошевелился. – Как же вы не можете понять – я получил письмо.
Он сказал: «Письмо» – и, прищурившись, навел на меня долгий и пристальный взгляд, как бы желая что-то высмотреть в моих глазах, может быть, такое, чего я и сам подразумевать в себе не мог. Как видно, ничего «такого» мои глаза не отразили, потому что он снова откинулся на подушки, а выражение лица его изобразило разочарованность.
Надо сказать, что до этой минуты, от самого начала почти, я досидел еле-еле и стал уже порядком жалеть о потерянном времени, хотя, если говорить честно, для того сюда и шел, чтобы его терять.
Но здесь «мой старик» как-то вдруг снова собрался (отличительной его особенностью были резкие перемены состояний, но главное то, что перемены эти не мешали продолжению взятого вначале темпа, напротив, они работали, как шатуны, разгоняя движение – вверх и вниз, вверх и вниз).
– В прошлый раз я сказал вам о двух опасностях, – начал он. – Вы, наверное, помните? (Я кивнул.) Так вот, их две: время и «один человек». Видите ли, я получил письмо. Оно с угрозами, и вполне реальными. О, вы даже представить себе не можете, до чего они реальны. И – близки. Если бы вы могли знать, как…
– Но, – перебил я его, – Владимир…
– Федорович, – подсказал он.
– Да, извините, Владимир Федорович. Я только хочу напомнить, что вы… то есть, может быть, вы забыли, что я совсем не в курсе… и, простите, мало понимаю.
– А разве Алексей Михайлович?..
– Что?
– Разве он ничего вам не говорил?
– Но вы же только что сказали, что для его спокойствия… что он ничего не должен знать.
– Ах, да-да, – проговорил он в задумчивости и, потянувшись к графину на тумбочке, налил воды, поднес стакан к губам, подержал у губ – то ли размышляя, стоит ли пить, то ли вообразив, что в стакане дорогое тонкое вино, – но приступил наконец маленькими глотками, после каждого причмокивая и прижмуривая глаза.
Поставив стакан, он посмотрел на меня таким взглядом, словно удивляясь, что я еще здесь. Я подумал, что он и в самом деле болен. Но он, снова «припомнив» меня, спохватившись, сказал: «Одну секундочку», низко перегнулся, потянул ящик тумбочки, в образовавшуюся щель с трудом просунул руку и осторожно вытянул оттуда листок обычного формата, положил его перед собой на одеяло и накрыл ладонью.
– Вот оно, – проговорил он значительно. – Вот оно. И в этом – все. Вы можете понять, что в этом заключается все?!
– Да что вы, Владимир Федорович, в самом деле! – воскликнул я, не скрывая раздражения и даже взбадривая его. – Я ни о какой сути не знаю, понимаете вы, ни о какой, и ваши слова…
– Да-да, простите, – успокаивающе протянув ко мне руку, проговорил он. – Но вы сейчас все, все поймете, и тогда рассеянность моя не покажется вам… Вот, – резко протянул он мне листок, будто с трудом отрывая его от одеяла, – прочтите! Вы прочтите, а потом я вам дам объяснения. Хотя это и нелегко, уверяю вас. Но – читайте!
Я принял протянутый листок, второе чужое письмо, которое я держал в руках сегодня, повертел его в руке и, ни слова не говоря, положил его на край тумбочки.
Нет, я не играл, но мне не хотелось читать: на сегодня с меня было довольно, любопытство покинуло меня. Я почему-то вдруг подумал о Марте: что я теряю сейчас впустую те самые минуты, которые бы ей были нужны.
– Вы что? – придвинулся он ко мне испуганно.
– Я не хочу читать.
– Как? Почему не хотите?
– Просто. Я не могу, и потом… – начал я нерешительно, но потом голос мой окреп: – И потом, никто не спрашивает меня, а только: это прочти, это выслушай. Но почему я должен? У меня, в конце концов, могут быть и свои дела. Но никому неинтересно… Вы… Вы вчера меня спросили, вы поинтересовались?! Нет, вы сразу мне о своем, и опять же: должен, должен. А что я должен?
Все это я выпалил разом, и к концу голос мой, кажется, даже зазвенел. Повторив вопрос, я резко себя оборвал и, опершись о колени, хотел встать, но… С проворностью, которую я в старике никак подозревать не мог, он спрыгнул с кровати и, ухватив мои руки, почти навалился на меня.