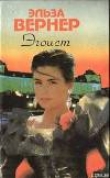Текст книги "Чистая сила"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
Вопрос был задан без расчета на ответ, однако необходимую паузу Думчев выдержал.
– Курорт – это не просто отдых и не просто место, – продолжал он, – это, хотя и приятное, но неестественное для человека времяпровождение. И прямее скажу – в большей мере и безнравственное. Вот встаньте на набережной и спрашивайте всякого проходящего: зачем он сюда приехал. И через одного получите ответ (другая половина будет говорить, что для отдыха) – забыться. Вот он главный ответ, и в нем вся суть места, именуемая курортом: забыться. А что такое – «забыться»? Это, пусть и на короткое время, но все-таки з а б ы т ь. Что забыть? А все. И главное то, чем живешь в обычной своей жизни и – подчеркиваю это – в родном своем углу. Можно на курорте быть неверным супругом? Можно. И не только можно, но это почти закон курорта. Можно степенному и рассудительному человеку вести себя как молодой прохвост? – не только можно, но если будешь вести себя степенно и рассудительно, то всю общую картину испортишь. И главное – какой смысл? Это ведь курорт. Здесь все можно и все допустимо. И это главная привлекательность курорта. Что же касается воды и солнца – это внешнее. А в нашей средней полосе – и солнце мягче, и воздух чище. Однако туда толпами не ездят. Там ведь сложившийся уклад. Там по деревне в трусах гулять не станешь, а здесь можно, и практически – везде. Там, в нашей средней полосе – свой уклад, а где-нибудь в южной деревне – свой, а здесь, на курорте – никакого уклада, то есть даже обязательность жизни вне всяких и всяческих укладов. Это все равно, как если бы на Луну залететь или в какую-нибудь колбу поместиться: взболтай в ней жидкость, то бишь жизнь, где верх, где низ – не разберешь. Кстати, о верхе и низе. Здесь одна знакомая дама однажды прелюбопытно рассуждала: «Что вы все твердите, говорит, земля, почва. Это для вас, видите ли, верх, значит, духовное, а это, видите ли, низ, значит, низменное. Все это выдумки и смотрение с одной точки. А если вас в космос закинуть да заставить верх и низ отыскать – разве найдете? Нет там никакого низа и нет там никакого верха». Ей возразили в том смысле, что мы-то на земле, а не в космосе. А она: «Вот и видно, что шагу с одной точки ступить не можете – Земля-то наша как раз в космосе и плавает». Вот вам и рассуждение, и попробуйте оспорьте. А рассуждение ловкое, тоже из ряда курортных.
– Это вы к чему все?.. – сказал Коробкин.
– А к тому, что здесь место такое и дух такой, что вся история с коробкой этой здесь и должна была произойти: в оторванности этой, в колбе, на Луне. Моя же роль, только роль хирурга, который должен вовремя – не раньше и не позже – гнойник скальпелем и взрезать, да еще делать вид, что это совсем не больно – чик, и готово.
– Так вы на себя это право берете, чтобы судить?.. – сказал я.
– Э-э, – протянул он, легонько хлопнув себя ладонью по коленке, – и вы туда же: судить, не судить. С вами, доложу я вам, никакой нет возможности по-простому разговаривать. Взялись слушать, так слушайте. Да не судить, не судить! При чем здесь это! Вот вы судить и беретесь. Да, да, не удивляйтесь. А я не сужу, я к действию побуждаю: я скальпелем чиркнул, узел, так сказать, разрубил, и пусть теперь силы организма борются – кто сильнее, тот пусть и будет наверху. А судить нечего. Что судить – пустое!
– Ну, хорошо, – сказал я, – если плохое с плохим бороться будет, то все равно ничего хорошего не выйдет.
– Как знать. Как знать, – откликнулся он. – Отрицательное на отрицательное – вот тебе и положительное. Кроме того, может быть, друг друга так съедят, что пустое место останется. Лучше уж пустое, чем плохое.
– А вам-то это все зачем, дядя? – вставил Коробкин.
Думчев «дядю» постарался не заметить, хотя слегка и поморщился.
– А мне это нужно затем, молодой человек, – произнес он с расстановкой, – что мне просто не нравятся размышляющие и сомневающиеся. Самые вредные люди. Я бы сказал исторически – «болото». Да, да, болото: вода никуда не течет, рыба не водится; пузыри время от времени булькают – вот и все действие.
– Так вы, значит, дядя, большой любитель действия, – не унимался Коробкин. – Так ли?
– Так, молодой человек, именно так – я любитель действия. И любому благому бездействию предпочитаю, пусть и рискованное в смысле морали, действие.
– И что теперь будет? – перебил я ход его мыслей. Да мне порядком и надоели все эти не идущие к делу идеи.
– Это вы про старика?
– И про старика тоже.
– А ничего не будет. То есть хочу сказать, никаких больше столкновений. Старик, надо понимать, уйдет, а эти – уедут, и, думаю, вместе.
– Что значит «уйдет»? Куда он уйдет?
– Что значит? – Думчев снисходительно улыбнулся. – А значит это, что все для него закончилось, и в физическом смысле тоже. Так сказать, по состоянию здоровья и ввиду опасных душевных перетрясок.
– Так вы полагаете, что он… – начал я, наконец осознавая смысл его слов; но не смог досказать.
– Вы правильно полагаете, – удовлетворенно покачал головой Думчев. – Старику пора отходить… в сторону.
– И вы об этом так просто говорите… – я хотел досказать, но опять запнулся и сказал другое: – А коробочка, ценности, они куда?..
– Вот, вот, – обрадованно воскликнул Думчев, – и вы не избежали: жизнь человеческая – ценность большая, но денежки все равно счет любят. Интересуетесь, значит, дальнейшим, так сказать, состоянием материальных ценностей.
– Я не то… – было начал я, но Думчев меня перебил:
– Ни в коей мере! Ни в коей мере! – проговорил он, всплеснув руками. – Я не подозреваю вас ни в коей мере в корыстных, как говорится… Я только уточнил, что этот интерес и в вас имеется. Что поделаешь: ничто человеческое нам не чуждо. Я удовлетворю ваше естественное (и подчеркиваю, вполне бескорыстное и простительное) любопытство: он их, ценности, с собой заберет.
– Как «с собой»? – не понял я. – Куда?
Думчев несколько секунд неотрывно смотрел мне в глаза, потом нагнулся и два раза указательным пальцем дотронулся до земли у своих ног.
– Вот сюда, – тихо и печально сказал он.
Я машинально кивнул головой, как бы соглашаясь, и только тут понял, что имеет в виду Думчев. Я понял, и понял, что должен возмутиться или хотя бы сказать, что несогласен и что все это его выдумки, и потребовать, чтобы он открыл истинную причину таковых… Но я не смог. Я не смог потому, что вдруг сейчас подумал о Марте и о том, что сказал Думчев чуть раньше и на что я не обратил внимания – эти слова вдруг приблизились ко мне вплотную, и я физически ощутил их тяжесть и их, для меня до этого смутный, смысл. Слова эти подошли и закрыли собой и Думчева, и старика, и… все.
«Как же – вместе?» – спросил один голос внутри меня, а другой, голосом Думчева (или очень похожим на голос Думчева), ответил: «А вот так же!»
Я думал о Марте, и все проблемы этих дней, и проблемы сегодняшнего дня, и те проблемы, которые еще встанут передо мной завтра и в последующие дни, может быть, и во многих последующих днях – все это не то чтобы ушло совсем или сделалось видным, как в тумане (как и бывало не раз), но словно я сам, только подумав о Марте, отодвинулся от них в какую-то свободную и ничем не загроможденную сторону: то есть все это было и оставалось, и я был рядом со всем этим, но – в разных сторонах; и я, зная, что это мое и что мне от всего этого никуда не деться, я все-таки сейчас был в стороне.
– Вы сказали, – проговорил я, глядя мимо глаз Думчева, – что она с ним уйдет?
– Кто это? Вы о чем? – сделав удивленное лицо, спросил Думчев, но я понял, что он догадался, о ком я спрашиваю.
– Вы ведь знаете, – сказал я как будто равнодушно, но все-таки просительно.
– Конечно, знаю, – сказал он, хитро улыбнувшись и впервые за все время разговора отодвинувшись к тому Думчеву, который умел представляться шутом (теперь-то было ясно, для чего он представляется). – Только ведь ничем помочь не могу: в чем не силен, в том, признаюсь, не силен. Да и нужды не имел еще личные дела устраивать. И потом – зачем она вам нужна? Дама взбалмошная, все чего-то хочет, а сама не знает чего. И никогда, смею вас заверить, не узнает. Она из тех, которые перед сном знают, чего хотят, а поутру в окошко глянет, а там, допустим, что ночью снег выпал и все вокруг бело (тогда как вчера было серо). Так вот: она при сером знала одно, а при белом уже другое знать начинает. И так далее. Короче, с какой ноги поутру встанет, на той и ботинок жмет. Оставьте это – вам-то зачем?!
– Я же вас не просил, – быстро подняв на него глаза, но тут же опять отведя взгляд в сторону, сказал я. – Я же вас не просил… советы… И если вы не хотите, то и…
– Ну вот и обиделись, – перебил он меня, с удовлетворением, однако, в тоне. – Ну, не буду, будьте покойны. Что же касается вашего вопроса, то скажу: да, уверен, что она уедет с ним, – и помолчав, добавил: – И пока на улице серо, будет знать, что это самое и есть ее… так сказать. Впрочем, только до первого снега.
Произнеся это последнее, о снеге, он снял шляпу и повертел ее в руках, как бы рассматривая, потом осторожно провел пальцем по блестевшей атласной ленточке.
– Так что, так что… – проговорил он и надел шляпу, перед тем еще зачем-то посмотрев ее на свет. – Между прочим, – сказал он, теперь принявшись рассматривать свои руки, – эта ваша знакомая, которая вооружена, должен вас предупредить, очень рискует. То есть, когда начнется разбирательство (а оно непременно начнется) после… после старика. Пистолет-то ее с дыркой сбоку ствола, это понятно – железка, но знаете, одним размахиванием можно такого страху напустить, что человек, а особенно при чувствительном сердце и ослабленном организме, может того… А когда начнут разбираться, то ее, с оружием, так сказать, перед строем выведут, а уж нас, что с языками, все-таки на второй план. Оно может быть, что всякие языки злые и посильнее, в определенном смысле и если в некоторых обстоятельствах, пистолетов. Но, в свете закона, огнестрельное оружие потяжелее потянет.
– Это вы, дядя, к чему? – сказал Коробкин.
– А ни к чему, – отозвался Думчев. – Только ведь не я один, кажется, пистолета испугался. Дело естественное, оттого и вспоминаю. Ну ладно, – он оперся руками о колени, как бы собираясь подняться, но не поднялся, а только выразительно нагнул корпус вперед, – кажется, всем пора. Время хотя и не догонишь, но и прохлаждаться нечего, а потому…
Он опять отнял руки от колен и опять упер их в колени, но снова только нагнулся вперед. Я поднялся.
– Мы пойдем, – сказал я. – А вы…
– Я здесь, – быстро проговорил Думчев. – Так сказать, в тиши и без единой мысли. Отдохну. А вы, как могу понять, соседа своего идете разыскивать, уважаемого мной Алексея Михайловича? Самое время, самое время. А он ведь вчера вас ждал. Поздно вернулся и в известном настроении. Но ждал.
– В каком это – «известном»?
– Да так. Впрочем, сами увидите.
Я не стал расспрашивать. Я повернулся к Коробкину, он утвердительно кивнул, и мы, не прощаясь (что вышло как-то само собой), стали подниматься по склону. Я сказал себе, что не обернусь, но все же не выдержал и обернулся.
– Хотел вам дать совет, – прокричал Думчев снизу. – Не подходите к старику, ему теперь никто не нужен. И помочь ему никто не может уже. Ему самому подготовиться надлежит.
– А? – сказал я, но так тихо (скорее, это просто невольно вырвалось у меня), что Думчев, конечно же, не мог расслышать.
Но то ли он понял «а?» по движению губ, хотя было и далеко, то ли сам догадался, только он повторил еще громче:
– Самому – слышите! – самому подготовиться надлежит.
3Шли мы молча. Коробкин только сначала, у выхода на дорогу, попытался было делиться впечатлениями, но я его почти грубо оборвал; впрочем, он тут же и замолчал послушно, и больше со мной не заговаривал. Шли довольно быстро, что называется, поспешали, хотя я еще и не знал, куда тороплюсь; спешил же, скорее всего, оттого, чтобы скорее отдалиться от места разговора, от Думчева. Я шел, и мне не хотелось ни о чем думать. Лучшее средство, казалось бы, заговорить… Но говорить о пустяках было как-то не ко времени, а разговаривать о важном я с Коробкиным не хотел. «И не умею я с Коробкиным…» – сказал я себе, но не договорил, подумав так: «С кем же я умею говорить о важном? И что это за важное такое, что о нем еще нужно уметь говорить!» Здесь, позлившись на самого себя, я и в самом деле стал думать: что же это такое есть – «важное»? Что же это – то, что важно лично для меня, или то, что важно вообще… для человеческой жизни? Ну вот, мы как будто и говорили с Думчевым о важном, но ведь только он упомянул о Марте (вскользь и даже не назвав имени), как мне неинтересно и не важно стало все важное, и все сразу отошло в сторону, как только я вспомнил Марту. Значит ли это, что большие вопросы жизни важны только тогда, когда я свободен от личного, то есть когда от личного образуется пустота? Или их (вопросы личного и общего) не нужно сравнивать, а нужно их разложить по неким отделам души на второстепенные и первостепенные и нужно их разделить по временам (то есть чтобы было всему свое время и одно другое бы не перебивало)? Или нужно научиться их совмещать? Но как их совместишь? – Как только личное страдание коснется тебя, тут же переводить его в страдания всего человечества? А когда твои страдания минут, то думать, что и все человечество уже находится в том же, как и ты, благостном состоянии? Но ведь не находится?!
А может быть, честнее вообще не думать об «общем»? А если не можешь? Если уже это твоя, пусть и ложная, привычка? А если перестанешь думать, то значит ли это, что перестанешь и делать, а будешь заниматься хранением спокойствия своего личного мира? Но – из всех этих вопросов, из их лабиринта, есть очень надежный один выход, временем проверенный, можно сказать – исторически проверенный. Выход же этот формулируется так: если я есть частица человечества, то, занимаясь устроением своей личной жизни и устроив ее хорошо, я тем самым прибавляю всему человечеству хорошего на ту самую частицу, которая есть я сам и моя личная жизнь. Выход беспроигрышный: сиди себе, свои дела устраивай, а служба человечеству сама собой идет. Только если хорошенько вникнуть, то ведь и такой путь честен, если по совести браться. Но и труден до невозможности: как ты так свой мир по совести устроишь (по абсолютной совести), если весь остальной, большой мир, далеко по совести устроиться никак не может. Вот и получается, что никакого разрыва и противопоставления, а главное – никакого разделения на «свой» и «большой» быть не может, потому что, устраивая «свой», ты устраиваешь и «большой», а устраивая «большой», и о «своем» не забываешь.
Так я шел и думал, и на душе моей становилось одновременно и тревожнее, и освобожденнее. Не знаю – опять я ни к чему не пришел, и вопросы остались без ответов. И от этого тревога была в душе моей; но с другой стороны: всякое усилие в нужном направлении тщетным не бывает, и если ты, чтобы сдвинуть гору, успел и сумел выкопать у ее подножья только двухметровую яму, которую с вершины и не видно, то все равно – выкопал же, и хоть и на два метра, пусть из тысячи, но к цели приблизился. А значит, если даже представить, что завтра умрешь внезапно, твои два метра все-таки останутся. И не надо страшиться, что дождь их подмоет, а по весне они станут зарастать травой, и что мелькнет мгновение, теперь уже «вечной жизни» твоей, и не станет их совсем, твоих двух метров – не надо страшиться. И не надо думать: придут ли за тобой другие и когда? – потому как – куда они денутся, придут ведь когда-нибудь!
– Как ты думаешь, – обернулся я к Коробкину, – придут ведь когда-нибудь?
– Ага, – кивнул он, едва поспевая за мной, потому что я еще более убыстрил шаги.
– Вот видишь!..
– А ты про кого спрашиваешь? – сказал он через минуту.
– А ты про кого отвечал?
– Я – так.
– Вот и я – так, – ответил я улыбнувшись и не давая ему задать новый вопрос (который ему все-таки очень хотелось задать), сказал: – Пойдем покажешь, где ты сегодня старика видел.
– Ты что же, места моего не помнишь? – проговорил он глухо. (Не оглядываясь на него, я хорошо представил составившееся при этих словах выражение его лица.) – И между прочим, я его не встречал, я, как ты знаешь, по обычной своей привыч… Я купался и его увидел. Кстати, я тебе уже говорил, с той самой женщиной, что…
– Слушай, – перебил я его, – давай сейчас расстанемся. Ты пойди… ну, я не знаю… А я туда пойду.
– А мне что…
– Да нет, ты не понял. Но, видишь ли, пойми сам, зачем нам его снова пугать и вместе являться. Ты же понимаешь, как это будет… после вчерашнего. А?
– Понятно, – сказал он удрученно.
– Ну вот. А я… я потом тебя найду, – сказал я, прикасаясь к его руке, и добавил серьезно: – Ты ведь, как всегда, на том же самом месте.
– Ну да, – вздохнул он, – как всегда. Привычка, понимаешь.
– Понимаю, – кивнул я понимающе головой и развел руки в стороны, – вторая натура.
Мы расстались у набережной. Я подождал, пока Коробкин скроется за поворотом, и стал спускаться по лестнице. Я пошел не в сторону моря, а вдоль пляжа: мне хотелось подойти так, чтобы не быть замеченным со стороны скал. И я не решил еще – буду ли я вообще подходить к старику или только погляжу со стороны; но одно представлялось мне необходимым и обязательным – увидеть. То есть, хотя я и не признавался себе, а напротив, убеждал, что так не думаю, не могу думать, и что слова и жест Думчева (постукивание пальцем по земле у своих ног) не могут иметь никакого реального значения, и что никаких (я почему-то все больше упирал на это «никаких») серьезных причин нет, чтобы так верить в эти слова, я все-таки шел, чтобы убедиться, чтобы увидеть… живым.
Место, где Коробкин утром видел старика и где (я не подумал тогда: почему он, старик, собственно, должен там до сих пор находиться) я собирался его увидеть, было за высокой грядой скал, которая потом довольно полого сходила к морю. Впрочем, здесь имелся проход, и я знал о нем, кажется, Коробкин мне его и показал. Пройдя больше половины предполагаемого пути, я наткнулся на залив, метра в три шириной, и присел, чтобы разуться. В штормовую погоду пена с моря доходила и сюда, но сейчас, почти в штиль, вода едва колыхалась, как бы мерно дышала, была прозрачна, и поросшие зеленью основания скал в воде были хорошо различимы. Только что я, держа в каждой руке по туфле, осторожно пробуя ногой скользкое дно, ступил в залив, как откуда-то сверху, очень близко, знакомый голос окликнул меня:
– Ты не купаться ли собрался?
Я вздрогнул и поднял голову: почти на уровне моих глаз, с этой же стороны заливчика, на довольно широком выступе скалы, обхватив колени руками, сидел Алексей Михайлович; он сидел спиной к солнцу, в тени, и я вряд ли мог его заметить, если бы и смотрел по сторонам; но я не смотрел.
Лицо его было без улыбки: и не то чтобы грустное или удрученное, но и не равнодушное и отстраненное, а как бы никакое, то есть, одновременно, и совмещало названные мной оттенки, и не выражало ни один. Это я сразу заметил, да и не мог не заметить – как если бы вместо знакомого лица вдруг увидеть чистый лист и знать, что это то же самое лицо, но видеть только чистый лист. Кроме того, и эта его поза (согнутые в коленях и обхваченные руками ноги и подбородок на коленях) тоже была не его, я бы и представить не мог, что так сидит Алексей Михайлович, всегда державшийся как-то отчетливо прямо.
– Ты к старику нашему таким образом пробираешься? – сказал он, не отрывая подбородка от колен, то ли в тоне вопроса, то ли в тоне утверждения.
Я, как пойманный на месте преступления, виновато и утвердительно кивнул.
– Напрасно, – проговорил он и, прищурив глаза, долгим взглядом посмотрел в море, добавил: – Напрасно и ко мне вечером не зашел. А я тебя ждал.
– Я не мог, – уставившись на голые свои ноги и пошевелив пальцами, отвечал я.
– Понимаю. Только все-таки нужно было зайти. Впрочем, – он вздохнул, – это уже вряд ли что-либо изменило.
– Да, вряд ли, – повторил я за ним машинально.
– Ты знаешь, – опять помолчав, сказал он, – я ведь ждал тебя, еще ничего не зная. Я, правда, поздно вернулся. Но ты знаешь, я сидел один, и так было трудно сидеть одному. А я все ждал тебя и ждал. Ну ладно, об этом после. Скажи, ты шел к старику, чтобы… удостовериться?..
– Да.
– Вот видишь. И я так думал. Но ты не ходи. Ему ни до… ни до кого теперь дела нет. И правильно.
– А вы с ним говорили?
– Так, несколько слов. А с женщиной, этой твоей знакомой… большой, с ней подробно переговорил. Здорово она всех распугала. Занятная женщина.
– Она что вам, про все рассказала? – спросил я осторожно.
Он улыбнулся, поднял голову, свесил ноги с выступа:
– Ты хочешь узнать, рассказала ли про пистолет? Еще как – в первую очередь про пистолет и рассказала. Занятная женщина – на это же еще и решиться надо!
Он заметно оживился, и лицо его как будто потеплело.
– А он что – все так там и сидит… на камне?
– Кажется, это уже всем в округе известно, что старик сидит на камне. Сидит, представь себе, и уходить не хочет. Он всегда, как ты понимаешь, со странностями был, а теперь… совсем не в себе: сидит на камне и камешки в воду швыряет.
– Камешки?
– Да, камешки. И представь себе, не просто так, а с каким-то своим смыслом: каждый камешек долго в руках вертит, ощупывает, потом на свет смотрит.
– А настоящие?
– Что настоящие?
– Ну, настоящие. Те, что в коробочке.
– А! – покачал головой Алексей Михайлович. – Про настоящие, как я понимаю, тоже многим известно. Мне эта женщина говорила – кажется, Ирина Аркадьевна? – что коробочка все там же в тайнике и сохраняется, за кроватью. Хорош тайник! Как ты понимаешь, тайник – одна условность, раз всем известно.
– А она что же, себе хочет взять? Я имею в виду – на сохранение.
– Нет. Куда положил, там и лежат. Он ей сам коробочку показал, но не велел трогать. Я ей то же самое, что и ты, на сохранение взять предложил. Но она, как видно… Говорит: «Он сам мне показал и не велел трогать, и никому не велено – пусть лежит, где лежит».
– А если пропадет?
Алексей Михайлович, не отвечая, встал и стал спускаться ко мне, осторожно ставя ногу и руками, прежде чем взяться, проверяя крепкость каждого камня и ложбинки. Я протянул ему руку, но он как будто не заметил.
– Знаешь, – отряхиваясь и потирая руки, сказал он, – если честно, то хоть бы они и совсем пропали вместе с коробочкой. Хотя сейчас уже поздно.
– Что поздно?
– Пропадать ей поздно. Видишь ли, все имеет свой предел: если возможно хранить вечно, то надо иметь возможность и быть самому вечным. А это, как сам понимаешь…
– Так вы тоже полагаете…
– Ничего я не полагаю, – сердито перебил он меня. – И ты бы должен понимать…
Разговор наш все не мог выйти куда-то, в нужную сторону. Что это за сторона и куда должен был выйти наш разговор, я бы не мог определить словами, но чувствовал эту «сторону» и видел, что ее чувствует Алексей Михайлович.
– Ну что ж, – после продолжительного молчания, и как бы с трудом отрываясь от собственного внутреннего своего состояния, сказал он (словно пробудившись и зная, что уже нужно идти и что-то важное и необходимое делать, но еще не вполне пробудившись и еще не вполне ощущая себя готовым к действию), – тогда пойдем. И старик… Я думаю, что тебе не нужно к нему. Тем более… Тем более что и ему не нужно уже никого и… ничего.
– И вы так, вы извините, Алексей Михайлович, – сказал я с осторожностью, – так просто об этом говорите?
Он резко обернулся ко мне и несколько секунд, не отрываясь, смотрел в глаза:
– Просто, говоришь?! Совсем не просто, но… Не прими за холодное рассуждение, но помощь может быть действительной и действенной. Так вот: действительной она должна быть всегда, но действенной – только по обстоятельствам. Хорошо быть лицом действующим, но не всегда. Порой нужно уметь быть (и это трудное умение, уверяю тебя) лицом не мешающим, бездействующим, если хочешь. Я даже больше скажу: милосердно бездействующим. А делать лишь бы что – значит, делать для собственного оправдания, но не для него. Понимаешь ты – не для него. Он всю жизнь жил и прятался (оставим сейчас вопрос – прав, не прав), а мы его вдруг вытащим на свет только потому, что знаем, что на свету лучше, чем в потемках. А уверены в этом потому, что для нас на свету привычнее. Но это для нас. А ему привычнее другое. Так хоть напоследок не будем лишать его удовольствия – прости за слово – привычки. Ты понимаешь? Я хочу, чтобы ты понимал меня. Я, видишь ли… Я очень хочу, чтобы ты понимал меня, – он помолчал и добавил: – И не надо напоследок.
– Но разве известно, что напоследок?
– Ничего не известно, – уже не скрывая резкости, отвечал Алексей Михайлович, но потом, как бы взявши себя в руки, продолжал спокойнее: – Что ты меня пытаешь? Я ничего определенного, как ты должен понимать, знать не могу. Но в одном уверен точно: вся эта идея с хранением, она погибла. Если и не до конца еще погибла, то скоро умрет; уверен, днями. Видишь ли, это как фотопленка, которая засветилась. Она хороша была и годна при особом свете (как у фотографов – при красном), и она имела смысл (пусть только для него, пусть и ложный – не в этом сейчас дело), но вот вдруг ее засветили, то есть открыли дверь, зажгли свет и стали ее рассматривать – что в ней? и на что она годится? Но когда стали рассматривать, тогда она уже ни на что не годна стала. И теперь уже не годна, то есть погибла. И старик знает, что погибла. Но ведь не так-то просто поверить, что погибло то, что он почитал вечным. Я про то и толковал. Это и есть его «напоследок».
Алексей Михайлович выжидательно посмотрел на меня, но я ничего не отвечал. Я ждал, не отводя глаз. Он отвел первый.
– Ну да, – сказал он, глядя в сторону, – если ты так уж хочешь, могу сказать, что и о его жизни я думаю, примерно, так же. Но сам понимаешь: его года и то, что теперь все потеряно. Да еще и эта история (мне твоя знакомая подробно поведала, но я как-то, честно говоря, не очень и верю). Да – эта история еще… с дочерью. Но хоть бы и правда – это дела не меняет. Так что видишь, сколько сразу навалилось. Не всякий… Да что там – не всякий – никто не выдержит. Я это хорошо понимаю. Да. И по себе чувствую.
– А если все-таки она его дочь? Я думаю, что дочь.
– Не знаю, – тихо, скорее дернув, чем пожав плечами, разделяя звуки, выговорил он; и подняв глаза, и приблизив лицо почти вплотную ко мне, прошептал: – Я теперь ничего не знаю.