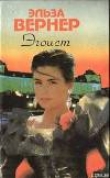Текст книги "Чистая сила"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
Однажды, размышляя о своей излишней подверженности сомнениям и беспокойству, я вывел – отчего спокоен мудрый. И понял, что все зависит от высоты (расположения) точки, с которой смотришь на события. Понятно, что любое событие, так или иначе нас касающееся, вызывает ответную реакцию. Реакцией этой могут быть сомнения и беспокойства, которые, в свою очередь, составлены из различных человеческих чувств: печали, гнева, страха, и прочее. И дело все в том, что человек не умеет соизмерять величину своих чувств со значимостью происшедшего, ведь и обида, невежливость соседа может представляться как мировая трагедия. Показательный пример – зубная боль. Так разболятся зубы, что, кажется, все бы отдал, чтобы перестали, что все остальные твои проблемы – пустяки разрешимые, только бы это разрешилось. А стихнет боль – словно и не было.
Но это пример относительный, показывающий только, как маленькое, но острое, в какой-то момент перекрывает собой все остальное.
Все же зависит от высоты точки, с которой смотришь. Представим себе, что человек сидит за столом, а площадь стола – как бы вся площадь его жизни, и предположим, что жизнь выражена на нем мозаикой, сложенной из камешков-событий, и человек может видеть всю свою жизнь разом: от рождения до смерти. Берет он событие, пусть и незначительное, но которое есть, а значит, и камешком в мозаику вставлено, – берет и рассматривает его в общей картине, и так далее. И пусть ощущение это от него острое и болезненное, пусть в эту самую минуту оно кажется главным – мудрый отдаст ему ровно столько чувств, сколько оно заслуживает относительно общего, и не больше. И все потому, что он смотрит на мозаику с высоты (скажем, собственного роста). Но если он посмотрит на событие, приблизив глаза к самому «камешку», то, кроме «камешка», ничего больше не увидит – ни связей, ни значимости, потому что при очень близком взгляде даже самая маленькая соринка может представляться необъятной стеной.
Конечно, это пример идеальный, и никто не может обозреть всей своей жизни сразу. Но мудрый, на то он и мудрый, так умеет строить свою жизнь, так складывать «камешки», чтобы не оставалось пустот.
Так я вывел спокойствие мудрого, и – так же я и отверг его. Может быть, и есть такие идеальные мудрецы, но холодом веет от этой мудрости, холодом горного ледника, который величествен, но бесполезен. Можно смотреть на жизнь, как на мозаику, можно еще выше поднимать точку, так высоко, что вся мозаика представится маленьким однородным камешком. Но если ты имеешь право смотреть на какое-то тебя касающееся событие, как на пустяк, не заслуживающий больших душевных усилий, то ты не имеешь права смотреть на него так, если оно хоть самым маленьким краешком касается другого. А ведь всякое событие, с тобой происходящее, хоть как-то касается другого.
…На больших часах главного корпуса, когда я подошел, показывало половину шестого – Мирик должен был быть еще на прогулке. Но когда на мой стук, после долгой паузы, голос Леночки ответил: «Войдите», и я вошел, первым, кого я увидел, был Мирик. Он сидел в кресле прямо напротив двери, и весь вид его говорил (так мне показалось сразу), что он не отдыхает, а ждет. В первую минуту, не ожидая его здесь увидеть, я растерялся: хотя цель моего прихода была невинна, но все-таки я шел к его жене, зная об его отсутствии и именно желая его отсутствия. Я так растерялся, что чуть было не сказал: «Вы здесь?» Я этого все-таки не проговорил, но, видимо, лицо мое пересказало несказанное, потому что улыбка его ответила: «Как видите».
Леночка сидела на кровати, и взгляд, который она подняла на меня, был виноватым. В руках она держала носовой платок и то расправляла его на коленях, то комкала опять.
– Чем могу?.. – проговорил Мирик, не меняя позы, не предложив мне сесть и холодным тоном. Я заметил, что Леночка при этом дернула на него глазами.
Я вздохнул и все не знал, с чего мне начать. Он терпеливо ждал.
– Я был у Ирины Аркадьевны, – сказал я наконец, – там нет Марты, и я хотел спросить у вас…
Я не докончил, а он, подождав, проговорил прежним тоном:
– Что же вы хотели спросить у нас?
– Я хотел спросить, – сказал я, еще чувствуя неловкость, но уже с раздражением, – где она?
То, что Мирик «играл роль», было очевидным, как и очевидно было то, что он намеренно отложил свою прогулку.
– А не кажется ли вам, молодой человек, что вы ошиблись адресом? – проговорил он, неотрывно глядя на меня, но как бы закрытым взглядом, то есть он смотрел, но глаза его были чем-то внутри защищены от моих.
– Мирик! – воскликнула Леночка и скомкала платок.
Все было ничего, и я допускал его такой тон в создавшейся ситуации, но «молодой человек» меня как-то сразу взвинтило:
– Нет, я не ошибся адресом, – сказал я отчетливо и всем своим видом показывая, что только сдерживаюсь. – Я пришел точно по адресу. И я хочу знать: где Марта?
Брови Мирика поползли вверх так мощно, что казалось – не будь им преграды, они ушли бы на затылок; он расцепил пальцы на животе и, помогая себе руками, завел ногу за ногу.
– А не кажется ли вам, – начал он и остановился; я ждал, но он не выговорил «молодой человек», а продолжил: – Не кажется ли вам, что это слишком, что это, в конце концов, невежливо. Вы видите, что мы не хотим… но продолжаете настаивать. Можем же мы иметь свой покой?!
– Вы можете иметь «свой покой», – сказал я, упирая на последнее. – Я понимаю, как он вам дорог. Но я вас хочу предупредить: если что-нибудь случится, то это для вас не пройдет даром.
– Что случится? – быстро сказала Леночка, и голос ее прозвучал почти плачуще.
– Что случится? – повторил за ней Мирик, выпрямляясь в кресле.
Откуда я мог знать, что случится? Но нужно же было что-то говорить, тем более что внутри у меня все распалилось, и, уже не думая о своем праве допрашивать и их праве не отвечать, я выкинул руку вперед, по направлению к Мирику, и почти выкрикнул:
– Преступление!
– Как! – сдавленно воскликнула Леночка, и платок с ее колен упал на пол.
Мирик поерзал своим большим телом в кресле, как бы намереваясь встать, но не встал, а как-то неудобно сел боком, подогнув одну ногу под себя и выставив другую; носок мягкой туфли высоко выгнулся, и на сгибе образовались толстые морщины.
– А мы здесь при чем? – неожиданно тонким голосом проговорил он и повернулся к жене: – Я тебе говорил!
– Что ты мне говорил?! – вскочив, сделав шаг к нему и помогая себе руками, заговорила она. – Что – я ее выгнать должна была? Так? Ты этого хотел?
– Замолчи! – угрожающе прошептал он, делая большие глаза.
– Что мне молчать! – она еще шагнула в его сторону и еще энергичнее замахала руками. – Ты мне всю жизнь не даешь сказать! Сам не наговорился и мне не даешь! Я и так все время молчу. Я у тебя как кукла. А мне надоело! Надоело жить по указке: туда не вмешивайся, сюда не вмешивайся…
– Я сказал! – еще более страшным шепотом и еще более округлив глаза, выговорил он; но, как видно, она потеряла сейчас способность правильно ориентироваться.
– А в чем Марта виновата! – кричала Леночка, совсем не обращая внимания на его слова. – Почему мне нужно было от нее «отстать»? Она, может, лучше… Да – лучше меня! Лучше, лучше!
Мирик не пытался уже ее унять, но, подняв плечи и опустив глаза, сидел неподвижно. Я же – совсем растерялся: и уйти не хватало решимости, и оставаться было невозможно.
Прокричав еще несколько раз «лучше, лучше», Леночка, как бы вдруг очнувшись, обернулась ко мне; на глазах ее были слезы.
– Вы любите Марту, да? – выговорила она с трудом, и осеклась, и, вздохнув глубоко, протянула ко мне руки. – Если вы любите ее, вы должны ее спасти.
Я сделал только движение, переминаясь с ноги на ногу, и ничего не ответил. Леночка опустила руки.
– Он был здесь, – сказала она тихо и горестно и повторила: – Он был здесь, – и, повернувшись к мужу, вдруг гордо вскинула голову. – Они говорили… Без меня. Я лишняя. Я в этой жизни лишняя! Они договорились. Они разделили несчастную женщину. Они поделили…
Она не договорила, потому что Мирик, несмотря на тучность, ловко вскочил (почти выскочил) с кресла и крепко ухватил ее руки у локтей.
– Я прошу тебя! – сильно тряхнув ее, но просительно заговорил он. – Успокойся. Что с тобой? Успокойся.
– Пусти-и, – протянула она, пытаясь вырваться и извиваясь всем телом. – Пусти-и-и…
Но он держал крепко, а она, видно уже почувствовав, что все закончилось, вырывалась все слабее. Мирик, коротко обернувшись, сделал мне знак рукой, значивший что-то вроде: «сейчас, сейчас», и потянул жену к креслу. Она уже не сопротивлялась, но из горла ее вдруг вырвался громкий всхлип, и когда он подвел ее, она не осела, а упала, обхвативши руками спинку и уткнувшись в нее лицом: плечи ее вздрагивали, а за первым всхлипом последовали другие, не столь глубокие, как первый, но частые. Мирик опять сделал мне жест рукой, отошел к столу, наполнил стакан водой, подал жене, но… она не отрывала лица, а еще крепче сжала руками спинку. Одну ногу она далеко вытянула, а домашняя босоножка на толстом низком каблуке сползла с пятки и только за самый краешек пальцев еще держалась на ноге; я почему-то никак не мог отвести от нее взгляда.
– Пойдемте, – мягким шепотом проговорил Мирик и взял мою руку повыше кисти. – Пойдемте, пусть она сама…
Не отпуская моей руки, он осторожно открыл дверь и вывел меня. Здесь он руку отпустил и коротко оглянулся по сторонам:
– Лучше не здесь. Давайте спустимся.
У входа он опять посмотрел по сторонам, на этот раз медленно и внимательно.
– Сюда, – сказал он и пошел впереди, по направлению к боковой аллее.
Мы дошли до первой скамейки, он указал на нее рукой, но я не сел; он тоже остался стоять.
– Вы извините, – начал он, потирая руки, словно от холода, и глядя чуть пониже моих глаз. – Женские слезы, сами понимаете – характер. И вы в такую минуту. Вообще-то она разумная, без этих бабьих… Но знаете, – он хлопнул ладонями и прижал их крепко, – иногда прорывается… прорываются… отрицательные накопления. А они – что поделаешь – всегда, хоть понемножку… И потом, у мужчин все на сердце, а у них – в слезы. Здесь уж физика – ничего не поделаешь. Я бы вот тоже поплакал бы… иногда, по надобности, но – не могу, не умею. А они…
Он не продолжил и сбился. Наверное, потому что я молчал. Я молчал и все это время имел равнодушный вид. Немного с намерением, конечно. Но кроме этого, от невольного своего присутствия при случившейся семейной сцене, я чувствовал тяжелую усталость: и говорить уже не хотелось, и слушалось лениво. Я бы и ушел, но, во-первых, мне нужно было узнать о Марте, во-вторых, слова Леночки, что «он приходил», не отпускали меня и беспокоили. В-третьих же, хотя это впрямую к делу не относилось, у меня еще было время до встречи с Коробкиным: достаточно много, если придется подождать, и совсем мало, чтобы начинать поиски Марты.
Молчание продолжалось недолго, но было тягостным: я смотрел в сторону и только боковым зрением видел его сцепленные замком пальцы, он – лицом ко мне, все так же глядя пониже моих глаз.
– Вы не слушаете? – сказал он тихо и, так как я не отвечал, продолжил уже громче: – Вот вы мне скажите, почему я… почему я должен за все отвечать? И с какой стати? Нет, вы правильно поймите, я не в том смысле, что боюсь или… но посудите сами, я сторонний человек, и потом, у меня жена. И почему я должен всем этим заниматься. Я, конечно, не осуждаю: вам нужно, вы и спрашиваете. Но если бы моя роль заключалась… только в ответах или в помощи (вы не думайте, я всегда готов помочь – в пределах разумного, конечно), а то… я просто не могу понять, что от меня хотят. Сначала Марта Эдуардовна попросилась… Что ж – мы с женой рады помочь. Тем более что Ирина Аркадьевна, хотя я и не разделяю ее воззрений, не отказалась. Пожалуйста, пусть живет, если ей так лучше. Но вы сами знаете, каково влезать в чужие дела, и я не побоюсь сказать – интимные. Я не знаю, может быть, Петр и не совсем достойный человек, но она сама… то есть разве здесь можно что-нибудь понять со стороны. Потом он начинает требовать и даже, простите, угрожать – в особенном, конечно, роде, но все-таки. А каково нам, а каково мне быть… и на чьей, посудите сами, стороне?
– Чего же вы боитесь? – сказал я.
– Ничего не боюсь, – он развел пальцы, коротко развел руками, и голос его зазвучал не то что обрадованно, но заметно энергичнее, – но поймите, каково мне, если я не хочу вмешиваться. А с меня спрашивают – я не имею в виду вас, – так спрашивают, как будто я центр всего. Ну хорошо: помогли женщине, устроили – что же еще? Так нет, он является, часа за три до вашего прихода, и заявляет мне, во-первых, что я вмешиваюсь не в свои дела (это я-то вмешиваюсь не в свои дела!), а во-вторых, намекает, как и вы…
– На что намекает?
– Я же говорю – как и вы. Я понимаю, что вы это больше для экспрессии. Он-то не для… Говорит, что может что-нибудь… то есть, если что-нибудь случится, то я буду виноват, и…
– Что случится? – повернулся я к нему.
– Я не знаю, – он пожал плечами и поднял на меня как будто виноватый взгляд. – Но вы сами назвали это слово. Ну, про преступление.
– Я сказал… – проговорил я, не зная как продолжить, – я сказал это так… и это касается не вас.
– Вот-вот, – подхватил он, – теперь говорите, что не касается. А если не касается, то для чего же вы слово назвали и он назвал. А теперь – не касается.
– Вы мне вот что скажите, – перебил я его. – Ваша жена сказала, что… что вы договорились и что поделили.
– Неправда, – быстро воскликнул он, вскинув голову, но тут, словно почувствовав, что такое восклицание не в его пользу, заговорил размеренно: – Вы же сами видели, в каком она состоянии. Да, я не хотел травмировать жену такими разговорами и принял один. Но вы не думайте, что я боялся, – нет, я отчетливо сказал ему, чтобы он не вмешивал меня. Хотя он говорил всякие странности: как будто я, смешно сказать, какую-то долю хочу получить через Марту… через Марту Эдуардовну. И потом, признаюсь вам – он мне угрожал, то есть физической расправой… А от него всего можно ожидать. Вы не думайте, что я боюсь, но и мое положение, посудите сами, двусмысленное. У него там какие-то свои дела, а я должен еще думать. Я ему сказал, что я сам спрошу Марту Эдуардовну, пусть она сама подтвердит, что мы просто так. Но он говорит (неудобно даже пересказывать, вы поймите), что если я только близко подойду к ней, то он сделает… Но, неважно. Это, может быть, и нехорошо, но я впервые за всю мою жизнь пожалел о моем добре, то есть, что сделал доброе. И он так говорил, как будто я юноша и имею виды. Леночка, она, конечно, все понимает, но все-таки, как ни говори…
– Да, – сказал я. – Но все это к моему делу не относится…
– Вот, – перебил он, уличительно ткнув в мою сторону пальцем, – и вы говорите, что «к вашему делу не относится». Я ей тоже говорил, что к нам не относится, а она…
– Кто – она?
– Лена, Елена Владимировна, моя жена. Я ей тоже объяснял, что невозможно во все чужие дела мешаться. Но разве женщина понимает! Ей бы везде хорошей быть. Я не против, но ведь есть предел. И потом, – существует все-таки главное в жизни, дело, которое нельзя подставлять под случайности. Если бы так подставляли, то не было бы ни «эйнштейнов», ни «платонов». Я не хочу сравнивать, а говорю только для примера, но если входить во всякие дрязги, то так можно все в них утопить.
– Что – все?
– Ну, – замялся Мирик, – вообще. А главное: кто поручится, что, желая сделать хорошее, не сделаешь хуже? Это только совершенному доступно. А кто может сказать о своем совершенстве как о факте?
– А вообще кто-нибудь мог бы так сказать? И если бы мог, то, значит, ему все можно, если он совершенный?
– Зачем же так прямо? – снисходительно улыбнулся Мирик. – Почему же «все можно»? Совершенный, на то он и совершенный, что знает: что можно, а чего нельзя. Умеет различать.
– Относительно чего он «различает»? Относительно какого идеала?
– Идеала?
– Да, идеала.
– При чем здесь идеал?
– А при том, что надо же с чем-то сверяться. А если ваш совершенный ни с чем не сверяется, то он сам по себе и будет действовать: решит, что уже все, что дальше некуда, что он на самой вершине, – и станет действовать по своему усмотрению.
– На какой вершине? – Мирик поджал губы и поднял плечи.
– Да на любой. Хоть бы и семью взять: решит муж, что он умней жены, ребенка и тещи, а значит – он уже на вершине. А значит – может диктовать… потому что ему с вершины виднее. А они должны слушаться, потому что он их идеал и есть.
– Но вы, моло… вы не о том совсем.
– Почему же не о том, как раз о том. Только дело тут не в совершенстве, а в том, что у мужа власть, а они зависимы. Но если жена, предположим, научный работник со степенью, а муж простой инженер, и у нее зарплата выше и труды печатные, то будь он хоть семи пядей во лбу – никто за ним вершины не признает.
– Вот, во-о-от, – протянул Мирик печально и вздохнул: – И вы туда же, на материальное сводите.
– Не на материальное, а на социальное.
– Какая разница, – он покачал головой. – В совершенствовании нет социального – это вы должны понять. Духовное, оно вне, за чертой, если хотите. Оно…
Но я не дал ему договорить:
– Нет, вы мне про идеал объясните. Есть у совершенного идеал? А если нет, то как же он совершенствуется, к чему идет?
– Идеал – самосовершенствование! Сам процесс. Это, если хотите, духовный подвиг.
– А для чего?
– Что «для чего»?
– Во имя чего подвиг? Для самого себя? Кому от этого подвига лучше? Или кому-то теплее? Или как?
Он опять вздохнул и теперь посмотрел на меня уже не снисходительно, а соболезнующе:
– Вы любите простые примеры. Что ж – давайте с примерами. Любите альпинизм?
Я не ответил.
– Ну, не важно, – махнул он рукой. – Но все-таки признаете, что люди лезут на самые недоступные вершины не от одной глупости или от того, что силы девать некуда? Казалось бы: кому от этого лучше, что человек залезает на вершину – залез и залез. Но в том-то и дело, что есть великий смысл: если один покорил самую высокую вершину, то он уже не сам по себе, он уже со всем – не побоюсь сказать – человечеством, как бы его представитель. А подвиг? Да, пока он лезет, это еще для самого себя. Но когда достиг, это уже для всех. И заметьте, он может и не долезть, сорваться, убиться. Значит, есть риск. А если есть риск, то есть и право.
– А если он не сам залез, – не унимался я. – Если его тайно, чтоб никто не видел, туда на вертолете подняли? А при свете дня он будет говорить, что сам, и что все должны сознавать, и так далее.
– Я не знаю как, если на вертолете, – тихо проговорил Мирик, глядя в сторону. – Зачем вы так?
Беседа наша повернулась неожиданной стороной, и в конце концов, мне сделалось грустно, да и Мирику, я видел это, тоже было не по себе: не так, как вначале, а по-другому. И мне вдруг пришло странное желание: спросить о его жизни. Спросить о том, что мучает его, чем он живет, почему у него нет детей и хотел ли бы он детей, сказать ему, что это нехорошо, что его называют «Мирик» и что я так не буду его называть; и еще – что ему не нужно жить в придуманном мире, что он лучше, чем думают о нем, и что Леночка совсем не понимает его, и что ей слишком хорошо живется, и что, когда слишком хорошо живется – это никому не на пользу. Мне хотелось спросить его не для того, чтобы самому узнать, а для того, чтобы ему высказаться.
Но я ничего из этого спрашивать, конечно, не стал, а спросил о другом, что нужно было мне:
– А вы не знаете, где теперь Марта?
– Нет, не знаю. Наверное, там, у Петра, он здесь недалеко снимает.
– Скажите, Мирослав…
Он удивленно глянул на меня, но все-таки подсказал:
– Георгиевич.
– Скажите, Мирослав Георгиевич, а тогда, в первый раз, когда Марта ушла, он вам что говорил – тоже угрожал?
– Нет, тогда еще не угрожал. Он тогда еще пытался объяснить, но… – он замолчал, как бы что-то припоминая. – Но тогда он несколько раз повторил, что Марта Эдуардовна… что она как бы не в себе и что я (он упирал на это) как врач должен был это заметить.
– Как – «не в себе»?! – воскликнул я.
– Ну, что она не совсем нормальная, что у нее болезнь и она может всякое говорить. Он упирал на то, что она может немыслимое придумывать, и даже криминальное.
– И все?
– Кажется, все.
– А вы?
– Что?
– Ничего не заметили… как врач?
– Как врач – ничего. Он еще сказал, что у нее мания, что это только временами, но что, когда бывает, она что хочешь может говорить, и с тайнами, и всякое.
– С тайнами?
– С тайнами. Так он сказал. Но все это чушь. Не знаю, для чего ему нужно (да и знать не хочу), но все это чушь, и она вполне здорова. Только нервная. Но это уже – характер.
– А от чего у нее… Он говорил?
– Да. Что-то о трудном детстве. Еще, что мать ее была больна. Говорил о каком-то потрясении в детстве. Но я думаю, он все это выдумал… на ходу.
– Он вспоминал при вас сегодня о бриллиантах? – вдруг спросил я.
– О бриллиантах? – Мирик не был удивлен, скорее, озабочен. – Нет, не говорил.
Я ждал, что он спросит: что это за бриллианты? и почему о них должен был упоминать Ванокин? Но он не спросил. Он стоял, глядел в сторону, перетирая в пальцах сорванный листок; листок скатался в трубочку и из ярко-зеленого сделался темным, почти черным.
– Спасибо вам, – сказал я как можно теплее. – Вы не думайте, я не хотел… Но мне нужно идти.
– Ничего, – сказал он коротко и наклонил голову в мою сторону.
Он уже далеко ушел по аллее, а я все стоял на прежнем месте и смотрел ему вслед. В какую-то минуту мне хотелось окликнуть его. Но я не окликнул. Я не знал, что скажу ему. Но не в этом только дело: я представил, как он остановится, повернет ко мне лицо и как взгляд его, не мгновенно, но медленно, пересечет разделяющее нас пространство и осторожно, еще более замедлившись у моих глаз, тронет зрачки.
И я не окликнул.